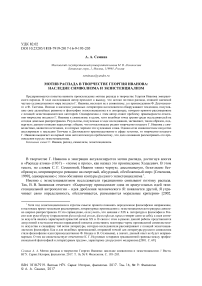Мотив распада в творчестве Георгия Иванова: наследие символизма и экзистенциализм
Автор: Семина Анна Андреевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Предпринимается попытка выявить происхождение мотива распада в творчестве Георгия Иванова эмигрантского периода. В ходе исследования автор приходит к выводу, что истоки поэтики распада, ставшей значимой частью художественного мира позднего Г. Иванова, восходят не к символизму, а к произведениям Ф. Достоевского и Ф. Тютчева. Именно в наследии указанных литераторов исследователи обнаруживают тенденции, получившие свое дальнейшее развитие в философии экзистенциализма и в литературе, которую принято рассматривать с позиций экзистенциалистских категорий. Одновременно с этим автор ставит проблему правомерности отнесения творчества позднего Г. Иванова к символизму в целом, хотя подобная точка зрения среди исследователей на сегодня довольно распространена. Результаты, полученные в ходе исследования, заставляют, таким образом, подвергнуть данную позицию пересмотру: общим, что по-настоящему роднит творчество позднего Г. Иванова с символистами, являются источники, из которых черпали эти художники слова. Однако если символистское искусство апеллировало к наследию Тютчева и Достоевского преимущественно в сфере эстетики, то творчество позднего Г. Иванова выдвигает на первый план онтологическую проблематику, что дало основания рассматривать его произведения в русле экзистенциализма.
Г. иванов, распад, символизм, экзистенциализм
Короткий адрес: https://sciup.org/147219851
IDR: 147219851 | УДК: 82.02 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-9-193-205
Текст научной статьи Мотив распада в творчестве Георгия Иванова: наследие символизма и экзистенциализм
В творчестве Г. Иванова в эмиграции актуализируется мотив распада, достигнув апогея в «Распаде атома» (1937) – «поэме в прозе», как назвал это произведение Ходасевич. В этом тексте, по словам С. Г. Семеновой, Иванов «явил черную, диссонансную, безоглядно безобразную, непримиримую реакцию на смертный, абсурдный, обезбоженный мир» [Семенова, 1999], одновременно с этим обозначив контуры русского экзистенциализма 1.
Именно с экзистенциализмом исследователи традиционно связывают поэтику распада. Так, В. В. Заманская отмечает: «Кьеркегору принадлежит одна из краеугольных идей экзистенциальной антропологии – идея дробления человеческого Я: появляется другой, Я утрачивает свою определенность, обезличивается, размываются моральные критерии» [2002.
С. 45]. В то же время представляется весьма справедливым замечание о том, что мотив распада во многом был характерен и для символистской поэтики, к которой Г. Иванов склонялся в ранний период творчества. Показательны, например, следующие наблюдения о романе А. Белого «Петербург» в рецепции Н. Бердяева: «В своей интерпретации романа Бердяев… сосредоточился на уяснении сфер проявления “больной гениальности” автора, которая гальванизирована “ощущением наступления новой космической эпохи”. Болезненное мировосприятие, доводящее до предела символистское двоемирие, выражается в “Петербурге” запечатлением всеобъемлющего распада – в универсуме, социальной действительности, человеческой душе, в общем интеллектуальном пространстве…» 2. Отличительной чертой символистского сознания на рубеже XIX–XX вв. явилось ощущение кризиса во всех наиболее значимых сферах деятельности человеческого разума и духа. По словам Вяч. Иванова, «общий сдвиг внешних (политических, общественных, хозяйственных) отношений ответствует еще более глубокому, быть может, и ранее начавшемуся сдвигу отношений внутреннего порядка» [1979. С. 45]. В статье 1910 г. «Кризис сознания и Генрик Ибсен» А. Белый определил переживаемый кризис как «дуализм между сознанием и чувством, созерцанием и волей, личностью и обществом, наукой и религией, нравственностью и красотой» [Белый, 1910]. Помимо «кризиса сознания», современники символизма отмечали также наступивший на рубеже веков «кризис искусства». В статье А. Блока «Безвременье» данный кризис олицетворен в образе «необъятной серой паучихи скуки» [1906].
В связи с изложенными соображениями невольно возникает соблазн «продлить» символистский период Г. Иванова, включив в него и творчество поэта в эмиграции, что на первый взгляд выглядит более чем оправданным в свете размышлений о «латентном» существовании символизма после его объявленного заката [Клинг, 1999]. Несмотря на внешнюю простоту и закономерность подобных предположений, отнесение поэтики позднего Г. Иванова к символизму не представляется бесспорным. В этом отношении мотив распада становится одной из черт, демонстрирующих противоречивость данной гипотезы наиболее наглядно. В настоящей статье будут рассмотрены причины, по которым символистская «родословная» не может стать универсальным объяснением не только мотива распада, ставшего одной из магистральных метафор эмигрантского творчества Г. Иванова, но и его поздней поэтики в целом.
Как и творчество позднего Г. Иванова, литература русского символизма с самого начала оказалась тесно связана с философией: тогда, на рубеже веков, осуществился «причудливый синтез образа мира и мысли о мире, поданных в единой поэтике запроса о последнем смысле исторического дня» [Исупов, 2001. С. 73]. По мнению А. Е. Рыловой, «именно кризисность сознания символистов и осмысления ими онтологического одиночества человека легли в основу экзистенциальной «триады» Г. Иванова: “Мировое торжество” – “Мировое уродство” – “Мировое безобразие”» [Рылова, 2006. С. 7]. В то же время, сопоставляя стихотворение Ш. Бодлера «Путешествие на остров Цитеру» с созвучным образом поэтики Г. Иванова, исследователь отмечает, насколько ивановский экзистенциализм перерастает свое на первый взгляд символистское происхождение: «Г. Иванов идет дальше Бодлера: французский символист изображает хотя и мучительную, но физическую смерть, а Г. Иванова страшит не сама смерть, а “сияние небытия”, которым оборачивается “синеватое сиянье” поэтического мира Ватто» [Там же. С. 13].
Сложность в том, что русская символистская мысль и русская экзистенциальная философия оказались во многом созвучными, поскольку, как отмечает Л. А. Мальцев, «славянская модель экзистенциализма, в отличие от французской, определяется религиозно-теистической и катастрофическо-эсхатологической доминантой, острой постановкой вопроса о личном самосознании… трагической философией личности, констатацией ее конфликта с властью необходимости» [2011. С. 93]. И все же различия между ними очевидны: если символизм можно считать «предчувствием» катастрофы, смутным, неясным, иногда даже оптимистическим, то экзистенциализм явился болезненной реакцией на ее осуществление: «Войны и экономические катаклизмы, фантастические научные открытия и экологические катастрофы за- хлестнули современную цивилизацию и поставили человека перед проблемой сохранения себя как биологического вида. Казалось бы, наступило время, когда духовные потребности, эстетические запросы и гуманистические идеалы должны были отступить на второй план, но, напротив, именно они становятся наиболее насущными…» [Николаевская, 1999. С. 3].
«Расколотость» художественного мира символистов была имманентной природы, что отмечал еще В. Гофман, обобщая смысл символистских «манифестов» В. Брюсова: «Цель искусства – раскрыть душу художника, единственную и неповторимую, выразить ее сокровенную сущность, ее содержание, которое изменяется с каждым мгновением и не зависит от внешнего объективного мира» [Гофман, 1937. С. 56]. В противоположность подобному представлению мотив «распада» в творчестве Г. Иванова явился реакцией прежде всего на болезненные изломы времени, которые поэт осознавал как личную трагедию и глобальную онтологическую катастрофу. То, что символисты только смутно предчувствовали и пытались отразить в своих эстетических прозрениях, в эмиграции для Г. Иванова воплотилось в повседневной реальности, приняв очертания сбывшегося кошмара. Обращение к поэтике «распада» стало для него проявлением экзистенциального мироощущения личности, очутившейся по воле истории в условиях неизбывного одиночества, один на один с «бытием-к-смерти». Прежде чем ответить на вопрос о происхождении мотива распада в творчестве Г. Иванова, остановимся на тех особенностях символизма, которые поэтике Г. Иванова не присущи и потому являются основанием для того, чтобы провести границу между этими двумя явлениями.
В первую очередь необходимо отметить, что в отличие от экзистенциализма символизм – течение мистическое 3. Неслучайно Д. С. Мережковский определил три «столпа» нового искусства так: «мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности» [1893]. Мистика являлась неотъемлемой составляющей символизма: «Романтической мечтательности, романтическому томлению мы противопоставляем волевой акт мистического самоутверждения…» [Иванов Вяч., 1974а. С. 87]. Мистическим было и восприятие некоторыми символистами революции: «Россия инсценирует мистерию, где Советы – участники священного действа» [Андрей Белый и Иванов-Разумник, 1998. С. 107]. В отличие от символистов Г. Иванову подобное представление о революции никогда не было присуще: «...Как я завидовал вам, обыватели, / Обыкновенные люди простые: / Богоискатели, бомбометатели, / В этом дворце, в Чухломе ль, в каземате ли / Снились вам, в сущности, сны золотые...» [Иванов, 1994. Т. 1. С. 413] 4.
Также важно оговорить, что символистское художественное сознание мифологично . Как отмечал Вяч. Иванов, одним из базовых элементов символистской эстетики является миф: «Реалистический символизм идет путем символа к мифу; миф – уже содержится в символе, он имманентен ему; созерцание символа раскрывает в символе миф» [1974б. С. 554]. В эмиграции, особенно в «Распаде атома», Г. Иванов, напротив, идет по пути демифологизации и депоэтизации, сначала развенчивая мифы о воспитательной, облагораживающей роли культуры («Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?» (т. 2, с. 32)) и ставя под сомнение само существование далекой обожаемой Родины («А, может быть, России вовсе нет…» (т. 1, с. 299)); затем совершает творческое «самоубийство», восставая против изысканности собственной прежней поэтики («Можно о розах, можно о пне. / Можно о том, что неможется мне…» (т. 1, с. 560)).
Кроме того, принципиальное различие символистского и экзистенциального сознаний заключается в том, что символистское сознание – это сознание утопическое 5. Подробному рассмотрению данного аспекта посвящена глава диссертации Г. Д. Суслопаровой, где рассматривается «ряд эстетических положений символизма в утопическом ключе: их реализация должна была привести общество к идеальному состоянию, открыть путь к преображению внутреннего “я”, вывести человечество на новую ступень эволюционного развития» [2012. С. 9]. Сама философская концепция русского символизма, таким образом, предстает концепцией надежды на обновление, «обожение» человека, веры в возможность перехода на новую ступень развития человечества. Между тем одной из основополагающих категорий философии экзистенциализма выступает отчаяние 6, ставшее едва ли не ведущим лейтмотивом поэзии Г. Иванова в эмиграции («…Есть от чего прийти в отчаянье, / И мы в отчаянье пришли. / – В отчаянье, в приют последний…» (т. 1, с. 578)).
Ницшеанский «аморализм» символистов и «нигилизм» позднего Г. Иванова, неоднократно отмечаемый исследователями, также необходимо разграничить. Л. А. Колобаева характеризует символистов следующим образом: «Стремясь к абсолютной независимости искусства… символисты… бравировали своим нравственным релятивизмом 7, подчеркнуто отделяя “художественное” от “человеческого”, уверенные в том, что “художник” всегда “не человек”…» [2000. С. 15–16]. Переосмыслению подверглась не только этика, но и эстетика. Так, в статье «Поэзия ужаса» К. Бальмонт отмечает: «Гармония сфер и поэзия ужаса – это два полюса Красоты…» [2010. С. 280] 8.
«Нигилизм» позднего Г. Иванова совершенно иной природы. Это уже не рационально продуманный прием «расширения границ поэтического» [Колобаева, 2000. С. 15], а непроизвольно вырвавшийся крик ужаса у надломленного испытаниями времени человека, чему закономерно сопутствует и соответствующая смена угла зрения. Для Г. Иванова подобный релятивизм ненормален: «бессмыслица» языка, «бессмыслица» искусства для поэта сигнализируют о глобальной онтологической катастрофе, низвержении основополагающих нравственных ценностей, стирании границ между добром и злом:
Я слышу – история и человечество,
Я слышу – изгнание или отечество.
Я в книгах читаю – добро, лицемерие,
Надежда, отчаянье, вера, неверие…
(т. 1, с. 262)
Для лирического героя Г. Иванова в эмиграции «все слова одинаково жалки и страшны» (т. 2, с. 7), поэтому происходит «уравнивание» противоположных начал: «добро» и «лицемерие», «вера» и «неверие» становятся контекстными синонимами, взаимно обессмысливая друг друга в ситуации перечисления. Личность героя также претерпевает распад:
…И вспоминаю, холодея,
Что я уже не человек,
А судорога идиота,
Природой созданная зря, –
«Урра!» из пасти патриота,
«Долой!» из глотки бунтаря
(т. 1, с. 386).
В «Распаде атома» подобный нигилизм достигнет апогея. Вместе с тем данное отрицание всех сакральных смыслов «пушкинской России» было одновременно попыткой преодоления кризиса, поиском выхода из глубин экзистенциального отчаяния. Так, Е. Д. Гальцова говорит о религиозности Г. Иванова в духе апофатики: «…это скорее ближе к тому, над чем бьется
Жорж Батай в 30-е годы и что увенчается написанием “Внутреннего опыта”: достижение просветления через духовное проживание безобразного – переживания казни, переживания Ничто, переживание отсутствия Бога» [Гальцова, 1999. С. 110].
Пожалуй, ближе всех к поэтике распада в силу особенностей личности действительно подошел Андрей Белый: «…на мне росли мины и маски; святочная личина открылася в переживаниях мне, пятилетнему; я надел ее; и стал личностью …» [1928]. Обращаясь к поэтике А. Белого, Л. А. Колобаева говорит о том же: «Символ разрыва – сквозной в творчестве Белого... Этот символ реализуется в его поэтике каскадом приемов – прерывистости художественного времени и форм повествования в целом, в обрывах диалога, в разорванной фразе, с осколками слов и даже звуков» [Колобаева, 2000. С. 257–258].
В то же время нельзя не признать, что в «Москве» и «Петербурге» Белый, как и у позднего Г. Иванова, собственно символизм уже перерастает: неслучайно Н. Бердяев связал поэтику «Петербурга» с тенденциями авангарда: «…у А. Белого срываются цельные покровы мировой плоти, и для него нет уже цельных органических образов. Кубистический метод распластования всякого органического бытия применяет он к литературе» [Бердяев, 1916].
Таким образом, говорить о преемственности Г. Иванова по отношению к символизму в связи с мотивом распада было бы не вполне правомерно: наиболее близкий к нему в этом плане А. Белый обращается к данному мотиву в тех произведениях, которые уже нельзя назвать символистскими в строгом смысле. Общее, что по-настоящему роднит Г. Иванова, А. Белого и некоторые близкие импульсы русского символизма, – «достоевская» линия русской литературы: «В русской литературе А. Белый – прямой продолжатель Гоголя и Достоевского» [Там же].
Мотив распада у Г. Иванова, по наблюдению Л. А. Мальцева, также берет начало в творчестве Достоевского 9: «На Г. Иванова и Гомбровича оказал влияние Достоевский как автор повести “Записки из подполья”, традиционно считающейся “прологом” экзистенциализма ХХ века» [Мальцев, 2010. С. 71]. То, что мотив «распада» присущ именно поэтике Достоевского, отмечала также Т. Е. Николаевская: «Одной из центральных проблем в творчестве Достоевского является внутренний конфликт личности, отражающий сложную эмоциональную структуру человеческой природы – “расколотость” внутреннего мира; именно эта проблема является определяющей идейно-тематическую направленность произведений европейских писателей-экзистенциалистов ХХ века» [1999. С. 12].
На свое творческое «родство» с Достоевским косвенно указывал и сам Г. Иванов. Так, в стихотворении «Несколько поэтов. Достоевский…» Достоевский назван в ряду наиболее ценных достижений русской культуры, фигурирующих в сознании лирического героя как символы ушедшей в небытие дореволюционной России:
Несколько поэтов. Достоевский.
Несколько царей. Орел двуглавый.
И – державная дорога – Невский...
Что нам делать с этой бывшей Славой?.. 10
В традициях Достоевского описывает лирический герой Г. Иванова и «вечный» (по-види-мому, смертный) сон человека: «отвратительный вечный покой» для него отвратителен в первую очередь из-за скуки. В этом он мало отличается от Свидригайлова, для которого вечность – не более чем баня с пауками:
…Вечный сон: забор, на нем слова.
Любопытно – поглядим-ка.
Заглянул. А там трава, дрова.
Вьется та же скука-невидимка
(т. 1, с. 446).
Лирический герой «Распада атома» также во многом близок герою «Записок из подполья». Показателен, например, следующий фрагмент: «Содрогание, которое вызывает жалость. Содрогание, переходящее обязательно в чувство мести. За глухого ребенка, за бессмысленную жизнь, за унижения, за дырявые подошвы. Отомстить благополучному миру – повод безразличен…» (т. 2, с. 20).
Еще один «источник» мотива распада у Г. Иванова – поэзия Ф. Тютчева. Как отмечает В. В. Заманская, «художественный опыт Тютчева был первой проекцией экзистенциального сознания в русской литературе» [Заманская, 2002. С. 48]. Одним из первых проблему «экзи-стенциальности» сознания Ф. Тютчева поставил в своей диссертации Ф. Корнийо [Cornillot, 1974]. Об этом же писал и В. С. Баевский: «Тютчев воспринимал как катастрофу не только крушение вселенной (а он жил и писал под давлением эсхатологических настроений), но и ее бытие, не только человеческую смерть, но и жизнь… Он [Человек. – А. С. ] так одинок в жизни, как будет одинок в своем гробу» 11.
Экзистенциальный вектор поэзии Тютчева сегодня уже не вызывает сомнений. Показательно, к примеру, следующее стихотворение:
Смотри, как на речном просторе,
По склону вновь оживших вод,
Во всеобъемлющее море
За льдиной льдина вслед плывет.
Все вместе – малые, большие,
Утратив прежний образ свой,
Все – безразличны, как стихия, –
Сольются с бездной роковой!..
О, нашей мысли обольщенье,
Ты, человеческое Я,
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?
[Тютчев, 2009. С. 207].
По словам В. С. Баевского, Тютчев «писал с ощущением, что человечество висит над пропастью, которая каждое мгновенье готова его поглотить. Пропасть, бездна – его излюбленные образы» 12. Неслучайно, наряду с А. Фетом, Тютчев стал наиболее значимым поэтом для русских литераторов-модернистов. Образ бездны можно обнаружить в прозе Л. Андреева, поэзии Ф. Сологуба, Д. Мережковского, А. Блока, А. Белого…
Представляется интересным рассмотреть те пути, по которым вслед за Тютчевым идет Г. Иванов. Значимость Тютчева для «первого поэта эмиграции» очевидна – достаточного того, что имя Тютчева фигурирует в «Посмертном дневнике» – экзистенциальной «исповеди» [Заманская, 2002. С. 270] героя-поэта, аккумулирующей все самое ценное для него и открывающейся обращением к такому значимому для Г. Иванова Пушкину. «Случайных» упоминаний в данном, предсмертном цикле быть не может, и потому присутствие Тютчева здесь особенно примечательно:
А что такое вдохновенье?
– Так… Неожиданно, слегка
Сияющее дуновенье
Божественного ветерка.
Над кипарисом в сонном парке
Взмахнет крылами Азраил –
И Тютчев пишет без помарки:
«Оратор римский говорил…
(т. 1, с. 576).
В приведенном контексте Тютчев выступает фигурой, с которой Г. Иванов ощущает родство по линии природы вдохновения. Последняя строка является точной цитатой из стихотворения Тютчева «Цицерон»: встраивая в собственный текст фрагмент стихотворения Тютчева, Г. Иванов тем самым указывает на данное стихотворение как на образец того, что может быть создано благодаря подлинному поэтическому вдохновению.
Помимо художественного опыта Достоевского, в стремлении к поэтизации распада Г. Иванов во многом выступает также «наследником» Тютчева. Как и у Тютчева, мотив распада у Г. Иванова представлен в градации: от умиляющего героя «умирания» осеннего пейзажа до рефлексии о тотальном уничтожении мира. Однако у Тютчева увядание природы показано в более светлых тонах – в виде ее «кроткой улыбки» [Тютчев, 2009. С. 165]:
…Как увядающее мило!
Какая прелесть в нем для нас,
Когда, что так цвело и жило,
Теперь, так немощно и хило,
В последний улыбнется раз!
[Там же. С. 206].
Отталкиваясь от опыта Тютчева, в изображении увядания Г. Иванов проходит своеобразную эволюцию. В раннем сборнике стихов «Вереск» (1916) данный мотив еще понимается буквально – как тление опавших листьев, однако уже здесь лирический герой Иванова соотносит данный процесс с быстротечностью собственной жизни:
…И ветер с севера, свища,
Летает в парке дик и злостен,
Срывая золото с плаща,
Тобою вышитого, осень.
Взволнован тлением, стою
И, словно музыку глухую,
Я душу смертную мою
Как перед смертным часом – чую (т. 1, с. 169).
В эмиграции тление понимается героем Г. Иванова более глобально – теперь это распад целого мира, как в стихотворении 1930 г.: «Увяданьем еле тронут / Мир печальный и прекрасный…» (т. 1, с. 270).
Кульминацией рефлексии о распаде в творчестве обоих поэтов становится прозрение лирических героев о предельном уничтожении – и самих героев, и – шире – всего мироздания. Лирический герой Тютчева начинает с желания своего символического «растворения» во всем сущем во сне: «Дай вкусить уничтоженья, / С миром дремлющим смешай!» [Тютчев, 2009. С. 189]. Обращается герой к «сумраку», что несколько сглаживает на первый взгляд вопиющий драматизм просьбы. Совсем иначе обстоит дело в созвучном стихотворении Г. Иванова «Все на свете пропадает даром…», где лирический герой обращается к Богу. Его требование уже отличается наличием надрывных, подлинно трагических обертонов:
Все на свете пропадает даром,
Что же Ты робеешь? Не робей!
Размозжи его одним ударом, На осколки звездные разбей!
Отрави его горчичным газом
Или бомбами испепели -
Что угодно - только кончи разом
С мукою и музыкой земли! (т. 1, с. 428).
Трагизм стихотворения Г. Иванова порожден опытом человека второй половины ХХ столетия: бомбы, иприт - ничего этого не было во времена Тютчева, поэтому его обращение к экзистенциалистской проблематике более отвлеченно и мистично. И более оптимистично, если данное слово может быть здесь уместно. Даже в стихотворении «Последний катаклизм», где герой Тютчева предвещает разрушение мироздания уже «наяву» («Когда пробьет последний час природы, / Состав частей разрушится земных.» [Тютчев, 2009. С. 150]), для него в происходящем остается очевидным и неизменным присутствие Бога («И божий лик изобразится в них!» [Там же]). Лирический герой Г. Иванова, в полном соответствии с экзистенциализмом ХХ в., ощущает богооставленность, свое вселенское одиночество в мире, в который он «заброшен»:
.Припадок атомической истерики
Все распылит в сияньи синевы.
Потом над морем ласково протянется
Прозрачный, всепрощающий дымок...
И Тот, кто мог помочь и не помог,
В предвечном одиночестве останется (т. 1, с. 427).
Общность поэтики Ф. Тютчева и Г. Иванова проступает и на уровне формы: как будто идея «распада» проникает в саму структуру стихотворения. Говоря о Тютчеве, В. С. Баевский отмечает: «Он создавал. вдохновенные импровизации в жанрах миниатюры и фрагмента <.> Словно бы выхвачен и запечатлен в слове отрывок переживаний из непрерывного их потока <.> Его стихотворения то и дело начинаются так, словно бы это не начало, а продолжение речи или спора.» 13. Та же фрагментарность свойственна и поэзии Г. Иванова, чьи стихотворения столь же часто представляют собой некий вырванный из контекста разговор или продолжение мысли. Начальными элементами подобных стихотворений могут выступать частицы «только», «это», «ну», «не», союзы «и», «а» и т. д. (ср.: «А еще недавно было все, что надо.» (т. 1, с. 434); «Это только бессмысленный рай.» (т. 1, с. 514); «Ну мало ли что бывает?..» (т. 1, с. 430) и «Не говори: меня он, как и прежде, любит.» [Тютчев, 2009. С. 82]; «И опять звезда ныряет.» [Там же. С. 73]; «Нет, моего к тебе пристрастья.» [Там же. С. 187]). Указание на «происхождение» подобной поэтической формы в творчестве Г. Иванова также присутствует: неслучайно приведенное выше стихотворение, в котором упоминается Тютчев, начинается в характерной «тютчевской» манере: «А что такое вдохновенье?». Кроме того, оба поэта активно используют графический «эквивалент текста» [Тынянов, 2007. С. 24] и другие признаки, присущие жанру отрывка.
Фрагментарность лирики поэтов, свойственное им стремление к «распаду» стихотворения достигает апогея в мотиве молчания, одинаково значимом и для Ф. Тютчева, и для Г. Иванова. Как отмечает В. С. Баевский, говоря о Тютчеве, «пределом. к которому устремлялось его творчество, был нулевой текст: Молчи, скрывайся и таи И чувства, и мечты свои.» 14. Приведенному исследователем стихотворению Тютчева вторит и Г. Иванов:
…Быть может, высшая надменность: То развлекаться, то скучать,
Сквозь пальцы видеть современность, О самом главном – промолчать
(т. 1, с. 349).
Таким образом, мотив распада в творчестве Г. Иванова восходит не к символизму, а к тенденциям, впервые представленным в русской литературе произведениями Ф. Достоевского и Ф. Тютчева. По-видимому, из этих же источников черпал и А. Белый 15, чье наследие с экзистенциализмом все же соотносить нельзя. Хотя сегодня уже не вызывает сомнений, что «символистский» период Г. Иванова действительно имел место, этот период относится к раннему, «доэкзистенциалистскому» творчеству поэта. Отправной точкой для актуализации мотива распада у Г. Иванова в эмиграции явилась в первую очередь целая цепь катастроф ХХ в., связавшая воедино такие события, как Первая мировая война, применение ядовитого газа под Ипром, революция 1917 г., приход к власти большевиков, разработка и создание оружия массового поражения, Вторая мировая война… В этих условиях мрачные пророчества Тютчева и Достоевского зазвучали как никогда современно, получив в творчестве Г. Иванова дальнейшее развитие. Хотя символистское художественное сознание, в свою очередь, также обращалось к этим источникам, в свете иного исторического «ландшафта» его восприятие наследия Достоевского и Тютчева оказалось принципиально иным и затронуло не столько онтологическую проблематику символистских литературных произведений, сколько их эстетическую составляющую. Как показывают наблюдения исследователей, в эмиграции творчество Г. Иванова перерастает эстетику, пройдя сложную эволюцию 16 от поэзии «божьей милостью» до голого документа заброшенного в мир и растоптанного историей человека.
Список литературы Мотив распада в творчестве Георгия Иванова: наследие символизма и экзистенциализм
- Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка/Публ., вступ. ст. А. В. Лаврова, Дж. Мальм-стада. СПб.: Antheneum. Феникс, 1998. 733 с.
- Баевский В. С. Тютчев: поэзия экзистенциальных переживаний. URL: http://www. smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/pisateli/baevskiy/proizv/tytchev.htm (дата обращения 20.03.2017).
- Бальмонт К. Д. Поэзия ужаса//Бальмонт К. Д. Собр. соч.: В 7 т. М.: Книжный Клуб Книговек, 2010. Т. 6. С. 279-288.
- Белый А. Будущее искусство//Белый А. Собрание сочинений. Символизм. Книга статей. М.: Культурная революция; Республика, 2010. С. 328-331.
- Белый А. Кризис сознания и Генрик Ибсен. 1910.//Lib.ru. URL: http://az.lib.ru/b/belyj_a/text_11_1910_arabeski.shtml (дата обращения 06.05.2017).
- Белый А. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития. 1928//Русская виртуальная библиотека. URL: http://rvb.ru/belyi/01text/pocemu.htm (дата обращения 26.02.2017).
- Бердяев Н. А. Астральный роман (Размышление по поводу романа А. Белого «Петербург»). 1916. URL: http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn070.htm (дата обращения 26.02.2017).
- Блок А. А. Безвременье. 1906//Lib.ru. URL: http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_1906_bezvremenye.shtml (дата обращения 11.05.2017).
- Гальцова Е. Д. На грани сюрреализма. Франко-русские литературные встречи: Жорж Батай, Ирина Одоевцева и Георгий Иванов//Сюрреализм и авангард. М.: ГИТИС, 1999. С. 105-126.
- Гофман В. В. Язык символистов//Литературное наследство. 1937. Т. 27-28. С. 54-105.
- Гуго Ф. Структура современной лирики: От Бодлера до середины двадцатого столетия/Пер. с нем. и коммент. Е. Головина. М.: Языки славянских культур, 2010. 344 с.
- Заманская В. В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века. Диалоги на границах столетий: Учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2002. 304 с.
- Иванов Вяч. И. Предчувствия и предвестия. Новая органическая эпоха и театр будущего//Иванов Вяч. И. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель, 1974а. Т. 2. С. 86-104.
- Иванов Вяч. И. Две стихии в современном символизме//Иванов Вяч. И. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель, 1974б. Т. 2. С. 536-561.
- Иванов Вяч. И. О кризисе гуманизма. К морфологии современной культуры и психологии современности//Иванов Вяч. И. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 367-382.
- Исупов К. Г. Философия и литература «серебряного века» (сближения и перекрестки)//Русская литература рубежа веков (1890-е -начало 1920-х годов): В 2 т. М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2001. Т. 1. С. 69-130.
- Клинг О. А. Эволюция и «латентное» существование символизма после Октября//Вопросы литературы. 1999. № 4. С. 37-64.
- Колобаева Л. А. Русский символизм. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 296 с.
- Мережковский Д. С. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. 1893//Lib.ru. URL: http://az.lib.ru/m/merezhkowskij_d_s/text_1893_o_prichinah_ upad-ka.shtml (дата обращения 10.04.2017).
- Мальцев Л. А. Славянская модель экзистенциализма: литературные контексты книги «Миросозерцание Достоевского» Н. А. Бердяева//Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2010. № 22 (203). Филология. Искусствоведение. Вып. 46. С. 69-73.
- Мальцев Л. А. Экзистенциализм в философии русского зарубежья и литературе польской эмиграции: точки пересечения//Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2011. № 25 (240). Филология. Искусствоведение. Вып. 58. С. 91-94.
- Николаевская Т. Е. Ф. М. Достоевский как предтеча европейского экзистенциализма (опыт проблемного исследования): Дис. … канд. филос. наук. М., 1999. 166 с.
- Ничипоров И. Б. Литература в призме философии: Н. Бердяев о романах А. Белого//Портал «Слово». URL: http://www.portal-slovo.ru/philology/41770.php (дата обращения 26.02.2017).
- Рылова А. Е. Георгий Иванов и русский символизм: Автореф. дис.. канд. филол. наук. Шуя, 2006.
- Семенова С. Г. Два полюса русского экзистенциального сознания: проза Георгия Иванова и Владимира Набокова-Сирина//Новый мир. 1999. № 9. С. 183-205.
- Суслопарова Г. Д. Типология утопического мышления в литературе Серебряного века (символизм, футуризм, новокрестьянская поэзия): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2012.
- Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. М.: КомКнига, 2007. 184 с.
- Чагин А. И. Истоки пути: от «Лампады» к «Дневникам»//Г. В. Иванов: Материалы и исследования: 1894-1958: Междунар. науч. конф. М.: Изд-во Литературного ин-та им. А. М. Горького, 2011. С. 8-23.
- Шестов Л. И. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). URL: http://www.magister.msk.ru/library/philos/shestov/shest11.htm (дата обращения 06.05.2017).
- Cornillot F. Tiouttchev: Poète-philosophe. Lille, 1974.
- Иванов Г. В. Полное собрание стихотворений//Lib.ru. URL: http://lib.ru/RUSSLIT/IWANOWG/stihi.txt (дата обращения 16.05.2017).
- Иванов Г. В. Собр. соч.: В 3 т. М.: Согласие, 1994. Т. 1. 656 с.
- Иванов Г. В. Распад атома//Иванов Г. В. Собр. соч.: В3 т. М.: Согласие, 1994. Т. 2. С. 5-34.
- Тютчев Ф. И. Стихотворения (Всемирная библиотека поэзии). М.: Эксмо, 2009. 480 с.