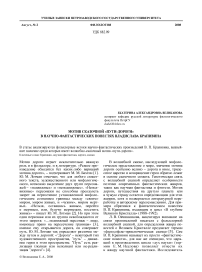Мотив сказочной «пути-дороги» в научно-фантастических повестях Владислава Крапивина
Автор: Великанова Екатерина Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2 (93), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются фольклорные истоки научно-фантастических произведений В. П. Крапивина, важнейшее значение среди которых имеет волшебно-сказочный мотив «пути-дороги».
Крапивин, научная фантастика, дорога, сказка
Короткий адрес: https://sciup.org/14749425
IDR: 14749425 | УДК: 882.09
Текст научной статьи Мотив сказочной «пути-дороги» в научно-фантастических повестях Владислава Крапивина
Мотив дороги играет исключительно важную роль и в фольклоре, и в литературе. «Редкое произведение обходится без каких-либо вариаций мотива дороги», – подчеркивает М. М. Бахтин [1]. Ю. М. Лотман отмечает, что для любого сюжетного текста, художественного или мифологического, возможно выделение двух групп персонажей – «подвижных» и «неподвижных». «Неподвижные» персонажи не способны преодолеть запрет на пересечение установленной мифологическим сознанием границы между «своим» миром, миром живых, и «чужим», миром мертвых. «Нельзя, оставшись живым, перейти к мертвым, или, будучи мертвецом, посетить живых» – пишет Ю. М. Лотман [2]. Но при этом один персонаж или их группа освобождаются от этого запрета: «…подвижный персонаж – лицо, имеющее право на пересечение границы» [3], именно ему открывается дорога, он совершает путь. Ю. М. Лотман так определяет различие между путем и дорогой: «"Дорога" – некоторый тип художественного пространства, "путь" – движение героя в этом пространстве. "Путь" есть реализация (полная или неполная) или не-реали-зация "дороги"» [4].
В волшебной сказке, наследующей мифологическое представление о мире, значение мотива дороги особенно велико – дорога в иное, тридесятое царство и возвращение героя обратно лежат в основе сказочного сюжета. Генетическая связь с волшебной сказкой определяет особенности поэтики современных фантастических жанров, таких как научная фантастика и фэнтези. Мотив дороги, путешествия на другую планету или в чужую страну остается определяющим для этих жанров, хотя и подвергается литературной переработке и авторскому переосмыслению. Для примера обратимся к фантастическим повестям В. П. Крапивина, входящим в цикл «В глубине Великого Кристалла» (1988–1992).
Л. В. Овчинникова, акцентируя внимание на связи произведений писателя с фольклорной волшебной сказкой, для определения жанра повестей о Великом Кристалле предлагает термин «философско-приключенческая сказка» [5]. Сам В. П. Крапивин называет их просто «фантастические повести», для нас же очевидно, что царящий в произведениях цикла «дух науки» (термин Е. М. Неелова) позволяет отнести их к жанру научной фантастики. Исследователь
М. И. Мещерякова считает фантастический цикл В. П. Крапивина «мифологическим романом-эпопеей» [6] и придает ему статус «романа-мифа» или «неомифа». На наш взгляд, с такими определениями невозможно согласиться – тем более, сама М. И. Мещерякова признает «принципиальную нерешенность» [7] вопроса о направлениях и разновидностях «неомифоло-гической» прозы. Достаточных оснований для выделения нового жанра в публикациях исследовательницы мы не находим. Еще в 1986 году Е. М. Неелов писал: «…жанр научной фантастики не имеет какого-либо особого отношения к конкретно-историческим формам мифологии, более того… он противостоит им. При этом, однако, возможна перекличка научной фантастики и различных переносных истолкований мифа, но тогда термин "миф" лишь затемняет суть, ибо он сразу влечет за собой массу побочных конкретно-исторических ассоциаций» [8].
М. И. Мещерякова, используя принятую ею терминологию, о роли мотива дороги в цикле «В глубине Великого Кристалла» замечает: «Одна из центральных мифологем у Крапивина – понятие Дороги… На нее выходит каждый, кто ищет отгадку тайнам Бытия, и те, кто оказывается лицом к лицу с этими тайнами в силу определенных обстоятельств…» [9] Исследовательница подчеркивает, что «описание Дороги построено в традициях мифопоэтической образности… Бесконечная во времени и пространстве, Дорога объединяет Кристалл, вбирает в себя все в нем происходящее и питает все Великое Кольцо Мироздания» [10].
Стремление «мифологизировать» художественные миры, придать им характер «верований» – специфическая черта восприятия литературы современным читателем-подростком. Участи выступать для самых горячих поклонников в роли «гуру» не избежал и В. П. Крапивин. Писатель с иронией рассказывает об этом в одном из интервью: «Однажды ко мне приехала группа ребят и потребовала посвятить их в технологию прямого перехода (то есть перемещения в сопредельное фантастическое пространство, которым владеют герои книг В. П. Крапивина. – Е. В .). Разумеется, я все равно не смог этого сделать. Я только сказал, что если бы точно знал, как, давно бы сбежал…» [11]
Художественная целостность фантастической Вселенной В. П. Крапивина подталкивает исследователей искать в литературном тексте истоки молодежных «вероучений», хотя «апелляция к мифу в процессе изучения научной фантастики в методологическом отношении оказывается в большинстве случаев бесперспективной» [12]. Разумеется, это «не значит, что древние мифологические мотивы и образы можно оставить без внимания… древний миф для нас важен постольку, поскольку помогает понять волшебную сказку, которая, в свою очередь, помогает понять научную фантастику» [13].
Для того чтобы понять фантастику В. П. Крапивина и по-новому интерпретировать интересующий нас мотив дороги, необходимо обращение к волшебной сказке.
Волшебная сказка не знает различения «дороги» и «пути» – их взаимопроникновение отражено в традиционном образе фольклорной пути-дороги. «"Дорога" в сказке равна "пути", – пишет Е. М. Неелов, – более того, "дорога" создается "путем". Это особенно наглядно видно в случаях, когда героя ведет волшебный клубочек, шарик или другие чудесные предметы. Где катится клубочек, там и дорога сказочному герою. Вне пути нет дороги, поэтому дорога в сказке может быть проложена везде, где человеку – путь» [14]. Таким образом, как доказывает Е. М. Неелов, «в сущности, герою оказывается безразлично, куда идти… Дело в том, что путь-дорога наугад, куда глаза глядят, всегда приводит героя прямо к цели» [15].
В образе Дороги, соединяющей разные миры Вселенной фантастических повестей В. П. Крапивина, фольклорное начало легко может быть выявлено.
Дорога двенадцатилетнего Матвея Радомира по прозвищу Ежики, героя повести «Застава на Якорном поле» (1989), замкнута: «На Большом Кольце поезда с перрона А идут по часовой стрелке, с перрона Б – наоборот. И никогда не меняют направлений – кольцо есть кольцо» (482) [16]. Транспортное Кольцо – это символ безысходности, замкнутый круг, который держит в плену героя. Снова и снова на Кольцо Ежики приводит голос мамы, которую мальчик считает погибшей. Запись маминого голоса объявляет станции, а однажды произносит новое, несуществующее на Кольце название: «Якорное поле».
Образ кольца, круга лежит в основе выстроенной В. П. Крапивиным Вселенной. Круги, кольца и шары сопровождают героев каждой повести о Кристалле – так или иначе, они всегда имеют отношение к Дороге. Предметы, указывающие путь Ежики, – монетка, на ребре которой надпись: «На Дороге не останавливайся! Через Границу шагай смело!» (557), вишневый стеклянный шар, который Ежики нашел, выходя на таинственную станцию. Игра «в шары» с ребятами на Якорном поле, а при новом возвращении – шар, который оказался в кармане забытой на Поле «капитанки». Оплетенный сеткой полый шар, шар Луны и пушистые шары одуванчиков встречаются Ежики на Поле, на пути к маме.
В «КРАТОКРАФАНЕ» (шутливом «Кратком толкователе крапивинской фантастики») писатель поясняет: «Шар – наиболее совершенная геометрическая форма, созданная природой в трехмерном мире. Видимо, поэтому шары разных размеров часто становятся талисманами, амулетами и носителями волшебных энергий… Дома у автора есть небольшая коллекция шаров и шариков – некоторые из них послужили прообразами тех, что описаны в повестях и рома- нах» [17]. Говоря о романе-сказке Ю. Олеши «Три толстяка», Е. И. Маркова отмечает: «…игра круглыми и шарообразными предметами… отражает борьбу Космоса и Хаоса… в мифологической картине мира шар есть Вселенная» [18].
Фантастическая Вселенная В. П. Крапивина «завязана в кольцо». Путь сказочного героя подразумевает проникновение «туда», в «чужой» мир, и возвращение домой, «обратно». Это тоже кольцо. В повести «Застава на Якорном поле» герою некуда и не к кому возвращаться: «А там, сзади, что? Лицей, прежняя жизнь» (557). Поэтому Ежики выбирает прямой путь – только вперед, как научил Яшка, но сам путь ребенка к маме – это уже возвращение домой.
В сказке «героя ведет волшебный клубочек, чудесный шарик, ему указывают путь различные добрые помощники. А если их нет, то сама путь-дорога приходит на помощь», – пишет Е. М. Неелов [19]. В повести В. П. Крапивина оказывается, что «Кольцо – тоже Дорога. Думаете, замкнутая, без выхода? Но вот же – вывела на Якорное поле…» (540). Направления пути Ежики не выбирал – «просто ехал, шел, бежал, вот и все…» (580). Дорога сама приходит на помощь герою: она снова и снова «выводит» его на Якорное поле. После двух неудачных попыток найти маму Ежики рассказал все Яшке, космическому кристаллу с душой ребенка, своему «чудесному помощнику». Яшка сказал: «Иди опять. Пробивайся. Две попытки уже было, третий раз, может, повезет… "Как в сказке", – с ознобом подумал Ежики. – Как в сказке, – серьезно отозвался Яшка…» (580) Троекратное повторение действия повторяет сказочное, «при котором, – как замечает Д. Н. Медриш, – последний (в данном случае – третий) этап качественно противоположен всем предыдущим» [20].
Нетрудно сравнить Ежики со сказочным Иванушкой-дурачком: его поступки кажутся бессмысленными, и даже понимая это, герой не останавливается. Надежда найти умершую маму нелепа с точки зрения здравого смысла. Поиски Якорного поля бесполезны, потому что главный диспетчер сказал ему правду: «Послушай, малыш… такой станции нет» (507). Последняя попытка Ежики «прорваться», бросившись под поезд, – совершенно чудовищна с обыденной точки зрения. «А ведь для сказочного героя, для всего строя волшебной сказки как раз и характерно "недоверие к расчетам здравого смысла"», – замечает Е. М. Неелов [21]. Детский и вместе с тем сказочный взгляд помогает Ежики преодолеть слепоту здравого смысла – он упрямо добивается своей цели и побеждает.
Сказочному герою, как пишет Е. М. Неелов, «не надо выбирать путь, ибо он предопределен его качествами: злой едет по ложному пути, добрый – по правильному… Поэтому в сказке всегда доброму герою – добрая судьба, злому – злая доля» [22]. Единственное, чем руководствуются положительные герои В. П. Крапивина, замечает
М. Борисов, – «это живое и сугубо эмоциональное чувство правильности избранного пути, сделанного выбора… Они ошибаются, но только не в момент настоящего выбора» [23]. Способность к волевому выбору – это уже психологический, литературный «антураж» образа героя. Тем не менее в повестях В. П. Крапивина, как и в волшебной сказке, «правильно поступает только тот, кто изначально не знает, что делать, кто пребывает в растерянности» [24]. Отправляясь в Дорогу, Ежики просто верит, что «не бесконечен же путь! Куда-нибудь приведет!» (557). И путь героя успешен, потому что для героев В. П. Крапивина, согласимся с М. Борисовым, «главная сила – изначальное, сокрытое в человеке Добро, а оно не нуждается в научении» [25].
По словам Д. С. Лихачева, для сказки характерно «отсутствие сопротивления среды, постоянное преодоление законов природы» [26]– это чудо, для объяснения которого привлекается «все "техническое вооружение" сказки: волшебные предметы, помощные звери, волшебные свойства деревьев, колдовство» [27]. В научной фантастике возможность преодолеть законы физического мира объясняется «научными» открытиями и изобретениями. В повестях В. П. Крапивина герои-ученые разрабатывают теорию кристаллического строения Вселенной, в которой наряду с «генеральным меридианом», «темпоральным кольцом», «гипотетическими гранями» важное место занимает Дорога, соединяющая миры и времена.
Как она появилась? «Сама собой, – отвечает писатель в одном из интервью. – Появился Кристалл, появилась Дорога. Юкки появился... Потом они с сестренкой куда-то отправились – появилось ощущение Дороги. Бесконечной Дороги» [28]. На вопрос, что же это такое, ищут ответ герои. «Что такое Дорога? Я не знаю, – говорит В. П. Крапивин, – так же как не знают ученые, живущие в моих книгах. Я знаю только, что Дорога лежит за пределами Кристалла. Она выше и абстрактнее, чем Вселенная, имеющая форму кристалла. То есть, если представить себе Вселенную в виде кристалла, который в конце концов смыкается в кольцо, то Дорога идет вне кристалла по спирали. Спираль обвивает кристалл, но смыкается ли она, или концы уходят куда-то в запределье, я не знаю до сих пор. Функция Дороги абсолютна и милосердна, это последний шанс всякой живой души найти того, кого потерял, что-то исправить, что не сделал – доделать».
Анализируя созданный В. П. Крапивиным образ вселенской Дороги, трудно удержаться от проведения не только фольклорных, но и литературных параллелей – вспомним «лунную дорогу», на которой встретились бродячий философ Иешуа и прокуратор Иудеи Понтийский Пилат в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Однако способ «выйти на Дорогу» герои В. П. Крапивина используют фольклорный. Третьеклассник Филя Кукушкин из повести
«Крик петуха» (1989) осуществляет свой первый полет в сопредельные миры с помощью рыжего петуха, перья которого «отливали всеми оттенками меди, латуни и даже червонного золота» [29]. Как указывает В. Я. Пропп, в сказке золотая окраска существа или предмета «всегда есть признак его принадлежности к иному царству» [30]. Петух, действительно, вылупился из яйца на другой грани Кристалла – в научной обсерватории «Сфера», а в поселок Луговой к Филиппу был занесен в результате неудачного эксперимента. Однажды петух издал «орлиный клич» и взлетел. Как в сказке, где герой путешествует на орле, Филя вцепился в лапы петуха и улетел вместе с ним «через пространственный барьер». По словам Е. М. Неелова, «научное в фантастическом жанре оборачивается сказочным, сказочное – научным, и в этом непосредственно проявляется синтезирующая художественная диалектика научно-фантастической литературы» [31].
На бесконечном множестве дорог Вселенной встречаются герои фантастических повестей В. П. Крапивина. Они знают, что у каждого – «Своя Дорога», своя судьба. «Конец пути-судьбы – это финал сказки» [32], когда никаких дальнейших перемен в жизни героя не предпо- лагается, «действие всегда и навсегда завершается, персонажи застывают в неподвижности» [33]. В повести В. П. Крапивина «Застава на Якорном поле» ребенок возвращается к матери, и, действительно, добившись счастья, герои «застывают». В повести «Крик петуха» о Ежики вспоминает Витька Мохов: «…хороший, конечно, парнишка. Главное, что счастливый… он не поверил, что мама погибла, пробился к ней, нашел. И вернулись они в свой дом (Хочется добавить: «…и жили они долго и счастливо». – Е. В.), а враги их получили сполна…» [34]
Подводя итоги, скажем, что связь творчества В. П. Крапивина с волшебной сказкой нисколько не противоречит научно-фантастическому определению жанра повестей цикла «В глубине Великого Кристалла». Интерпретация научнофантастических образов и мотивов в сказочном ключе, как показывает обращение к одному из важнейших мотивов – мотиву дороги, оказывается возможной и плодотворной. Нет сомнений в том, что кроме проявлений ярчайшей творческой индивидуальности, таланта педагога и психолога, долгую жизнь произведениям В. П. Крапивина дарит и поэтика волшебной сказки, чутко воспринятая художником и получившая новую жизнь в его книгах.
Список литературы Мотив сказочной «пути-дороги» в научно-фантастических повестях Владислава Крапивина
- Бахтин М. М.Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975. С. 248.
- Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. С. 287.
- Лотман Ю. М. Структура художественного текста. С. 287.
- Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя//Лотман Ю. М. О русской литературе: статьи и исследования. СПб: Искусство-СПб, 2005. С. 656.
- Овчинникова Л. В. Русская литературная сказка ХХ века. История, классификация, поэтика. М.: Флинта, 2003. С. 238.
- Мещерякова М. И. Русская детская, подростковая и юношеская проза 2 половины ХХ века: проблемы поэтики. М.: Мегатрон, 1997. С. 308.
- Мещерякова М. И. Русская детская, подростковая и юношеская проза 2 половины ХХ века: проблемы поэтики... С.301.
- Неелов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. С. 25.
- Мещерякова М. И. Русская детская, подростковая и юношеская проза 2 половины ХХ века: проблемы поэтики... С. 316.
- Мещерякова М. И. Русская детская, подростковая и юношеская проза 2 половины ХХ века: проблемы поэтики... С. 316-317.
- Крапивин В. П. Кто сказал, что я пишу для детей? [Электронный ресурс]. Электрон. ст. Режим доступа к ст.: http://www.rusf.ru/vk/interv/970700.htm
- Неелов Е. М. Волшебно-сказочные корни. С. 25
- Неелов Е. М. Волшебно-сказочные корни. С. 23.
- Неелов Е. М. Волшебно-сказочные корни.. С. 97.
- Неелов Е. М. Волшебно-сказочные корни. С. 97-98.
- Крапивин В. П. Застава на Якорном поле//В ночь большого прилива: Повести. М.: Эксмо, 2006. Здесь и далее ссылки на это изд. в тексте после цитаты. В скобках указана страница.
- Крапивин В. П. КРАТОКРАФАН. Краткий справочник крапивинской фантастики//Фрегат «Звенящий»: Роман. М.: Эксмо, 2007. С. 659.
- Маркова Е. И. «Три толстяка» Юрия Олеши как зрелище//Проблемы детской литературы и фольклор. Петрозаводск, 2004. С. 19-20.
- Неелов Е. М. Волшебно-сказочные корни. С. 102.
- Медриш Д. Н. Литература и фольклорная традиция: Вопросы поэтики. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1980. С. 22.
- Неелов Е. М. Натурфилософия русской волшебной сказки: Учеб. пособие по спецкурсу. Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1989. С. 56.
- Неелов Е. М.Натурфилософия русской волшебной сказки... С. 49.
- Борисов М. Тревожные сказки: [Электронный ресурс]. Электрон. ст. Режим доступа к ст.: http://www.rusf.rU//vk/recen/1998/m_borisov_02.htm
- Борисов М. Тревожные сказки: [Электронный ресурс]...
- Борисов М. Тревожные сказки: [Электронный ресурс]... Мотив сказочной «пути-дороги» в научно-фантастических повестях Владислава Крапивина 79
- Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М.: Наука, 1979. С. 338.
- Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы... С. 339.
- Крапивин В. П.: «Кто сказал, что я пишу для детей?» (Интервью взято в августе 1997 года): [Электронный ресурс] Электрон. ст. Режим доступа к ст.: http://www.rusf.ru/vk/interv/970700.htm
- Крапивин В. П. Крик петуха. Повесть//Сказки о рыбаках и рыбках: Повести. М.: Эксмо, 2006. С. 10.
- Пропп В. Я. (Собрание трудов) Морфология сказки. Исторические корни волшебной сказки: Собрание трудов В. Я. Проппа. М.: Лабиринт, 1998. С. 404-405.
- Неелов Е. М. Волшебно-сказочные корни. С. 81.
- Неелов Е. М. Волшебно-сказочные корни. С. 103.
- Неелов Е. М. Волшебно-сказочные корни. С. 103.
- Крапивин В. П. Крик петуха. С. 58-59.