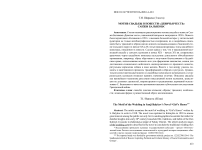Мотив свадьбы в повести «Девичья честь» Санжи Балыкова
Автор: Шараева Татьяна Исаевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению мотива свадьбы в повести Санжи Балыкова «Девичья честь», написанной автором в эмиграции в 1938 г. Повесть была переиздана в Калмыкии в 1993 г. и вызвала большой интерес у читательской аудитории не только автобиографичностью содержания, но и подробным описанием быта, традиций и образа жизни донских калмыков-казаков в Задонской степи Сальского округа в начале XX в. В статье проанализированы этапы свадебного комплекса, описанного в повести. Сделан вывод о том, что в традиционной калмыцкой свадьбе у донских калмыков в конце XIX - начале XX вв. сохранились архаичные черты свадебного комплекса вследствие длительного обособленного проживания, например, обряд обручения и получения благословения в буддийском храме, использование конских жил для оформления сватовства, скачки для доставления специального войлочного надподушечника из приданого невесты, ритуальное кормление собаки в доме жениха. Вместе с тем автору удалось показать и наметившиеся процессы трансформаций в обрядах и ритуалах. Сравнительно-сопоставительный анализ со свадебным комплексом астраханских и ставропольских калмыков позволил выявить значимые отличия. Описание свадьбы как важнейшего механизма регуляции повседневной жизни калмыков, трансляции их духовных ценностей, мировоззрения и традиционных верований использовано С. Балыковым в качестве противопоставления губительным последствиям Гражданской войны.
Свадьба, донские калмыки, обряды, традиции, особенности, локальная форма, художественный образ, воспоминания
Короткий адрес: https://sciup.org/149141363
IDR: 149141363 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-423
Текст научной статьи Мотив свадьбы в повести «Девичья честь» Санжи Балыкова
Знакомство читателей Калмыкии с творческим наследием Санжи Ба-сановича Балыкова началось в 1993 г. с публикации его повести «Девичья честь», написанной на русском языке в 1938 г. в Братиславе (Словакия). По мнению Д.Ю. Топаловой, «исследование зарождения и развития литературы калмыцкой эмиграции, являющейся частью общероссийского литературного процесса Зарубежья, - важная литературоведческая проблема, предопределяющая многоаспектность исследовательского внимания» [Топалова 2017, 5]. Любознательность, острая память, увлечение чтением и полученное образование, широкий кругозор позволили С.Б. Балыкову (1894-1943) стать одной из заметных фигур культурной деятельности калмыцкой эмиграции - «писатель, поэт, публицист, видный общественно-политический деятель» [Топалова 2016, 27]. Позднее в Калмыкии были опубликованы его сборники «Заламджа» (2013 г.) и «Сильнее власти» (2014 г), в которые вошли рассказы, статьи, собранные им фольклорные материалы, мемуары в форме дневниковых записей, биография писателя и фотоматериалы о его жизни.
Интерес к его работам был вызван тем, что, будучи выходцем из Задонской степи Сальского округа начала XX в., он с детства «впитал традиции и обычаи калмыцкого народа, познакомился с его фольклором. Свои тонкие наблюдения, связанные с этнографическими реалиями, бытом, народными воззрениями и национальной психологией, он затем воплотил в произведениях, которые знакомят новые поколения читателей с нравственным опытом калмыцкого народа, его мудростью и самобытной культурой» [Топалова 2017, 119-120], но уже в новой реальности на границе веков. В основе большинства произведений С.Б. Балыкова положены авторские воспоминания о жизни калмыцкого казачества на Дону в начале XX в. Все произведения Санжи Балыкова автобиографичны и основаны на реальных событиях истории, «все пережитое им невольно просилось на бумагу...
Живая память стала главным источником для написания произведений, содержание которых в полной мере подтверждает мысль о том, что литературное произведение - важный документ истории» [Топалова 2017, 135].
Вопросы создания семьи и свадьбы как ее оформления сквозной темой проходят через многие произведения автора, например, «Растоптанный тюльпан», «У незримой стены», «Изгибы». Цель статьи - рассмотреть отражение этнографических реалий традиционной калмыцкой свадьбы в мотиве свадьбы в повести С.Б. Балыкова «Девичья честь» и выявить особенности свадебного комплекса донских калмыков-казаков. Для достижения намеченной цели в работе использованы историко-литературный и сравнительно-сопоставительный методы. Материалами для написания статьи послужили повесть «Девичья честь» [Балыков 1993], исследования о жизни и литературной деятельности калмыцкого зарубежья, об истории и о традиционной обрядовой культуре калмыков.
Основная часть
По мнению исследователя, мотив в художественном произведении «репрезентирован событиями, которые суть единицы повествования» [Силантьев 2004, 78]. Свадьба как сюжетная линия ведется автором в повести параллельно с двумя другими - описанием быта и повседневной жизни калмыков-казаков и общественно-политическими событиями в степях Дона в русле революции и начавшейся Гражданской войны в России, становясь, на наш взгляд, стержневой основой повести. Описанию свадьбы, несмотря на включение его практически во все главы повести, автор уделил две главы (глава 11 и глава 12) из шестнадцати.
Во вступлении к повести описывается рождение двух главных героев -Бадни Цагакова и Зиндми Абушиновой - в степных просторах Задонской степи, называемой «Борокчун, что значит - белая» [Балыков 1993, 10] по цвету созревшего ковыля, где «великая степь сохранила свой былой простор и девственную целину... тихо и безмятежно течет жизнь» [Балыков 1993, 11-12]. Упоминание автором белого цвета неслучайно: белый цвет ассоциируется в картине мира калмыков с чистотой, началом всего живого, умиротворением и спокойствием, рождением как продолжением жизни. Начало повести с описанием тихой и безмятежной жизни в степи контрастирует по замыслу автора с ее окончанием - после завершения Гражданской войны «впереди до самой едва заметной Богшурганской станицы, и позади, за речкой Богла и до самых Кавриновских трех курганов, стлалась безжизненная пустая степь...» [Балыков 1993, 267].
Во время беременности жен отцы главных героев, следуя древней калмыцкой традиции, заключили договор: «если родятся мальчики, то сделаем их побратимами, если девочки, то быть им сестрами, а если мальчик и девочка, то женихом и невестой» [Балыков 1993, 11-12], ставший впоследствии основой колыбельного сговора - одной из форм брака, которая практиковалась у калмыков до начала XX в. Колыбельный сговор у ко- чевых народов был «регулятором брака... заранее обеспечивавшим юному члену семьи жену в его будущей жизни» [Кисляков 1969, 16]. Представления о предназначенности суженой нашли отражение в калмыцком эпосе «Джангар», где эпический богатырь «должен доказать свое право на нее своей богатырской доблестью, героизмом» [Хабунова 2006, 87] и в народных верованиях, что Заячи как творец и вершитель судеб с рождения предусматривает суженых, которые должны найти и узнать друг друга, чтобы объединиться для совместной жизни. Предопределенность судьбы Бадни и в способе завершения жизненного пути, о чем сказано еще в начале повести: «старый знахарь, гадальщик на четках... трижды перебрав сто восемь шариков... сказал... нужно ему остерегаться водной стихии, от воды ему несчастье» [Балыков 1993, И], а будущая жена должна будет разделить с ним участь, так как связана с ним «законными брачными узами на всю жизнь... жизнь каждого из них связана и зависима от жизни другого» [Балыков 1993, 184]. Предназначенность Бадни и Зиндмы друг другу показана автором и через слова отца Пурве Цагакова: «Боги, боги! Мы-то с Дамбой, как разъехались, так и не вспомнили о нашем сватовстве, а дети наши сами нашли друг друга!.. А вот ты все доказываешь мне, что Бога нет, судьбы от Бога нет, а вот почему так случилось с тобой, что ты нашел невесту, которую мы нарекли тебе в первом году рождения, а потом забыли? Разве это не судьба» [Балыков 1993, 35]. В традиционном быту у калмыков о колыбельном сговоре не забывали, о желании его расторгнуть стороны оповещали друг друга. Такая «забывчивость» используется автором как завязка для выстраивания дальнейших действий героев повести и включения свадебной темы в канву произведения.
Калмыцкая свадьба - длительный процесс, между этапами которого может пройти не один год. Но в повести время на проведение ее, согласно калмыцким традициям, сокращено, композиционно свадьба противопоставляется усложнившимся жизненным обстоятельствам из-за революционного кризиса и Гражданской войны. Решение двух отцов ускорить свадебные действия вызваны их желанием остаться верными данным обещаниям, воспользоваться налаживанием отношений молодых после размолвки («Давайте-ка, милые сваты, поскорее сыграем свадьбу? Чего доброго, а то опять поссорятся они меж собою и скажут нам, что мы уже не сваты» [Балыков 1993, 164]), неопределенностью ситуации («Сыграем свадьбу наших детей по-человечески, загуляем перед старостью как следует! А потом, видишь, какое время настает?» [Балыков 1993, 181], стремлением осуществить мечту: увидеть своих первенцев состоявшимися в жизни - кун боях (калм. стать человеком), имеющими дом, хозяйство, детей и семейное благополучие.
В структуре традиционной свадьбы у калмыков, состоящей из трех циклов - предсвадебный, свадьба и по еле свадебный - предсвадебный был самым длительным по времени проведения и включал: смотрины невесты (хадмуд хээлИн)), сговор (две поездки - нег бортх, хойр бортх), сватовство (Иурвн бортх), смотрины жениха (кург узуллкн), пошив постельных принадлежностей и одежды (хулд ишклНн, эд ишклйн) [Шараева 2011, 84]. Традиционно смотрины невесты у калмыков проводились различными способами: выясняли личные качества девушки (воспитание, здоровье, умение вести домашнее хозяйство), наводили справки о родных невесты, их репутации, материальном состоянии и характерах. В повести этого этапа нет, так как был составлен колыбельный сговор, и будущие сваты достаточно знают друг друга. Вместе с тем Пурве Цагаков обращает внимание на поведение девушки, «выпорхнувшей вон из комнаты» [Балыков 1993, 38] при упоминании имени сына: «.. .хоть и образованная, но стыдится, значит, не забыла наших обычаев. Это хорошо!» [Балыков 1993, 38], и на внешность Зиндми при описании ее родным. По мнению отца Бадни, Зиндмя обладала всем набором качеств, которые были необходимы его будущей снохе: она была красива, воспитанна, скромна, имела образование, помогала вести хозяйство. Поэтому, когда между молодыми возникли разногласия и отец был вынужден поехать свататься к Цецени, дочери вдовы Кермековой, то его в первую очередь оттолкнула ее внешность: «Смотреть не на что!.. Я даже первое официальное сватовство не провел» [Балыков 1993, 130-131]. Такое поведение Пурве объяснимо с позиций существовавших традиций, когда в семьях состоятельных калмыков внимание обращали все же на внешность и происхождение невесты, а в бедных семьях сноху рассматривали больше, как дополнительную рабочую силу. Герои повести Бадня и Зиндмя «из довольно состоятельных семей донских калмыков, свято следовавших национальным традициям и обычаям, и вместе с тем - представлениям семей их круга» [Джамбинова 1996, 173].
Отправляясь впервые в дом Абушиновых, Пурве Цагаков взял с собой «бутылку раки (водки арки (молочной водки) - Т. Ш.) и белый узелок с конфетами и пряниками - традиционные элементы первого официального сватовства» [Балыков 1993, 38]. В структуре традиционной калмыцкой свадьбы первая поездка к родителям невесты называлась «зэцг оруллИн» (калм. внесение новости / дача известия) или «нег бортх» (калм. одна бортха (сосуд для жидкостей из кожи животных)). Сваты привозили один сосуд с молочной водкой и сладости для детей. По данным исследователей традиционного быта калмыков, такую водку оставляли у дверей в левой части кибитки [Душан 2016, 119], которая считалась женской половиной жилища. В повести калмыки-казаки живут в домах, а не в традиционном жилище, возможно, поэтому привезенную водку отец Бадни оставляет на алтаре, что указывает на изменение значимых локусов в новом по форме жилище в канве данного ритуала. Вместе с тем калмыки никогда не приносили молочную водку, отправляясь в гости, так как она имела значение сакрального «молочного / белого» продукта, используемого в обрядах жизненного и календарного циклов. Примечательно описание использования белого лоскута ткани для доставления угощения: в калмыцкой традиции белый лоскут или белый платок использовались в различных обрядах календарного и жизненного цикла (оборачивали сакральные атрибуты, вы- тирали лицо и руки при совершении ритуалов и обрядов, обменивались в знак налаживания новых родственных отношений и т.д.), выступали маркером территории и атрибутом статуса как элемент традиционного костюма. Поэтому супруги Абушиновы «как только <.. .> увидели бутылку и узелок перед Бурхан, сразу сделались серьезными и сдержанными» [Балыков 1993, 38], поняв намерения своего гостя, и поэтому предупрежденная дочерью о цели визита гостя вдова Кермекова «удивилась, не видя традиционной при сватовстве бутылки водки и узелка конфет и пряников» [Балыков 1993, 130]. В традиционном калмыцком обществе согласие родителей невесты на продолжение переговоров о будущей свадьбе оформлялось распитием привезенной сватами водки, и приглашение отцом Зиндми всех родственников означало положительное начало предсвадебных этапов для героев повести. И родня Цагаковых шумно и радостно встретила известие о предстоящей женитьбе Бадни за совместным угощением.
В досвадебном цикле у калмыков несколько поездок сговора, предваряющих сватовство, происходили с небольшой разницей во времени и составе участников, количеством привозимого с собой угощения. На этапе сговора стороны не имели обязательств между собой. Но в повести говорится о колыбельном сговоре, который изначально обязывал стороны провести свадьбу, если она не отменялась по какой-нибудь причине. Решение Бадни не жениться на Зиндме из-за ссоры с ней на почве обиды и ревности, проявление твердости характера и непоколебимости в этом вопросе привело к решению отца идти на уступки сыну. Автор описывает Пурве Цагакова как человека мягкосердечного, справедливого, обладающего внутренней силой и волевыми качествами, готового на все ради любимых родных. Пурве, испугавшись гибели сына в скачке, испытывая чувство вины за жестокое наказание его арапником, решился на поездку к матери Цецени Кермековой несмотря на то, что мог потерять уважение семьи Абушиновых, своих родных и знакомых, как человек, не умеющий держать свое слово. Потеря статуса и доверия могли иметь серьезные последствия для калмыка в традиционном обществе. Но герой повести готов до конца поддерживать любимого сына, хотя и не согласен с его решением: «мешать тебе жениться на ней не могу. Но и помогать не стану... Я тебе дам твою долю хозяйства, заведи свой дом, а я ее, как невестку, в мой дом, публично и с церемониями не возьму» [Балыков 1993, 131].
Автор неслучайно вводит в повесть сюжетные мотивы, где молодые пытаются самостоятельно решать свою судьбу, что противоречит традиционному укладу жизни калмыков. Зиндмя и Бадни сами принимают решение оповестить своих родителей, что считают друг друга женихом и невестой, осознавая, что нарушают установившиеся традиции: «Если узнает моя мама, что без ведома родителей сама нашла себе жениха и дала ему согласие, то, наверное, прибьет меня. И поделом! Понимаешь, мы с тобой революцию вносим: ибо разве у нас допустимо, чтобы парень и девица сами решали такое дело?» [Балыков 1993, 30]. Бадня, находясь в Зюнгар-ской станице, открыто отправляется в гости к Зиндме, хотя ее родители, увидев нежданно пришедшего зятя, сильно смутились: «жених не мог так запросто зайти в дом невесты» [Балыков 1993, 68]. Но и дочь их «вместо того, чтобы вихрем вылететь из дому, скрыться и на все время пребывания жениха в их доме на глаза ему не попадаться... спокойно и приветливо встретила Бадню и захлопотала об угощении» [Балыков 1993, 68]. Автор пытается показать противопоставление мировоззрения нового поколения старым семейно-родовым и общественным установкам калмыков-казаков того времени, изменениям в их обществе: молодежь образованна, активна, способна самостоятельно принимать решения, открыто обсуждать многие общественные вопросы и т.д. Размолвка героев после публичных проявлений ревности, желание Бадни жениться на другой, несмотря на состоявшуюся традиционную первую поездку свадебного сговора, также служит подтверждением изменений в среде молодежи на фоне общественно-политических событий в обществе. Вместе с тем автор убедительно показывает, что этические категории, незыблемость нравственных и семейных устоев, следование традициям как оплоту сохранения порядка для героев повести более важны. Бадня разрывает свои отношения с Цеценей. Ему было важно услышать после свадьбы традиционное обращение у донских калмыков «Атаман!» к парню, женившемуся на невинной девушке. Поэтому он просит отца возобновить свадебные поездки к Зиндме, которая все еще оставалась для него уважающей обычаи предков, хранительницей домашнего очага.
О второй поездке сговора автор, к сожалению, указывает кратко без подробностей: «...поспешили отвезти к Дамбе очередное угощение...» [Балыков 1993, 163]. У астраханских и ставропольских калмыков количество участников во второй поездке было от 2 до 5 человек, они привозили водку, сладости, чай и по мускатному ореху отцу и матери [Житецкий 1893, 22; Небольсин 1852, 63-64; Бентковский 1869, 151]. Во время этого визита родители невесты вручали будущим сватам мускатный орех в знак согласия на брак своей дочери.
Интересны детали описания С. Балыковым традиционной поездки двух отцов в буддийский храм к астрологу зурхачи. В структуре традиционной свадебной обрядности такая поездка родителей молодых была необходима, так как следование указаниям буддийского астролога при проведении свадьбы играло большую роль. По данным исследователей, он определял соответствие годов жениха и невесты, благоприятные дни сватовства, свадьбы, время увоза невесты из дома и других этапов свадьбы, указывал необходимые атрибуты ритуалов и обрядов, масть лошади, на которой следовало увозить невесту и ехать жениху, выбирал тех, кто будет совершать обряд принятия невесты и т.д. [Бакаева, Гучинова 1989, 8]. В повести образ буддийского ламы Менке Борманджинова (1855-1919), бывшего главой буддийских священников донских калмыков [Уланов, Андреева 2021, 106], показан автором с уважением как священнослужителя, честно выполняющего свой долг.
Аудиенция у ламы двух отцов закончилась получением следующих указаний: счастливый день для свадьбы - первый день среднего осеннего месяца; жених должен быть на рыжей лошади, но без отметин, а невесту должны везти на белой лошади; увоз невесты утром, как только лучи солнца начнут прямо падать на козий лоб. «Голову невесты покрыть желтым покрывалом и над ней во время пути до дома жениха должен развеваться свадебный белый флаг, флаг к тому времени будет изготовлен “зурхачи”. Когда невесту привезут в кибитку жениха, посадите их рядом, на левой стороне кибитки, на тех же подстилках, на которых они будут венчаться здесь, у меня, и накормите их из одной чаши пищей желтого цвета, например, пшенной кашей, а все остальное - по обычной нашей традиции, которую вы знаете» [Балыков 1993, 175-176].
В данном описании важны несколько аспектов. Традиционно у калмыков невесту на свадьбе увозили в то время, которое назвал астролог, чаще всего оно совпадало с началом рассвета. На свадьбе происходило взаимодействие представителей двух противоположных друг другу миров (= родов), где каждая сторона воспринималась по отношению к другой, связанной с чужим / «иным» миром [Шараева 2011, 110]. В повести прибывшие представители «свадебного поезда» жениха «расположились лагерем, поставив подводы в круг... обязательно по традиции» [Балыков 199], что указывает на «инаковость» их для родных невесты.
Козы в хозяйстве калмыков использовались как «ведущее» животное для выпаса овец, они первые же начинали движение еще в предрассветных сумерках. Коза в мифологии калмыков была связана с тьмой, нечистой силой, воспринималась как хтоническое существо, поэтому в определении времени увоза невесты прослеживаются мифологические представления калмыков: падение луча солнца как «живительного / жизненного начала» на лоб козы служит символом победы света над тьмой, в структуре свадьбы - знаком к началу возвращения с началом рассвета в свой мир из чужого / «иного» / темного. Поэтому «старшина свадьбы решил вносить угощение после полуночи, со вторыми петухами, чтобы к завтраку, к назначенному часу увоза невесты успеть покончить со свадебными угощениями, подарками и прочими церемониями» [Балыков 1993, 199].
Сходную солярную символику в повести имеет и совместное поедание молодыми пищи желтого цвета, приготовленной на огне семейного очага в доме жениха по указанию ламы, как символ приобщения невесты (= представителя иного мира), и кормление собаки жениха молочной пищей у печки в «желтой деревянной чашке» [Балыков 1993,218]. В известных нам работах исследователей обрядовой культуры калмыков упоминания о таком ритуальном совместном приеме пищи и кормлении домашней собаки не встречаются. Вместе с тем кормление собаки невестой является одним из древних ритуалов в свадебном комплексе тюрко-монгольских народов, что подтверждает сохранение рудиментов в свадебной обрядности донских калмыков, проживавших изолированно.
Поедание именно пшенной каши, вероятно, обусловлено земледелием, которым активно занимались донские калмыки, в отличие от ставрополь-430
ских и астраханских калмыков, у которых новобрачные должны совместно вкусить кусочки мяса, срезанные с отваренной большеберцовой кости барана maha чимгн как главного атрибута обряда бракосочетания: молодые держали эту кость с двух сторон, совершая совместные поклоны во время молитвы буддийского священнослужителя перед будущим новым жилищем, о чем в повести вообще не упоминается. Использование берцовой кости барана, как и всех частей его туши, в свадебных обрядах у калмыков базируется на представлении о баране как о «солнечном животном», проецирующем животворящую силу солнца и огня, и о предках, дарующих покровительство, благоденствие и чадородие. С. Балыков вскользь упоминает в обряде принятия невесты кусок «сырой баранины» [Балыков 1993, 217], которым она должна была угостить родных мужа, но далее в тексте о нем нет никаких упоминаний, как и нет сведений об обязательном обряде жертвоприношения огню, где использовалась сырая баранья нога (аналогично у астраханских и ставропольских калмыков). Баран как жертвенное животное в обряде жертвоприношения огню символизировал переходное состояние и смену статуса невесты, ее инициацию: она «умирала» для членов своей семьи и близких родственников, чтобы «родиться» в новой семье. У И.И. Попова, составившего общие этнографические сведения о жизни донских калмыков в начале XX в., практика использования кости барана в обряде бракосочетания указана: «главнейшими актами свадебного обряда является поклонение невесты и жениха в присутствии духовенства вечному желтому солнцу и совместное держание ими берцовой кости задней бараньей ноги (шага чимген)» [Попов 1919, 48]. Можно предположить, что автор либо намеренно не описывал данный обряд у донских калмыков, требующий развернутой детализации в повести, либо отразил практиковавшуюся форму обряда бракосочетания в буддийском храме при участии только ламы незадолго до свадьбы, который полностью утрачен в настоящее время.
«Венчание у ламы» - так озаглавлен один из подразделов в главе 12. В назначенный день в буддийском храме собрались пары для обручения и получения благословения у ламы, который длительно читал молитву и завершил традиционным троекратным прикосновением «к головам молодых “очиром” и четками» [Балыков 1993, 184]. Во время молитвы молодые должны были располагаться на специальных подстилках в соответствии с годом их рождения, по окончании обязательно совершить поклонение статуе божества Майдари, покровителю семей. Привлекает внимание следующий эпизод: молодые люди по требованию ламы надевают невестам их головные уборы джатак - маленькие черные бархатные шапочки, украшенные золотой вышивкой, но при этом они поспешно разбирали «кто какой попало почти одинаковые... джатаки» [Балыков 1993, 186]. Традиционно калмыки не показывались публично без головных уборов, обнажить голову могли только при посещении буддийского храма или при совершении различных обрядовых действий. В антропоморфной картине мира калмыков шапка выступала продолжением головы, что и обуслови- ло большое количество запретов на действия с ней, ее изготавливали для конкретного владельца. Поэтому о надевании чужого головного убора в традиционном обществе не могло быть и речи. Возможно, именно таким нарушением народных представлений автор хотел подчеркнуть волнение и смущение героев повести. В структуре свадьбы у донских калмыков, по сведениям С. Балыкова, поездка молодых в буддийский храм осуществлялась после сватовства.
В повести красочно описывается, как свадьба следовала к дому жениха, «развевая нал головой невесты белый свадебный флаг» [Балыков 1993, 210], согласно указанию буддийского священнослужителя, и по прибытии «свадебный флаг, с написанными на нем тибетскими буквами-благосло-вением Ламы, воткнули у правого притолока двери» [Балыков 1993, 215]. По данным исследователей, ставропольские и астраханские калмыки доставляли невесту к дому жениха за одной из занавесок передней части традиционного полога кешг красного или синего цвета, которую растягивали перед ней двое верховых [Бентковский 1869, 161; Житецкий 1893, 22]. Позднее эту часть полога довешивали к другим над супружеской постелью в кибитке молодых. С момента приезда и в течение последующих трех дней невеста должна была скрываться за этим пологом [Шараева 2015, 146-147]. Традиционный полог в повести указан как «пестрый ситцевый балдахин» [Балыков 1993, 187], натянутый в кибитке новобрачных.
На сватовстве у калмыков принимались все важные решения организационного характера: договаривались о размерах приданого, количестве свадебного угощения, обговаривались составы свадебных делегаций и т.д. После проведения сватовства родственники обеих сторон получали официальное право называть друг друга сватами - худнр. Расторжение условий сватовства сурово осуждалось общественным мнением [Шараева 2011, 93]. Символом договоренности сторон были привозимые стороной жениха определенные атрибуты: белый платок с завязанными в уголке серебряными монетами, столярный или рыбий клей [Житецкий 1893, 20], или клей, плиточный чай и ремень [Небольсин 1852, 65; Бенковский 1869, 151 ]. В повести донские калмыки в знак скрепления союза привезли «клей, белый коленкор и конские жилы» [Балыков 1993, 203] со значением: «будем родственниками липкими друг для друга, как природный клей, взаимные помыслы наши будут чисты, как белый коленкор, а слово наше крепко, как конские жилы...» [Балыков 1993, 203], что не противоречит традиции и свидетельствует о сохранении более ранней формы атрибутов заключения брачного союза, хотя И.И. Попов отмечает также практику вручения «в знак обручения» чая, клея и ремня [Попов 1919, 42]. Сохранение практики использования конских жил подчеркивало распространенность коневодства у донских калмыков, традиционной формы хозяйствования.
Интерес вызывает описание в повести количества угощения и подарков, обговариваемого брачующимися сторонами. Во время встречи лама обратился к двум состоятельным отцам не проводить богатую свадьбу, чтобы избежать последствий человеческих пороков на будущую жизнь
Бадни и Зиндми, с чем они согласились. Он просит отцов провести свадьбу «на основе традиции наших старинных свадеб...» с минимальным количеством угощения и подарков, достаточным для принятия совместной обрядовой пищи с разновозрастными родными невесты для установления близкого родства и закрепления его посредством раздачи белых платков -символа новых родственных отношений.
Но Пурве и Дамба не прислушались к просьбе ламы, «потому что у мирян уже укрепился свой свадебный обычай» [Балыков 1993, 178], что указывает на трансформацию калмыцкой свадьбы ко времени описываемых событий в повести. Отец невесты на сватовстве запросил «одну баранью тушу сваренную, другую сырую, одну овцу живую (здесь зарежете), одну заваренную корову, полтуши конины (лучшую часть), пятьдесят кирпичей калмыцкого чаю, десять пудов сушки, пятьдесят булок, десять пудовых ящиков пряников, десять полупудовых ящиков леденцов, пять ведер русской водки, десять ведер араки... подарки: мне, моей жене, брату моему и старшей сестре с мужем по шелковому халату или бешмету, десять шерстяных халатов и бешметов для остальных близких родственников, десять ситцевых халатов для родственников дальних, да достаточное количество аршинов белого коленкору для всех посетителей... аршин сто хватит... Еще десять фунтов хорошей карамели, такую же коробочку пряников с медом внутри, да бутылок пять хорошего вина - это для подруг невесты и молодой родни для ее прощального вечера» [Балыков 1993, 180-181]. Таким подробным перечислением запрашиваемых подарков и угощения писатель показал не только их традиционную форму, но и дал характеристику многочисленности состава и уровня жизни донских калмыков. Спор сватов обо всем этом автор использовал как прием противопоставления: «где-то на границе Дона шла кровопролитная война... но свадьба все заслонила, все горечи и опасения были забыты» [Балыков 1993, 189], как способ представить, какой была бы мирная жизнь без войны - «в мирное, нормальное время о такой свадьбе говорили бы годы» [Балыков 1993, 199]. Автор подводит к мысли, что гибель Бадни и Зиндми должна быть следствием-наказанием за нарушение отцами обещания, данного ламе, но вместе с тем их гибель - это символ трагического окончания мирной жизни, прерывание преемственности поколений в молохе братоубийственной войны.
У астраханских и ставропольских калмыков в цикле предсвадебных действий было обязательное после сватовства посещение женихом родных невесты - «смотрины жениха» (калм. кург узуллЬн), или четвертая по счету поездка. Он отправлялся с друзьями и группой родных, везя богатое угощение и подарки. Жених должен был пройти своеобразный обряд инициации на стороне невесты: совершал ритуалы подношения огню и предкам, раскуривал трубки и угощал гостей и родителей невесты, соблюдая все правила традиционного этикета, выполнял любые поручения, например, разделать и подать мясо в соответствии со статусом получаемых, станцевать или спеть и т.д. Он должен был вести себя скромно, достойно, воздерживаться от спиртного. Согласно традиционному этикету, занимал место около порога жилища, независимо от общественного положения. Поэтому Бадня «сел ниже всех, у самого порога, по-традиционному подогнув левую ногу под себя, а правую поставив на ступню» [Балыков 1993, 190]. Несмотря на трудное и утомительное сиденье в такой позе, «в нем -почтение к старшим, к дому, в нем - традиция калмыцкой старины; в этой манере сидения - признание особенности момента» [Балыков 1993, 190]. Бадня с честью прошел все традиционные испытания, даже исполнил обязательную песню с подношением для тестя в коленопреклоненной позе, за что тот, выпив «раку, вернул Бадне чашу и заставил допить оставшийся в ней глоток, чтобы благопожелания тестя, высказанные за этой чашей, впитались бы в нутро жениха» [Балыков 1993, 197].
В повести проведение «смотрин жениха» у донских калмыков происходит за два дня до свадьбы, что структурно не соответствует предсвадебному циклу астраханских и ставропольских калмыков. Кроме того, поездка жениха названа «мальчишником» (за два дня до свадьбы), а вечер у невесты накануне свадьбы - «девичником», что терминологически и структурно не соответствует свадебному комплексу астраханских и ставропольских калмыков. Невеста в течение месяца перед свадьбой посещала своих родных по очереди, где ей устраивали вечеринки с подношением подарков и обильным угощением.
Традиционно пятый визит родных жениха, во время которого изготавливали постельные принадлежности и одежду, завершал циклы предсвадебной подготовки сторон. С. Балыков этот этап предсвадебных приготовлений не указывает, ограничиваясь сообщением, что после сватовства «со следующего дня, за месяц вперед, в обоих домах начались спешные приготовления к свадьбе. И там и здесь бесконечно шили, курили и собирали раку по всему хутору, закупали все условленное, ибо соглашение, заключенное между сватами - свято. Обе стороны из всей силы стараются точно его выполнить. Здесь задета честь дома, всего рода и его доброго имени» [Балыков 1993, 182]. Это описание больше относится к взаимопомощи дем у калмыков во время предсвадебных приготовлений: все члены родственной группы оказывают посильную помощь в подготовке деньгами, продуктами для угощения, спиртным, одеждой и т.д.
Свадьба в повести имеет традиционную структуру: получение представителями стороны жениха разрешения войти в дом невесты, проверка свадебного угощения и его внесение, свадебная трапеза, взаимный обмен подарками и их обмывание, вынос приданого, «наказание» представителей стороны жениха битьем во время выноса приданого, поиск спрятавшейся невесты, ритуальное прощальное кормление невесты молочной пищей у алтаря, увоз ее из родительского дома, остановки «свадебного» поезда на территории невесты и жениха для совершения подношения духам местности, скачки к дому жениха, встреча родными жениха, надевание костюма замужней женщины и изменение прически невесты, проведение обряда принятия невесты накануне брачной ночи. Как отмечает Р.А. Джамбинова, при описании традиционной свадьбы у калмыков С.Б. Балыков «выступает как этнограф, психолог, бытописатель-реалист» [Джамбинова 1996, 171]. Он указывает на трансформации в свадебном обряде донских калмыков на примере атрибута скачек - войлочного надподушечника, обшитого розовой материей, это «традиционная принадлежность постели невесты, ныне уже не употребляемая калмыками» [Балыков 1993, 212]. Выделяет угощение прибывающей невесты на ближайшем к дому кургане молочной пищей, отправленной через вестового матерью жениха «в знак того, что в доме мужа ожидает ее сытость, довольство и радушие» [Балыков 1993, 212]. Указывает, что при смене девичьей одежды на костюм замужней женщины «поверх всего этого опять надели на нее девичий бешмет, чтобы в первое время не смущал Зиндму ее новый наряд» [Балыков 1993, 217], а девичью косу расчесали «жениховой расческой» [Балыков 1993, 216] перед плетением традиционных двух кос. У калмыков не было специального свадебного наряда невесты, девушки выходили замуж в нарядной девичьей одежде. В повести внешний облик прибывшей невесты - это образ невинности, пробуждения, начала новой жизни, что подчеркивается использованием розового и красного цветов в одежде [Балыков 1993, 214].
Из числа послесвадебных обрядов автор описывает совместное чаепитие на второй день после свадьбы, в котором принимает участие только молодежь. Традиционно на таком чаепитии проверялись не только хозяйственные способности, знание правил гостеприимства и этикетных норм у невесты (теперь уже невестки), но и проводилось окончательное введение нового члена социума на сакральном и профанном уровнях: через подношение ею первинок пищи предкам и смену ее имени. В чаепитии принимали участие члены семьи и близкие родные, которых невеста должна была назвать поименно при подаче угощения. Посещение невесты родителями берин теркн и ответный ее визит через год теркшлИн остались вне внимания С. Балыкова.
Заключение
В повести С.Б. Балыкова «Девичья честь» представлен пример традиционной калмыцкой свадьбы у донских калмыков в конце XIX - начале XX вв., длительно проживавших обособленно от основного этноса и сохранивших архаичные черты в свадебном комплексе. Сравнительно-сопоставительный анализ со свадебным комплексом астраханских и ставропольских калмыков выявил значимые отличия. Мотив свадьбы как стержневой основы повести позволил автору отразить важнейшие механизмы регуляции повседневной жизни калмыков, их духовные ценности, мировоззрение и традиционные верования.
Несомненно, что в настоящее время в связи с утратой некоторых этапов и значительными трансформациями в свадебной обрядности калмыков описание свадьбы в повести С. Балыкова представляет большой интерес, в том числе и с научной точки зрения.
Список литературы Мотив свадьбы в повести «Девичья честь» Санжи Балыкова
- Бакаева Э.П., Гучинова Э.-Б.М. Традиционные представления о жизненном цикле и их отражение в свадебной обрядности // Обычаи и обряды монгольских народов / отв. ред. Митиров А.Г. Элиста: КНИИИФЭ, 1989. С. 3–16.
- Балыков С.Б. Девичья честь. Историко-бытовая повесть. Элиста: АПП «Джангар», 1993. 284 с.
- Бентковский И.В. Женщина-калмычка Большедербетовского улуса в физиологическом, религиозном и социальном отношении // Сборник статистических сведений о Ставропольской губернии. Ставрополь: Ставропольский статистический комитет, 1869. Вып. II. С. 147–167.
- Джамбинова Р.А. Роман и автор. Новые грани художественности (1960–1990-е гг.). Элиста: АПП «Джангар», 1996. 253 с.
- Душан У.Д. Избранные труды. Элиста: Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН, 2016. 376 с.
- Житецкий И.А. Очерки быта астраханских калмыков (этнографические наблюдения 1884–1886 гг.). М.: Типография М. Г. Волчанинова, 1893. 87 с.
- Кисляков Н.А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. Л.: Наука, 1969. 240 с.
- Небольсин П.И. Очерки быта калмыков Хошеутовского улуса. СПб.: Типография Карла Крайя, 1852. 192 с.
- Попов И.И. Донские калмыки. Новочеркасск: Часовой, 1919. 49 с.
- Силантьев И. Поэтика мотива. М.: Языки славянской культуры, 2004. 295 с.
- Топалова Д.Ю. Проблемы сохранения национальных традиций и этических представлений в рассказе С. Балыкова «Сильнее власти» // Oriental Studies. 2016. № 1. С. 262–270.
- Топалова Д.Ю. Литературная деятельность калмыцкой эмиграции (1920–1930 гг.). Элиста: КалмНЦ РАН, 2017. 243 с.
- Уланов М.С., Андреева А.А. Буддизм и донские калмыки-казаки в социокультурном пространстве России // Новые исследования Тувы. 2021. № 2. С. 100–114.
- Шараева Т.И. Обряды жизненного цикла калмыков (XIX – нач. XX в.). Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2011. 223 с.
- Шараева Т.И. Свадебный полог у тюрко-монгольских народов: ритуал, функции, семантика (сравнительно-сопоставительный аспект) // Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов / отв. ред. Бакаева Э.П. Элиста: Калмыцкий институт гуманитарных исследований, 2015. № 3. С. 141–164.