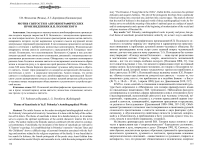Мотив святости в автобиографических произведениях Я.П. Полонского
Автор: Федосеева Татьяна Васильевна, Дорофеева Людмила Григорьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (59), 2021 года.
Бесплатный доступ
Анализируются малоизученные автобиографические произведения позднего периода творчества Я.П. Полонского с эпизодическим привлечением эпистолярия писателя. Для детального рассмотрения выделен мотив святости, инварианты которого служат выражению духовного смысла внутренней жизни центральных персонажей произведений. К исследованию применяется мотивный анализ в сочетании с выборочным ценностным комментарием. Функционально инварианты мотива святости соотносятся с выведенной В.Н. Топоровым типологией. Установлено, что в воспоминаниях Полонского «Старина и мое детство» показан трудный этап личностного становления, связанный с эмоциональным переживанием религиозного опыта семьи. Обнаружено, что героиня стихотворного рассказа Анна Галдина в искании святости не выдерживает аскетического образа жизни и поддается греху, в то время как герой рассказа «Мечтатель. Юноша 30-х годов XIX века» Вадим Кирилин преодолевает духовные заблуждения и обретает святость. Сюжет героя развивается из конкретно-исторической обстановки в мистическое, а затем - в сакральное пространство. Анализ показал, что мотив святости в изображенном мире трех автобиографических произведений Полонского служит развертыванию смысла духовных исканий автора как субъекта речи и человека начала модернизации общественного и религиозного устройства русской жизни.
Я.п. полонский, автобиографические произведения в стихах и прозе, поздний период, мотив святости, личностное становление, испытание грехом, путь человека к святости
Короткий адрес: https://sciup.org/149139253
IDR: 149139253 | DOI: 10.54770/20729316_2021_4_114
Текст научной статьи Мотив святости в автобиографических произведениях Я.П. Полонского
Большинство автобиографических произведений Я.П. Полонского относится к позднему периоду его творчества и характеризуется пристальным вниманием к проблемам духовной жизни человека и общества. Во многих произведениях поэта остро стоит главный вопрос человеческой жизни: для чего она дана и к чему стремится. Э.А. Полоцкая не без основания утверждает: «К концу жизни Полонского ... чаще звучат религиозные и мистические мотивы. Старость, смерть, мимолетность человеческой жизни - вот что его теперь особенно волнует» [Полоцкая 2006, 31]. Сам поэт свидетельствовал о том, что находит в православии ответ на главный вопрос жизни. Будучи верующим человеком, он говорил о бессмертии человеческой души, которую можно «искалечить» грехом или приблизить к Богу святостью. В 1893 г. Полонский писал великому князю К.К. Романову: «Вечны только грех (пятно на совести) или святость - только то, что искалечило душу, или то, что приблизило ее к подобию Божию - к Богу» (№ 73, л. 18 об. - 19 об., 1 апреля 1893) [цит. по: Данилевская 2019, 217].
В XIX в. слово «святой» в отношении к национальной словесной культуре было определено в «Материалах для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И.И. Срезневского. Наблюдения филолога суммировались в основных сферах применения слова в отношении к Богу («всесовершенный, исполненный святости») или человеку («чистый, непорочный», «праведник, угодник»), к учению православной церкви («ведущий к святости, освящающий»), церковным праздникам и предметам, «к религии и богослужению» [Срезневский 1890-1906, 307-310]. Обобщения Срезневского позволяют свести выраженное в памятниках русской словесности представление о святости человека к двум факторам: субъективному, в обусловленности свойствами личности («чистый, непорочный»), и объективному, в приближении к Богу усилиями души и тела, постом, трудом и молитвой («праведник, угодник»).
Из анализа древнерусских житий В.Н. Топоров вывел понятие о святости в православии как «“сверхчеловеческом” благодатном состоянии», «возрастании в духе, творчестве в духе» [Топоров 1995, 9]. Святость, таким образом, мыслится как процесс обретения утраченной в грехопадении целостности душевного, духовного и плотского, преодоление основных антропологических оппозиций - «вещественного и духовного, тварного и нетварного», того, что разделяет «божественное и человеческое, смертное
и бессмертное» [Живов 1994, 97].
В современном изучении русской литературы XIX в. художественная реализация феномена святости, как правило, устанавливается через влияние древнерусской традиции. Ее развитие обнаруживается в ходе историко-типологического анализа персонажно-образного плана произведений (выявляются «житийный» тип, типы «праведников», «подвижников», «юродивых»). Наш подход направлен на изучение святости как мотива, структурирующего художественный текст на уровне внутренней жизни персонажа и служащий развитию событийной стороны произведения в сюжете.
Цель нашего исследования - выделить и определить инварианты мотива святости в текстах автобиографических произведений Я.П. Полонского: воспоминаний «Старина и мое детство (1890) и двух рассказов в стихах - «Анна Галдина» (1890) и «Мечтатель. Юноша 30-х годов XIX столетия» (1893). Руководствуясь методикой мотивного анализа, предложенной Б.М. Гаспаровым, сконцентрируем внимание на их функционировании в художественном целом произведения. Мотивом в данном конкретном случае мы считаем повторяющийся элемент текста вне устойчивой речевой закрепленности, по Гаспарову, в мотивной функции может выступать «любой феномен, любого смыслового “пятна”» [Гаспаров 1994, 30]. Наш анализ послужит уточнению смыслового содержания текстов Полонского и ценностного мира автора.
Избранные для анализа произведения Я.П. Полонского говорят о заинтересованности в решении особенно остро стоявшего в современном ему русском обществе вопроса о духовных смыслах жизни. Острый характер этого вопроса запечатлен во многих документах времени. Сошлемся на один из них - сочинение К.Д. Кавелина «Задачи этики» (1885). Судя по наблюдениям автора, духовный кризис современной ему России сказался, прежде всего, на судьбах молодых людей: многие из них живут «бессознательно», не задумываясь о будущем, потеряв нравственные ориентиры, увлекаются «иллюзиями» и погибают или «впадают в уныние и отчаяние» [Кавелин 1885, 5]. Говоря о необходимости противостоять разрушительным тенденциям времени, Кавелин подчеркивал значимость христианской этики. В том же направлении развивалась мысль Полонского, сохранившего до конца дней преданность идеалам студенческих времен и единомыслие с молодым тогда преподавателем юридического факультета Московского университета адъюнктом Кавелиным.
Известно, что воспоминания «Старина и мое детство» были написаны Я.П. Полонским для журнала «Русский вестник». Начиная работу над ними, писатель сознавал сложность своей задачи - дать подлинные свидетельства «раннего детства»: «.. .я нахожу для себя невозможным то, что было невозможно для меня, как для ребенка, то есть понимание характеров или лиц, окружавших колыбель мою» [Полонский 1988, 357]. Это авторское замечание позволяет понять очевидную установку на достоверное воссоздание внутреннего мира ребенка, движения его души и чувств. В воспоминаниях поэта исследователи находят реализацию нравственноэтического свойства памяти, она «позволяет автобиографическому герою ощущать себя наследником прошлого и осознавать свою ответственность за будущее» [Затеева 2014, 95].
Полонский вводит в свои воспоминания свидетельства о патриархальном укладе жизни в воспитавшей его семье. Круг событий, связанных с размышлениями автобиографического героя о святости, сходится к его собственным переживаниям. Остановимся на особенно значимых. Наиболее эмоционально-напряженными переживаниями ребенка отмечен эпизод истовой молитвы о воскрешении умершей матери и детски-наи-вное недоумение: «Как! Иногда я думал: неужели и во мне и настолько нет веры, что я не мог моею горячей молитвой воскресить мать мою!» [Полонский 1986, II, 408]. Из житий святых, которые входили в круг семейного чтения, герою Полонского известны чудеса исцеления и воскрешения, знает он и то, что святость достигается верой. В трудные минуты жизни ребенок представляет себя отшельником, удалившимся от мира «в пещеры», «жаждет» «уйти в монастырь или в лес - спасаться...» [Полонский 1986, II, 408]. Так в сознании героя Полонского складывается система представлений о святости. Он знает о молитве как форме общения человека с Богом, о чудесах, творимых по молитве, о формах религиозной аскезы. Погрузившись в мечты о святости, представляет себя с нимбом над головой, которому удивятся окружающие. Размышляет герой Полонского и о грехе. Особое значение в русле этих размышлений для него имеет драматический эпизод празднования святок. Тогда едва не погиб от ожогов его младший брат. Набожная мать взяла вину за случившееся на себя, в течение двух месяцев болезни ребенка «неотлучно была при нем, мало спала, много молилась», а главное - «была убеждена, что Бог наказал ее за непозволительную ветреность» [Полонский 1986, II, 369]. Мыслями о святости и грехе пронизана вся душевная жизнь героя, ими определяется система ценностей становящегося человека.
Наблюдения показывают, что весь комплекс жизненных смыслов, привлекаемых мотивом святости во внутренний мир героя воспоминаний Полонского, отвечает евангельскому типу святости, состоящему в подражании Христу. Ассоциативное функционирование мотива в мире произведения привлекает в свой круг смыслы истового служения Богу в посте и молитве, парадигма святости как напряженной работы души и сердца поддерживается мотивами любви, греха и покаяния. Жизненные впечатления дают ребенку пищу для понимания идеи служения ближнему. В этом смысле показательны упоминания о бабушке, принимавшей в своем доме странников и лечившей народными средствами больных.
На «впечатлениях» собственного духовного становления, отраженного в воспоминаниях, выстроил Я.П. Полонский образ заглавной героини стихотворного рассказа «Анна Галдина», начало сюжетного действия которого отнесено ко времени вступления на престол императора Николая I, то есть отроческим годам Полонского. Как и автор произведения, его героиня

была воспитана в старорусском духе и православной вере, рано потеряла мать и в юности оказалась под призором двух набожных теток. В ходе повествования подчеркивается, что душа Анны открыта впечатлениям духовной жизни, на нее оказывают влияние набожные тетки, церковная служба, поездки в монастырь, полные «чудес» рассказы странниц. Таким образом, личность героини Полонского формируется в обычных для русского человека условиях, под воздействием канонических богословских представлений и тем, что С.С. Хоружим названо «внедогматическими верованиями народной религиозности» [Хоружий 1998, 174].
Первый критик произведения Л.И. Поливанов, опубликовавший его разбор отдельным изданием, обратил внимание на проникновение автора в душевный мир героини: «... рассказ переходит в широкую картину нравов и в наглядный психологический этюд, вводящий читателя в святилище души его симпатичной героини» [Поливанов 1891, 57]. И действительно, Анна Галдина обладает многими христианскими добродетелями, она нелицемерна и поступает всегда по велению сердца, нестяжательна и щедра на милостыню. Все, чем бы она ни занималась, делает для других людей: ухаживает за больным отцом и заботится о тетках, помогает нищим, целительными настоями и мазями лечит больных и увечных. Молитва является потребностью ее души и знаком искренней веры. Очевидно, что путь героини этого стихотворного рассказа Полонского определяется исканием святости: «Анна искренно уверена была / Что всю душу она Богу отдала» [Полонский 1896, V, 346].
Собственную судьбу Анна выстраивает соответственно усвоенному в детстве идеалу целомудрия. Она отказывается от роли жены и матери, но не выдерживает взятого самоограничения и погибает из-за завладевшей ее цельной натурой поздней неразделенной любви. В трудных жизненных обстоятельствах героиня ищет помощи у прослывшего в городе колдуном Мартына Ижигина. Так в сюжете Анны разоблачается наивная надежда на обретение святости по собственному произволению.
Судьбу героини Полонского мы невольно сравниваем с судьбами древнерусских женщин, прославленных в лике святых. Ф.И. Буслаев, выделив из числа других местных «житейников» Муромский, заметил, что вошедшие в него предания «особенно замечательны тем, что имеют своим предметом женщину, в ее различных семейных и бытовых отношениях, как преданную супругу, нежную сестру и любящую и глубокоуважаемую мать» [Буслаев 1999,269]. Накладывается сюжет Анны и на реальную жизненную историю второй дочери Ф.И. Тютчева, с которым Я.П. Полонского связывали дружеские отношения. Запретная любовь Дарьи Федоровны имела для нее драматические последствия и послужила поводом к написанию отцом стихотворения «Когда на то нет Божьего согласья...» (1865). Высказанная в стихотворении Тютчева надежда на Божье благословение для преданной в любви и много страдавшей души поддерживается и Полонским в отношении к героине рассказа, которой он горячо сочувствует.
Мотив святости определяет собой не только характер, но и сюжет дру- гого стихотворного рассказа Полонского - «Мечтатель. Юноша 30-х годов XIX столетия». Ранее это малоизученное произведение было нами проанализировано с точки зрения функционирования в нем исторических реалий и культурного текста Древней Руси [Федосеева 2021]. Данным аспектом рассмотрения значение произведения не исчерпывается, и мы обращаемся к нему в контексте настоящего исследования.
Герой рассказа Вадим Кирилин, переживая противоречия не вполне определенных юношеских стремлений: «Сам не понимал он, / Что иногда таилось у него / В душе болезненной, готовой верить /Ив красоту, и в Бога, и в природу, / Ив демона...», ищет гармонии в своей «восторженно настроенной душе» и не находит ее [Полонский 1894, 5]. Сюжет произведения развивается из переживаемых героем внутренних противоречий и обусловлен чередой духовно-эмоциональных потрясений, пережив которые, герой вышел на новый уровень понимания жизни и обрел святость.
Первым потрясением было видение призрака русской княжны времен монголо-татарского нашествия на развалинах великокняжеского дворца, среди кладбищенских крестов и плит старинного монастыря. Призрак овладел воображением и чувствами героя: «Мечтал он и, мечтая, домечтал-ся / До лихорадочного бреда...», - замечает рассказчик [Полонский 1894, 7]. Таинственный образ выступает в диалоге с Вадимом свидетелем драматической страницы в русской истории и, одновременно, воплощает в его воображении идеал женской красоты, становясь для него наваждением.
Второе потрясение герой Полонского пережил, столкнувшись с воплощенным идеалом женской красоты в реальности. Случайная встреча с безымянной красавицей происходит тоже у стен монастыря. Ее образ Вадим воспринимает изнутри собственных идеалистических представлений. Он замечает физическую сторону и обаяние незнакомки, говорит о «молитвенном» настроении и «невыразимой грусти» в ее лице, называет ее красоту «небесной» и «чистой». Кажется, совсем не случайно герой сравнивает свое впечатление с впечатлением от образа мадонны Рафаэля [Полонский 1894, 19]. Красота земной женщины возводится в воображении героя в высшую степень, но вполне очевидно, что в европейском понимании божественного. Кстати будет вспомнить, что художественное воплощение святости в человеческом образе, свойственное западной культуре, было отделено С.С. Аверинцевым от восточного в статье «Красота как святость». В ней, во-первых, утверждается, что красота - «категория не эстетическая, а уж, скорее, онтологическая», а во-вторых, отмечается, что внешне максимально выразительный способ «готического» воплощения святости ограничен уровнем «душевности», тогда как иконография старорусского письма отличается предельной сдержанностью художественных средств и полнотой духовного погружения: «Русский мастер хочет не внушать, не трогать, не действовать на эмоции, а показывать самое истину, непреложно, непререкаемо о ней свидетельствовать. Этот долг принуждает его к величайшей сдержанности...» [Аверинцев 1990, 190].
Очевидно, что из странствия герой Полонского возвращается, приоб-
щившись к старорусскому пониманию красоты и истины. Рассказчик сообщает, что в хождении по святым местам он обрел «иной идеал». Вернувшись в родной дом, герой Полонского совершенствуется в познании этого идеала: «Стал доставать он книги в стародавних / Источенных червями переплетах, / Славянские божественные книги / И стал учиться - иначе сказать, / Стал переучиваться» [Полонский 1894, 38]. Освободившись от романтических мечтаний, осознав, что поклонялся «праху», Вадим находит в книгах по богословию иное знание о человеке, времени и истории.
На этом этапе духовных исканий героя Полонского мистический элемент повествования входит в русло православной традиции. В познании истины Вадим отталкивается от рационализма философской мысли и сосредоточивается на иррациональности веры. Он приобщается к высшему духовному миру, в подвиге целомудрия и самоотречения обретая святость. Нельзя не заметить, что его подвиг показан, соответственно православной традиции, как благословение, а не результат усилий собственной воли (так было в случае с Анной).
Для рассказа о мечтателе характерно качественно иное, сравнительно с двумя рассмотренными выше текстами, функционирование мотива святости. Он перестает быть частью внутреннего сюжета героя и определяет собой внешнюю, событийную сторону произведения. «Инаковость» Вадима проявлена в отношениях с близкими и друзьями. Мать, сравнивая его с другими детьми, замечает, что «он дик и недоверчив», рассказчик, назвавшийся другом героя, говорит о его любви к уединению, в котором «он ждал чего-то необычайного». Наконец, сам герой, говоря о своем спонтанном странствии, замечает, что шел «куда глаза глядят», по наитию оказался он в храме, чтобы стать свидетелем того, как почитаемая им за идеал красавица «за деньги» венчается с «безнравственным уродом». Наиболее значимые шаги героя в «борьбе с лукавым искушеньем» бессознательны, что отвечает признанной логике поведения в миру святого. В православии, пишет В.М. Живов, «подвиг, совершаемый святыми, рассматривается ... не столько как достижение самого святого, сколько как действие благодати Божией, как явление Божественного промысла» [Живов 1994, 94].
В описании ухода-успения героя обнаруживается явная аллюзия на житие царя Федора Ивановича, прославленного церковью в чине благоверных. Своему другу герой сообщает о видении: «Светлый весь / В святительской одежде, подошел / Ко мне святой с улыбкой благотворной / И кротким взглядом...» [Полонский 1894, 44]. Описание провидческого явления содержит прямую цитату из «Повести о честном житии... государя царя и великого князя Федора Ивановича...», написанной патриархом Московским Иовом: «У постели моей стоит светлый муж в одежде святительской, говорит со мной, повелевая идти с ним», - отвечает государь боярам на вопрос о том, с кем он говорил [Повесть о честном житии... 1910].
История недолгой жизни «мечтателя» в рассказе Полонского целиком прочитывается в топике житийного текста. В нем содержится сообщение о благочестивом образе жизни матери-вдовы, свидетельства ранней при- верженности героя церкви и аскетического удаления от радостей земной жизни. В том же ряду в сюжете произведения стоят искушение видением-призраком, побег из дома, страннический путь в поисках твердой веры, смерть-успение.
Рассказчиком герой назван юношей с «кристально чистой» душой. Путь Вадима к святости вписывается в общую подвижническую схему: «от искушения, борьбы со своими страстями и с бесами - к духовному совершенству» [Дорофеева 2013, 138]. Действительно, сюжетная линия произведения развертывается из профанного мира в сакральный, тогда как характер героя проявляется в движении к идеалу святости, напоминая образы святых труженического типа, не канонизированных Церковью. В.Н. Топоров называет среди примет такого типа не только смирение, но «духовную неуспокоенность, подвижничество, неустанный поиск Правды и жизни по правде-справедливости, истинное духовное покаяние» [Топоров 1995, 13].
Таким образом, наше исследование позволило выделить в комплексе автобиографических произведений Я.П. Полонского инварианты мотива святости. Среди них - святость для других (в наивном желании ребенка быть замеченным, когда над его головой проявится нимб), искание святости по личному произволению (в стремлении Анны следовать идеалу) и, наконец, святость, дарованная вышней волей и заслуженная подвижническим трудом (в преодолении Вадимом искушения своевольных мечтаний). Функции мотива святости сводятся к развертыванию смыслов личностного становления героя, испытания грехом и сложной внутренней работы человека над собой.
Автобиографический характер произведений позволяет говорить о реализации в художественном пространстве произведений духовных исканий автора как субъекта речи и человека начала модернизации общественного и религиозного устройства русской жизни.
Нельзя не заметить, что мотив святости, чаще всего выступает в произведениях Полонского в бинарной оппозиции «святость / грех». С этой стороны литературное наследие писателя еще предстоит изучить.
Список литературы Мотив святости в автобиографических произведениях Я.П. Полонского
- Аверинцев С.С. Красота как святость // Курьер ЮНЕСКО. 1990. № 8. C. 188-190.
- Буслаев Ф.И. Идеальные женские характеры Древней Руси // Буслаев Ф.И. О литературе: исследования; статьи / сост., вступ. ст. и примеч. Э.Л. Афанасьева. М.: Художественная литература, 1990. С. 261-294.
- Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века. М.: Наука; Восточная литература, 1993. 304 с.
- Данилевская (Степина) М.Ю. К.Р. и Я. Полонский о религиозном чувстве в искусстве: по страницам переписки двух поэтов // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2019. № 4. С. 213-219.
- Дорофеева Л.Г. Человек смиренный в агиографии Древней Руси (XI - первая треть XVII века): монография. Калининград: ООО «Аксиос», 2013. 436 с.
- Живов В. М. Святость. Краткий словарь агиографических терминов. М.: Гнозис, 1994. 112 с.
- Затеева Т.В., Новокрещенных Е.Г. Автобиографическая проза русских поэтов XIX века: А.А. Григорьев, Я.П. Полонский, А.А. Фет. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского ун-та, 2014. 125 с.
- Кавелин К.Д. Задачи этики: Учение о нравственности при современных условиях знания. СПб.: тип. М. Стасюлевича, 1885. 107 с.
- Повесть о честном житии благоверного и благородного и христолюбивого государя царя и великого князя Федора Ивановича всея Руси, о его царском благочестии и о добродетельном исправлении, о святом его преставлении. Писано смиренным Иовом патриархом Московским и всея Руси // Полное собрание русских летописей. Т. 14. Часть 1. СПб.,: Тип. М.А. Александрова, 1910. С. 1-22.
- Поливанов Л.И. Вечерний звон: Стихи 1887-1890 Я.П. Полонского. Разбор Л.И. Поливанова. Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1891. 63 с.
- Полонский Я. П. Сочинения: в 2 т. / сост. и коммент. И.Б. Мушиной. Т. 2. М.: Худож. лит., 1986. 461 с.
- Полонский Я.П. Мечтатель: Юноша 30-х годов XIX столетия: Рассказ в стихах. М.: изд. Л. Поливанова, 1894. 52 с.
- Полонский Я.П. Полное собрание стихотворений: в 5 томах. СПб.: А.Ф. Маркс, 1896.
- Полонский Я.П. Проза / сост., вступ. ст., и примеч. Э.А. Полоцкой. М.: Сов. Россия, 1988. 494 с.
- Полоцкая Э.А. Вклад Я.П. Полонского в русскую поэзию // Русская словесность. 2006. № 5. С. 26-32.
- Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб.: Изд-е Отд-ния рус. яз. и словесности Императорской акад. наук, 1890-1906.
- Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. Первый век христианства на Руси. М.: Гнозис - Школа «Языки русской культуры», 1995. 875 с.
- Федосеева Т.В. Древняя Русь в стихотворном рассказе Я.П. Полонского «Мечтатель. Юноша 30-х годов XIX столетия» // Литература Древней Руси и Нового времени: матер. XI всеросс. конф. / под общ. ред. Н.В. Трофимовой. М.: МПГУ, 2021. C. 175-187.
- Хоружий С.С. К феноменологии аскезы. М.: Изд-во гуманитар. лит., 1998. 352 с.