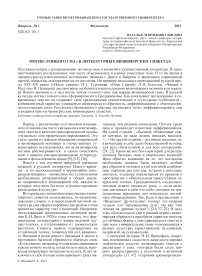Мотив «тонкого сна» в литературных визионерских сюжетах
Автор: Шилова Наталья Леонидовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (130), 2013 года.
Бесплатный доступ
Поставлен вопрос о разграничении мотивов снов и видений в художественной литературе. В предшествовавших исследованиях они часто объединялись в единое смысловое поле. В то же время в литературно-художественных источниках начиная с Данте и Байрона и заканчивая современной прозой, напротив, подчеркивается их различие. На примере нескольких произведений русской прозы XIX-XX веков («После смерти» И. С. Тургенева, «Отец Сергий» Л. Н. Толстого, «Чапаев и Пустота» В. Пелевина) рассмотрены особенности использования визионерских мотивов в литературе Нового времени и, в частности, мотив «тонкого сна» как маркер визионерской темы. В русской культуре мотив «тонкого сна» сформировался в Средневековье. Как показывает исследование, в современных текстах он сохраняет свои традиционные семантические и стуктурные особенности -амбивалентный характер, узнаваемую визионерскую образность, дифференциацию с обычным физиологическим сном. Результаты проведенного анализа заставляют четко дифференцировать сны и видения при изучении русских визионерских сюжетов.
Русская литература, видения, тургенев, л. толстой, пелевин
Короткий адрес: https://sciup.org/14750357
IDR: 14750357 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Мотив «тонкого сна» в литературных визионерских сюжетах
Наряду с различными состояниями измененного сознания сны часто указывались в визионерских текстах в качестве психофизической основы «чудесных» или пророческих переживаний. Это стало одним из поводов сближения онирической и визионерской мотивики в отечественных гуманитарных исследованиях, когда визионерские мотивы рассматриваются в одном смысловом поле с широко распространенными литературными и фольклорными снами [9], [15], [16].
Вместе с тем изучение жанровой традиции видений в русской литературе Нового времени – а это малоосвоенный и чрезвычайно интересный материал – немыслимо без установления необходимых разграничений в общем массиве онирической и визионерской тем, каждая из которых получила богатую и разностороннюю реализацию в культуре1.
Исторически отношения сновидческих и визионерских сюжетов складывались, по-видимому, довольно сложно, и в накопленной научной литературе уже сформулированы две разные точки зрения на характер этих отношений. Например, исследовавший средневековые латинские видения Б. И. Ярхо в 1920-е годы отмечал, что формирование литературного жанра видений осуществлялось в отталкивании от сновидческих рассказов. Сюжеты первых основывались на устойчивой топике, почерпнутой из Священного Писания и религиозного предания в целом в противовес бытовой образности обычных снов: «Естественно, например, что видение, явившееся в религиозном экстазе, когда воля и мысль ясновидца направлены на предметы культа, будет заключать в себе больше возвышающего душу ма
териала, чем рядовое сновидение. Потому среди снов и происходит известная дифференциация. На одной стороне – обычные, обманчивые сны, из которых не надо делать никаких выводов. <...> На другой стороне – истинные видения, заключающие в себе долю божественной истины, для всех обязательной и для всех интересной» [24; 22]. Каков же мог быть критерий для разграничения бытовых снов и сакральных видений? Ярхо обратил внимание на то, что последние необходимо должны были включать особый ряд образов и мотивов в той или иной комбинации: картины рая или ада, встречи с ангелами, святыми, чудесные перемещения во времени и пространстве с обязательным присутствием сакральной топики. Традиционность «чудесных» мотивов играла основную роль: «…если видение заключало в себе что-либо, похожее на традиционные верования, оно почиталось достойным обнародования. Так, Беда в предисловии к <Видению> Др<итхелма> считает это видение годным для “просвещения душ”, так как “оно похоже на древние чудеса”» [24; 22–23]. В силу этих обстоятельств уже в ранний период визионерская образность приобрела характер топосов, устойчивых формул, повторяющихся в текстах и при всем универсализме темы отличающихся в разных культурах (христианской, буддийской, иудейской, мусульманской).
Советский историк Н. И. Прокофьев, напротив, подчеркивал сходство и даже постулировал генетическое родство визионерских текстов с рассказами о снах, «которые были столь широко распространены в восточной и античной литературе» [13; 47]. «Героями древнегреческо- го эпоса, – отмечает исследователь далее, – нередко являются боги, причем это явление дается обычно в сновидениях» [13; 47]. Однако эта апелляция к опыту мировой литературы едва ли может быть признана убедительной и исчерпывающей. Совершенно не вписывается в эту концепцию, например, широко распространенный в народной культуре жанр «обмираний», когда потусторонний мир являлся духовидцам в состоянии летаргии [6], [7]. Да и античная культура знала образцы видений наяву. В гомеровской «Илиаде» уже в первой песне Афина въяве, а не во сне предстает перед Пелеем в разгар битвы, невидимая для других участников боя.
Не исключено, что указание на генетическое родство снов и видений было для Н. И. Прокофьева вынужденным ходом, оправдывающим непопулярную в советской науке тему визионерства. В то время как физиологический сон и сновидения были вполне приемлемым объектом исследования для позитивистского типа научной мысли, визионерство, пророчества и прочее прочитывались ею как психические девиации, не обладающие какой-либо смысловой значимостью. Кроме того, позитивистское же отношение к сну как к «ненастоящей» реальности в известной степени демистифицировало визионерские сюжеты, которые Н. И. Прокофьев в целом трактовал как условные риторические конструкции, которые, по его утверждению, по крайней мере на русской почве, с самого начала были «мало мистичны», а «скорее общественно-практичны и даже национально-государственны» [12; 53].
Суммируя наблюдения, приводящиеся в различных источниках, посвященных литературным снам и видениям, можно обнаружить как черты сходства онирической и визионерской мотивики, так и важные различия между ними. Если говорить о сходствах, то и сны, и визионерские переживания как психофизические феномены носят иррациональный характер, в терминах клинической психологии это измененные состояния сознания. В формах культурных репрезентаций (в виде фольклорных или литературных текстов) сны и видения также демонстрируют определенную общность: и там, и здесь повествование ведется о субъективных переживаниях, центрированных на фигуре сновидца или ясновидца; и в одном, и в другом случае исходная иррациональная образность представлена в виде символики, а рассказ представляет собой не просто фиксацию, но одновременное истолкование символических образов.
Различия двух тем в существующих источниках исследованы гораздо меньше. На уровне психофизического феномена примечателен всегда сверхъестественный, исключительный характер видений в противовес обыденности и всеобщности сна как физиологического состояния. На уровне литературного отображения обращает на себя внимание образная и тематическая ограниченность визионерского дискурса, отмеченная выше в пассаже Б. И. Ярхо: устойчивая сакральная или потусторонняя топика видений противоположна в значительной степени индивидуализированной образности обычных литературных снов. Таков, скажем, в «Анне Карениной» сон Стивы Облонского, которому снятся светский обед, поющие по-итальянски стеклянные столы «и какие-то маленькие графинчики и они же женщины» [19; 7–8]. При всей фантастической конструкции этого сна его образный ряд повторяет все то, что составляет дневной обыденный интерес Стивы: женщины, еда, вино, светские развлечения. По справедливому замечанию В. Набокова, «автор искусно изображает легкомысленную и незатейливую, распутную, эпикурейскую природу Стивы через призму его сна» [8; 233–234].
Очевидно, что при разных ракурсах исследования актуализацию может получать как соположение, так и разграничение онирической и визионерской мотивики. Соположение необходимо появляется в работах по поэтике и семиотике сна, когда в круг рассмотрения попадают все литературные сны независимо от их бытовой или сверхъестественной образности. Например, собранные и прокомментированные А. Панченко полевые материалы, которые приводятся в сборнике «Сны и видения в народной культуре», указывают на то, что для фольклорной традиции разграничение снов и видений не всегда актуально и в практике ряда сохранившихся до XX века магических ритуалов (например, «заветов») сновидение порой «выполняет роль реплики потустороннего мира, адресованной конкретному человеку и побуждающей его к совершению ритуальных действий» [16; 20]. Именно в народной культуре часто встречается особая форма, пограничная по семантике между бытовым сном и сакральным видением, – это разного рода «вещие сны», в которых чисто бытовой событийный ряд соотносится со сферой магического и чудесного.
Для литературной же традиции в большей мере характерно разграничение обычных и «чудесных» снов. Уже средневековые источники разводили бытовые сны и сакральные видения по разным типологическим группам. Популярная средневековая европейская «энциклопедия» «Луцидариус», переведенная на русский язык в первой четверти XVI века, на вопрос о природе человеческих снов отвечала: «Некогда бываютъ сония всесилнаго Бога пречюдными судбами, еже Иосифъ, сынъ Ияковль, виде еже онъ братiи своеи господинъ имать быти, такоже во сне iзвещение приемъ отъ ангела Иосифъ правед-ныи. <...> Некогда же приходятъ сония отъ диавола, егда онъ нечно доброе помешати хочетъ, яко жене Пилатове. <...> А иныя сония бывают человеком оттого, еже что они во дни обходили i зрели и слышали» [12; 468]. Классификация, как мы видим, нацелена на то, чтобы отграничить сны-откровения и рядовые физиологические сновидения, не имеющие сверхъестественного характера. Подобное рассуждение находим и в 4-й книге «Собеседований» Григория Великого, где различались шесть причин сновидений: «Иногда сны рождаются от полноты желудка, иногда от пустоты его, иногда от наваждения (диавольского), иногда от размышления и наваждения вместе, иногда от откровения, иногда от размышления и откровения вместе» [14; 293].
Книжная традиция относилась к разграничению бытовых снов и сакральных видений с большой строгостью. Кодифицировав жанр видений, средневековая письменность отвергла бытовые сновидческие рассказы. Для средневекового жанра существенными были только «чудесные» сны, открывавшие ясновидцу доступ в потусторонний мир. Оппозиция сна как обыденного физиологического состояния и «чудесных» видений, посещавших во сне избранных духовидцев, привычна для средневековой литературы.
Стремление отграничить визионерские состояния от обычных снов проявилось в средневековых текстах, например, в формировании круга устойчивых эпитетов, связанных с этой темой. Визионерские сны, как правило, особо выделялись при упоминании. Единого термина не было, но среди маркирующих эпитетов можно отметить следующие : «сонное видение», «чудесный сон», «тонок сон». Позднее, с ростом рационального скептицизма ясновидцам все чаще приходилось доказывать, что потусторонний мир существует въяве, а не просто приснился им. Известный датский ученый и визионер, автор обширных трактатов о потустороннем мире Карл Сведенборг уверял, «что это не выдумка, а что он действительно все это видел и слышал, и притом не в каком-либо особенном состоянии души во время сна, а в состоянии полного бодрствования» [18; 111].
Итак, обособление визионерских переживаний от тривиальных сновидений было одним из устойчивых элементов визионерского дискурса. «Внутренним» маркером было содержание «сонного видения» – эсхатологические картины, ангелы, демоны и т. п. «Внешними» указаниями служили особые обстоятельства сновидения: это мог быть сон во время болезни (интенсивность измененного состояния сознания в этом случае удваивается), сон после произнесенной молитвы, сон в критической эмоциональной ситуации и т. п.
При внимательном рассмотрении визионерских сюжетов в литературе Нового времени оказывается, что для них это разграничение тоже осталось существенным. Чаще всего введение мотива сна в визионерские эпизоды соответствует формуле, где указание на сон сопровождается особыми оговорками, часто парадоксального характера: «это был сон, но не обычный сон». Так было не только в средневековой литературе.
В «Божественной комедии» Данте, где визионерский сюжет был переведен из плоскости чисто богословской в плоскость художественную, автор уподоблял визионерское переживание сну, не отождествляя их:
Дохнула ветром глубина земная, Пустыня скорби вспыхнула кругом, Багровым блеском чувства ослепляя;
И я упал, как тот, кто схвачен сном. <...> Ворвался в глубь моей дремоты сонной Тяжелый гул, и я очнулся вдруг, Как человек насильно пробужденный (пер. М. Лозинского) [5; 21–22].
«I had a dream, which was not all a dream» («Я видел сон... Не все в нем было сном» (пер. И. С. Тургенева)) – еще одна характерная формулировка, открывающая одно из известных стихотворений Байрона [1; 346–347].
Если обратиться к примерам из русской литературы XIX–XX веков, мы встретим и визионерские сны («После смерти (Клара Милич)» И. С. Тургенева, «Отец Сергий» Л. Н. Толстого), и видения, описанные как разного рода болезненные состояния, галлюцинации или религиозный экстаз («Братья Карамазовы» Ф. И. Достоевского, «Фальшивый купон» Л. Н. Толстого, «Черный монах» А. П. Чехова, «Христос и Антихрист» Дм. Мережковского, «Аполлон Безобразов» Б. Поплавского, «Кысь» Т. Толстой, многие произведения В. Сорокина и В. Пелевина). Так же, как и в эпоху готового слова, визионерские переживания в текстах XIX–XX веков отмечены печатью исключительности. Соотнесенность видимого и невидимого миров открывается духовидцам в «пограничных» состояниях.
Пример непростых взаимоотношений онири-ческих и визионерских мотивов в литературных сюжетах XIX века мы обнаруживаем в повести И. С. Тургенева «После смерти (Клара Милич)» (1883) и неоконченной повести Л. Н. Толстого «Отец Сергий» (1898). Близкие по времени создания, эти тексты содержат яркие эпизоды, когда мистическое откровение приходит герою в переживании, похожем и на сон, и на явь одновременно. Исследователи уже отмечали близость обоих произведений к традиции народного мистицизма [4], [7]. В новейшей литературе множество примеров обыгрывания границы сна и видения можно найти в романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота». Рассмотрим три упомянутых текста в хронологическом порядке, который, впрочем, условен, когда речь идет о литературной топике.
Содержательно визионерский сюжет повести Тургенева связан с темой посмертного существования, которая привносит в произведение целый ряд характерных мотивов, начиная особым типом героя (ясновидца) и заканчивая упоминанием о мытарствах. Главный герой Аратов становится жертвой навязчивых снов и болезненных состояний: ночами ему является призрак покойной девушки, сначала во сне, затем наяву. Постепенно различие между реальностью и сновидениями для Аратова стирается, и в финале он переходит границу загробного существования. В повести обнаруживается целая градация выстроенных в единый ряд разнообразных сновид-ческих и визионерских переживаний, расположенных по принципу усиления. Череда особых состояний Аратова открывается вещим сном, продолжается загадочными галлюцинациями, сочетающими черты сна и яви, и, наконец, завершается обмороками и смертью героя.
Парадоксальным образом видения Аратова и сопоставлены со снами, и противопоставлены им. Так, первое появление Клары происходит будто бы во сне, что «привиделся» Аратову «перед зарею» [21; 92]. Однако постфактум уже этот первый сон особенным образом маркирован. Он представляется необычным самому герою: «Он приподнялся в постели, зажег свечку, стоявшую на ночном столике, – но не встал – и долго сидел, весь похолоделый, медленно осматриваясь кругом. Ему казалось, что с ним что-то свершилось с тех пор, как он лег; что в него что-то внедрилось... что-то завладело им» [21; 93–94]. Воздействие увиденных образов оказывается сопоставимо с происходящим наяву, как это свойственно визионерским переживаниям.
Маркирующая деталь «тонкого сна» помещена в данном случае в постпозиции, а не в препозиции рассказа. Такой порядок событий усиливает психологическую достоверность описываемого: вместе с Аратовым читатель воспринимает происходящее сначала как обычный сон, и лишь затем обнаруживает его необычный характер. Визионерский канон охотно допускал такую модель с тем условием, что ясновидец по пробуждении получал некое дополнительное подтверждение сакральности переживания. В повести Тургенева эту роль выполняет финальная деталь, придающая сверхъестественный характер повествованию, когда у умершего уже героя в руке оказывается зажата загадочная прядь волос, как можно догадаться, покойной Клары, как будто принесенная из потустороннего мира. Такой мотив нередко появлялся в средневековых визионерских текстах. Например, в византийском «Кратком житии Евфросина-повара» некий пресвитер во время сна посетил райский сад с чудесными плодами и по пробуждении обнаружил их у себя в руке: «И в это время ударили в било и, пробудившись, пресвитер подумал, что видел сон, но когда выпростал левую руку свою из плаща и в ней в яве лежали яблоки, восхитился ум его» [2; 182]. Потусторонняя реальность была не только зрима, но и ощутима. А. Я. Гуревич ссылается на средневековый сюжет: «…раны и ожоги, которые визионер получил на том свете, когда душа его покинула телесную оболочку, по реанимации оказались на его теле, и он очень страдал от них до конца своих дней» [4; 173].
Весь сюжет выстроен так, что в снах Аратова все более подчеркивается их амбивалентный, сочетающий черты и сна, и яви характер. В целом переживания Аратова идеально соответствуют формуле, знакомой Тургеневу как по топике народных визионерских легенд и «обмираний», так и по литературным источникам. Знаменательно, что именно Тургенев в 1846 году опубликовал уже цитированный выше один из лучших русских переводов байроновской «Тьмы» с ее визионерским зачином: «Я видел сон, не все в нем было сном».
В отличие от повести Тургенева, мотив «чудесного» сна в «Отце Сергии» строго локализован – это лишь один эпизод, помещенный почти в финале всей истории. И в то же время эпизод оказывается совсем не проходным, а знаменует собой кульминацию происходящих событий. Обессилевший от борьбы с соблазнами, отец Сергий близок к поражению в этой борьбе и стоит на грани самоубийства, когда в визионерском переживании приходят решение и помощь. Описание и здесь акцентирует амбивалентный характер переживания: нельзя точно сказать, действительно ли во сне или наяву герой видит то, что видит: «Он лежал, облокотившись на руку. И вдруг он почувствовал такую потребность сна, что не мог держать больше голову рукой, а вытянул руку, положил на нее голову и тотчас же заснул . Но сон этот продолжался только мгновение; он тотчас же просыпается и начинает не то видеть во сне, не то вспоминать » (курсив наш. – Н . Ш .) [20; 375]. Примечательнее всего эта неопределенность в описании состояния героя, в действительности фиктивная. Потому что несколькими строками ниже автор заставит героя заснуть со всею определенностью: «Так он лежал долго, думая то о своем необходимом конце, то о Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец он заснул» [20; 376]. Ретроспективно эта фраза заставляет понять, что возникший из глубин памяти образ Пашеньки – это все-таки не сон. Неопределенность в описании важна Толстому для того, чтобы обозначить необычный тип переживания, его небытовой характер. И наконец, уже отчетливо визионерским сном эпизод завершается: «Наконец он заснул. И во сне он увидал ангела, который пришел к нему и сказал: “Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение”. Он проснулся и, решив, что это было виденье от Бога, обрадовался и решил сделать то, что ему сказано было в видении. Он знал город, в котором она живет, – это было за триста верст, – и пошел туда» [20; 376]. И в описании особого состояния героя, и в образах самого сновидения (ангел, пророчество) Толстой следует книжной визионерской модели2.
Формула визионерского «тонкого сна» продолжает свое бытование и в постклассической русской литературе. Более того, именно здесь, когда автор обращается к читателю во все более свободной литературной форме, возникает необходимость прописывать маркеры визионерской темы более развернуто и детально. Так происходит, например, в романе В . Пелевина «Чапаев и Пустота», в котором визионерская тема занимает важное место. В ее развитии автор задействует многие варианты – сон, галлюцинации, различные видения наяву. Примечательным же является стремление во всех случаях подчеркнуть амбивалентный характер переживания со стертой границей между сном и явью. «Я решил, что галлюцинирую, но потом сообразил, что если то, что я вижу, – галлюцинация, то вряд ли она сильно отличается по своей природе от всего остального», – констатирует герой-ясновидец [10; 289].
Сон можно назвать одним из самых частотных мотивов романа. Он сопровождает многократные перемещения героев между разнообразными символическими реальностями, в которых они пребывают. Визионерскую основу «сновидений» героя подчеркивают формулировки типа «сновидческая легкость», с которой приходят видения или сон как «водоворот фантастических видений», и т. п. Изложению темы «тонкого сна»
подводится своеобразный итог в иронической формуле, когда один из персонажей следующим образом комментирует строки известной русской песни: «Слышь, поют: “Мне малым мало спалось да во сне привиделось”. Это знаешь что значит? Что хоть и не спалось, а все равно привиделось как бы во сне, понимаешь?» [10; 285].
Для литературной традиции существенным оказывается не только соположение онириче-ской и визионерской мотивики, но и их устойчивое противопоставление. Образность «тонкого сна» в значительной степени опирается на визионерскую легенду и использует ее топику (ангел у Толстого, прядь волос в повести Тургенева, эсхатологические образы в романе Пелевина), отчасти изменяется в соответствии с меняющейся в сознании авторов и читателей картиной мира. В новой литературе читатель почти не найдет развернутых описаний рая и ада, но содержательные и формальные маркеры визионерской темы присутствуют в тексте. Мотив «тонкого сна» как особого амбивалентного состояния относится к числу этих маркеров, сигнализируя о визионерском характере переживания, как и в средневековой литературе.
MOTIF OF “ TRANSPARENT DREAM ” IN VISIONARY LITERATURE
Список литературы Мотив «тонкого сна» в литературных визионерских сюжетах
- Английская поэзия в русских переводах. М.: Прогресс, 1981. 684 с.
- Византийские легенды. Л.: Наука, 1972. 304 с.
- Гродецкая А. Ответы предания: жития святых в духовном поиске Льва Толстого. СПб.: Наука, 2000. 699 с.
- Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М.: Искусство, 1990. 395 с.
- Данте. Божественная комедия. М.: Интерпракс, 1992. 624 с.
- Криничная Н. А. Этнография религии. Легенды о возвращении из загробного мира (по восточнославянским материалам)//Этнографическое обозрение. 2005. № 6. С. 114-129.
- Лурье М. Л. Странствия души по тому свету в русских обмираниях//Живая старина. 1994. № 2. С. 21-26.
- Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1996. 437 с.
- Нечаенко Д. А. Сон, заветных исполненный знаков. М.: Юридическая литература, 1991. 414 с.
- Пелевин В. О. Чапаев и Пустота. М.: Вагриус, 2003. 302 с.
- Пигин А. В. Видения потустороннего мира в русской рукописной книжности. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. 428 с.
- Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях по рукописи соловецкой библиотеки. СПб., 1890.
- Прокофьев Н. И. Видение как жанр в древнерусской литературе//Ученые записки МГПИ им. В. И. Ленина. 1964. Т. 231: Вопросы стиля художественной литературы. C. 35-56.
- Святого отца нашего Григория Двоеслова Епископа Римского собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души. М.: Благовест, 1996. 309 с.
- Сны и видения в народной культуре. М.: Издательство РГГУ, 2002. 381 с.
- Сны и видения в славянской и еврейской культурной традиции: Сб. ст. М., 2006. 226 с.
- Сухов А. А. Феномен визионерства: культурно-исторические основания и модификации. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. 212 с.
- Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М.: Политическая литература, 1989. 573 с.
- Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 8. М.: Худож. литература, 1981. 495 с.
- Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 12. М.: Худож. литература, 1982. 478 с.
- Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения в 12 т. Т. 10. М.: Наука, 1982. 607 с.
- Шилова Н. Л. Визионерские мотивы в постмодернистской прозе 1960-1990-х годов (Вен. Ерофеев, А. Битов, Т. Толстая, В. Пелевин). Петрозаводск: Изд-во КГПА, 2011. 120 с.
- Ямпольский М. Ткач и визионер: Очерки истории репрезентации, или о Материальном и идеальном в культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2007. 616 с.
- Ярхо Б. И. Из книги «Средневековые латинские видения»//Восток-Запад: Исследования, переводы, публикации. М.: Наука, 1989. Вып. 4. С. 18-55.