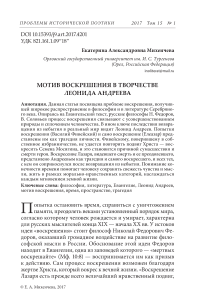Мотив воскрешения в творчестве Леонида Андреева
Автор: Михеичева Екатерина Александровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.15, 2017 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена проблеме воскрешения, получившей широкое распространение в философии и в литературе Серебряного века. Опираясь на Евангельский текст, русские философы Н. Федоров, В. Соловьев процесс воскрешения связывают с усовершенствованием природы и сплочением человечества. В ином ключе последствия возвращения из небытия в реальный мир видит Леонид Андреев. Попытки воскрешения (Василий Фивейский) и само воскрешение (Елеазар) представлены им как трагедия личности. Фивейскому, поверившему в собственное избранничество, не удается повторить подвиг Христа - воскресить Семена Мосягина, и это становится причиной сумасшествия и смерти героя. Воскресение Лазаря, видевшего смерть и ее преодолевшего, представлено Андреевым как трагедия и самого воскресшего, и всех тех, с кем он соприкоснулся после возвращения из небытия. Понимание конечности времени помогает человеку сохранять свежесть чувства и мысли, жить в рамках морально-нравственных категорий, наслаждаться каждым мгновением земной жизни.
Философия, литература, евангелие, леонид андреев, мотив воскрешения, время, пространство, трагедия
Короткий адрес: https://sciup.org/14749009
IDR: 14749009 | УДК: 21.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2017.4201
Текст научной статьи Мотив воскрешения в творчестве Леонида Андреева
Попытка остановить время, справиться с уничтожением памяти, преодолеть веками установленный порядок мира, согласно которому человек рождается и умирает, характерна для русских мыслителей конца ХIХ — начала ХХ вв. У истоков идеи «воскрешения» стоит философ Николай Федорович Федоров, оказавший громадное воздействие на развитие философской мысли в России. Обоснование этой идеи Федоров находит в Евангелии, одна из заповедей которого — «мертвых воскрешайте» (Мф. 10:8) — воспринимается им как призыв к действию. Сам процесс воскрешения возможен благодаря жертве Христа, который вокрес к вечной жизни. «Воскрешение Лазаря есть прежде всего величайший нравственный подвиг, проявление безграничной любви и мужества до самоотвержения, ибо возвратить жизнь Лазарю Христос мог, только положив жизнь собственную», — так оценивает «мессианское дело Христа» русский философ [13, 396].
«Философия общего дела» Федорова строится на идее, что человек такой же творец, как и Творец, и он призван усовершенствовать этот мир. Путь к совершенствованию — сплочение Человечества, регуляция природы, погружение в «толщу рода», присущее каждому чувство сопричастности — и только на этом пути можно достичь Бессмертия. Воскрешение — процесс длительный и постепенный. Согласно Федорову, победа над смертью может свершиться только при сложении творческих усилий и труда всего Человечества, которое, преодолевая болезни и смерть, движется к Бессмертию [13]. Эта теория была близка творческой интеллигенции Серебряного века: В. Брюсову, В. Маяковскому, В. Хлебникову, М. Пришвину, А. Платонову, Б. Пастернаку.
Другой выдающийся русский философ, Владимир Сергеевич Соловьев, в статье «Идея сверхчеловека» развивает мысль Федорова о преодолении смерти. Говоря о господствующих в современном мире трех модных идеях: «Маркс, Лев Толстой, Фридрих Ницше» — третью идею Соловьев называет «самою интересною» [11, 611]. На ницшеанство, считает он, нужно посмотреть « с хорошей стороны » [11, 612]: в понятии «сверхчеловек» можно услышать не только «голос ограниченного и пустого притязания», но и голос, «предваряющий бесконечную будущность» [11, 612–613]. Человеческая форма может беспредельно совершенствоваться — и это путь к преодолению смерти.
Подобный подход к идее будущего воскрешения оспорил Н. Федоров в статье «Бессмертие, как привилегия сверхчеловеков. (По поводу статьи B. C. Соловьева о Лермонтове)». Согласно В. Соловьеву, к «бесконечной будущности» подготовлен только «сверхчеловек». Все умершие, утверждает Н. Федоров, должны быть возвращены «любовью и знанием всех потомков» [12, 139]. Лермонтов, которого В. Соловьев относит к «сверхчеловекам», «не понял бы бессмертия сынов без воскрешения отцов» [12, 139]. «Сверхчеловечество бессмертное, в соловьевском смысле, как превозношение над своими предками и отцами и современниками или братьями, гораздо более безнравственно, чем превозношение богатством и властью, какое мы видим в нашей немифической, секулярной жизни», — утверждает Н. Федоров [12, 138].
Мотив воскрешения не единожды возникает в творчестве Леонида Андреева. Рассказ «Прекрасна жизнь для воскресших» (1900), «лирический набросок, близкий к стихотворению в прозе»1, был написан под впечатлением посещения «города мертвецов», Ваганьковского кладбища, куда перенесен «весь живой, огромный и шумный город». Лирический герой потрясен вдруг пришедшим осознанием неизбежности ухода: «Видите вы их молодыми, смеющимися, любящими; <…> дерзко уверенными в бесконечности жизни» (1, 193). Кладбищем, «маленьким, жадным и так много поглотившим», на котором покоятся надежды, любовь, талант, видится ему и душа человеческая:
Пусть же воскреснут мертвецы! Раскройтесь, угрюмые могилы, разрушьтесь вы, тяжелые памятники, и расступитесь, о железные решетки!
Хоть на день один, хоть на миг один дайте свободу тем, кого вы душите своей тяжестью и тьмой! (1, 194).
В спор с Н. Федоровым, Ф. Достоевским, которому также были близки идеи философа, В. Соловьевым и самим собой, провозгласившим когда-то: «Прекрасна жизнь для воскресших!», — Л. Андреев вступает в 1903 году в рассказе «Жизнь Василия Фивейского». Мотив возмущения против Бога, равнодушного к людским страданиям, звучащий во многих произведениях Л. Андреева, исследователи справедливо ведут от Л. Толстого. Ужас «молчащего Ничто, подчиняющего себе человека» [7, 345], охватывает как усомнившегося в божественной справедливости Ивана Ильича («Смерть Ивана Ильича» Л. Толстого), так и Василия Фивейского.
О «Жизни Василия Фивейского» критик Волжский писал, что рассказ Андреева «бередит всех», это «мучительное боле-ние Богом, это страстная религиозная тревога» [3]. Рассказ высоко оценил М. Горький. В. Г. Короленко суть рассказа понял как «вечный вопрос человеческого духа в его искании своей связи с бесконечностию вообще и с бесконечной справедливостью в частности» [8]. А. Блок, по его признанию, испытал потрясение при чтении этого андреевского рассказа, видел в нем, как позже и в драме «Жизнь Человека», предчувствие катастрофы [2, 56].
Современники Андреева и исследователи более позднего времени видели в рассказе прежде всего поиск ответов «на феномен “человекобожества”, <…> вступая в новое соприкосновение с Достоевским и Ницше» [7, 392]. В этом произведении они находили житийное начало и авторское переложение Книги Иова, в которой «с необычной остротой поставлены вопросы о цели человеческого бытия, о границах человеческого разума в их соотнесении с божественным провидением» [6, 103]. В отличие от Иова, верящего в непогрешимость Божьего Промысла, Василий Фивейский верит иначе: для него Бог — это идея о гармоничном, разумном и справедливом мироустройстве. А поскольку реальность убеждает его в непреходящем характере несправедливости и страданий, вера священника обретает иную, не соответствующую церковным догматам направленность. Как пишет Л. А. Иезуитова, «о. Василий делается “святым”, пройдя мученическую жизнь, через познание страданий и грехов человеческих» [6, 103].
«Соприкосновение» между Андреевым и Федоровым / Соловьевым в осмыслении проблемы «победы над смертью» осталось за пределами внимания исследователей. А между тем история священника, до трагических событий в своей жизни верящего в Бога «торжественно и просто: как иерей и как человек с незлобивой душою» (1, 489), а затем проникшегося идеей собственной избранности, дающей ему право, вслед за подвигом Христа, совершить свой подвиг — воскресить страдальца и праведника при жизни Семена Мосягина, — это отклик и на «Философию общего дела» Н. Федорова, и на «Идею сверхчеловека» В. Соловьева.
Вера в свою избранность — это вызов року, властвовавшему над жизнью Василия Фивейского, отобравшему у него любимого сына, «черненького и тихонького» Васю, а взамен давшему «нового Васю». Рождение идиота, первый вариант «воскрешения» в рассказе, — псевдовоскрешение. «Господство над домом» — так определена роль идиота в «схеме жизни Василия Фивейского» (см. об этом: [9, 40]). И эта власть безумия над миром, над всеми людьми заставляет задуматься о нравственных последствиях возвращения из небытия, что, однако, не останавливает о. Василия от попытки нового воскрешения: поверив в свое избранничество, он обращается к разлагающемуся телу Семена Мосягина: «Тебе говорю, встань!» (1, 551).
Всесилие рока касается только телесной оболочки человека, обреченного на смерть, но дух его свободен, и никто не в состоянии остановить его прорыва к «метафизической тайне». Зародившиеся сомнения в любви идеальной — к Богу, приводят героя к любви реальной — к людям. Ранее существовавшая между о. Василием и его прихожанами пропасть преодолевается, к священнику приходит понимание людских страданий. Откровения прихожан потрясают его своей простотой и правдой, сострадание и отчаяние оттого, что он, служитель Бога на земле, ничем не может им помочь, рождают святую веру: через него, избранника, Бог должен сотворить чудо. Нелепая и страшная гибель Семена Мосягина, молодого мужика, труженика, кормильца большого семейства, должна явить возможность «преодоления смерти», возвращения из небытия.
Герой повести «почитает того Бога, который даст человеку — в его, Фивейского, лице — власть над “жизнью и смертью”. Иначе говоря, безгранично, вровень с собою, возвысит личность <…>. Но попытки найти себя в Боге (точнее, в метафизической тайне, которая здесь, в рассказе о священнике, предстает под именем “Бог”) кончаются крахом. Чаемое горнее благо обернулось инфернальной злобою, поправшей мученическую жизнь, но не смогшей унизить ее» [7, 393].
В тексте, который наполнен мифологическим, религиознофилософским и даже фантастическим материалом, в особо концентрированном виде проявляются «онтологические проблемы бытия, фундаментальные принципы устройства мира и человека, достигается модус сопряжения национального с универсальным» [10, 91]. При этом писатель предлагает неожиданную интерпретацию традиционных сюжетов и образов, переосмысляя евангельскую историю, рассматривая ее в ином, неклассическом, ракурсе.
Примечателен в этом плане рассказ Андреева «Елеазар» (1906), в основе которого также лежит евангельский сюжет о воскрешении Христом Лазаря (см. об этом: [5]). Центром евангельского сюжета становится чудо, совершенное Спасителем; судьба самого Лазаря, его дальнейшая жизнь не попадает в фокус повествования. Андреева же интересует сам воскресший, то, что увидел он по ту сторону человеческого бытия, и то, каким он стал после обретения нового знания. Философской темой произведения становится вопрос: возможна ли жизнь в полном смысле этого слова для человека, видевшего смерть и ее преодолевшего, прикоснувшегося к тайне, к «грозному ужасу Бесконечного»? (2, 207).
Пространственно-временные координаты, заданные в «Елеазаре», соответствуют евангельскому хронотопу: у самого порога дома воскресшего — великая пустыня, «холодная, жадно рыскающая», в которой днем царствует беспощадное солнце — «убийца всего живого», а ночью — «великая тьма» (2, 196, 198). Пустыня — пространство, лишенное жизни, и это есть воплощение смерти. У Андреева такой пейзаж символически изображает жизнь Елеазара после воскресения; это «жизнь-в-смерти», объятая холодом и мраком, это и опыт познания смерти, после которого возможна лишь «великая пустота».
Образ пустыни в рассказе не имеет традиционного христианского значения — не воспринимается как место испытания веры и очищения и одновременно близости к Богу, но все же связан с мотивом духовного поиска, стремления познать что-то за гранью реальной действительности. Андреевский Елеазар каждый вечер во время заката уходит вглубь пустыни, вслед за солнцем, как будто пытаясь поймать уходящую жизнь и ее тепло, ибо после таинственного возвращения из смерти в нем нет жизни, есть только «холод трехдневной могилы» (2, 197). Мотив поиска смысла жизни в рассказе связан, скорее, с фигурой Августа, который воплощает силу «духа, помогающего человеку выстоять перед лицом Вечности» [10, 96].
В рассказе Андреева время тоже «перестает быть потоком, <…> а становится неподвижным измерением — тем, что для нас теперь пространство» [4, 50–51]. Елеазар, время для которого когда-то остановилось, а потом повернуло вспять, сливается с окружающим его пейзажем (пустыня, «тяжелая чернота ночи», дуновение холодного ветра) и представляется через пространственные образы: с ним связано ощущение великой тьмы и великой пустоты мироздания. Взгляд Елеазара «бесконечно равнодушен к живому», как будто страшную тень он опускает на души людей и новый облик дает «старому знакомому миру» (2, 197). От взгляда героя земную жизнь поглощает «черная утроба Бесконечного», течение времени останавливается, а «начало каждой вещи» сближается «с концом ее» (2, 208).
Воскресение Лазаря, воспетое Евангелием, представлено Андреевым как трагедия и самого воскресшего, и всех тех, с кем он соприкасается в своей «второй жизни». Воскресший вызывает лишь страх и проклятие окружающих, на все распространяется мертвенный свет, который он принес из Бесконечности. «Печальной и сумрачной» становилась жизнь людей, когда на них падал «загадочный», тяжелый и страшный взгляд Елеазара, из которого смотрело «само непостижимое Там» (2, 196). Его присутствие ослабляло волю к жизни, мир терял свои яркие краски, переставал радовать и виделся человеку объятым великой пустотой. В рассказе есть некий зримый аналог душевного хаоса Елиазара: это последняя скульптура великого Аврелия, представляющая собой «нечто чудовищное, не имевшее в себе ни одной из знакомых глазу форм, но не лишенное намека на какой-то новый, неведомый образ», это «слепая, безобразная, раскоряченная груда чего-то ввернутого внутрь, чего-то вывернутого наружу, каких-то диких обрывков, бессильно стремящихся уйти от самих себя» (2, 201). Скульптура становится иллюстрацией к теме поиска смысла за пределами жизни, символизирует бесплодность попыток постичь мир, отрицая смерть.
Пространство произведения построено на контрасте жизни земной (древний город пестрит цветами и счастливыми людьми, влюбленными парами) и неземной (пещера, куда погребли Елеазара, и место его вечного изгнания — пустыня). Очевидно одно: там, где отметилась вечность, пространство бесконечно расширяется под ее давлением. Непрекращающееся время создает такое же непрерывное пространство, которое вынуждено продолжаться.
Получив вначале пространственное воплощение, идея вечной жизни содержательно раскрывается в третьей части рассказа: это пустое, лишенное морально-нравственных основ существование, в котором «объятый пустотой и мраком безнадежно трепетал человек перед ужасом бесконечного» (2, 198). Бесконечное время такой жизни лишено логики, морали, этики, ибо любые поступки, благородные и добродетельные, лживые и предательские, в ней возможны и неизбежны. Абсурд и ужас «жизни в бессмертии» передается иррациональными, странными, мрачно-гротескными пространственными образами.
Основная задача писателя — психологически обосновать характер героя, который, пообщавшись с Бесконечностью, перестал воспринимать земную жизнь так, как обычные люди: он фактически перестал быть человеком. Авторский миф требует особых средств художественного воплощения. По словам И. Анненского, Андреева «замучили контуры, светотени, контрасты, сгущение теней и беспокойные пятна», и «все эти животности , часто не только не оскорбительные, но даже не приметные для нашего тупого и рассеянного восприятия, накопляясь в нежной душе художника, создали там муку, безобразие и неразрешимость…» [1, 556].
Главенствующий в рассказе лексический прием — контраст. Воскресший мертвец «с лицом трупа», выписанным натуралистически подробно (прав М. Волошин, когда говорит об андреевском «анатомическом театре» [4, 48]), — и «пышные брачные одежды» на нем; «прекрасное гордое лицо» скульптора — и страшное, отталкивающее лицо Елеазара; «дико кричащие выступы» бесформенной скульптуры Аврелия, которую он создал под впечатлением встречи с живым мертвецом, — и «дивно изваянная» им же бабочка. Эти противоположности, казалось бы, несовместимы, но волею Христа, нарушившего извечно действующий закон о смерти, которую «знал только мертвый, а живой знал только жизнь» (2, 206), сделавшего попытку стереть грань между бытием и небытием, — сосуществуют, как ни противоестественно, ни антигуманно их сосуществование.
Задачу усиления контраста выполняют в рассказе и антонимы: прекрасный — безобразный, поцелуи — слезы, наслаждение — боль, правда — ложь … Экспрессивно насыщенными оказываются у Андреева разные части речи: глаголы — низвергать, разрушать, воздвигать, вздымать ; наречия — безумно, бессильно, тупо, безнадежно. Частое употребление местоименных форм, особенно неопределенных местоимений, придает повествованию оттенок загадочности, нагнетает атмосферу страха: «Кто-то неосторожный приподнял покрывало. Кто-то неосторожным одним дуновением брошенного слова разрушил светлые чары и в безобразной наготе открыл истину» (2, 193).
«Нагнетание ужасов» происходит и через экспрессивно окрашенную деталь: «густая землистая синева» на лице Елеазара, «так же землисто-сини были длинные пальцы рук». Люди испытывали «губительную силу его взора». Попавший под его взгляд человек «уже не чувствовал солнца», «не слышал фонтана и не узнавал родного неба», и человек «равнодушно и спокойно» «начинал умирать, и умирал он долгими годами, умирал на глазах у всех…» (2, 192–195).
Все сказанное подтверждает мысль о том, что писатель не принимает идею времени, не имеющего конца. Время — великий регулятор человеческих отношений и поступков, чувств и мыслей, и тот, кто его не ощущает, лишен смысла и цели существования, живет под знаком «смерти в жизни».
Опыт преодоления смерти в произведениях Андреева ужасает больше, чем неотвратимость смерти, которая и в случае с Василием Фивейским, и с Елеазаром оказывается желанной наградой. Андреев развенчивает миф о Лазаре и о Царствии Божием, о гармонии и порядке, которые должны главенствовать в этом центре мироздания. Мысль о том, что продлевать жизнь человеческую до бесконечности означает продлевать агонию и заставлять человека умирать множество раз, вполне соответствует идее андреевского рассказа. Именно понимание конечности времени, память о смерти помогают сохранять свежесть чувства и мысли, жить в рамках морально-нравственных категорий, наслаждаться каждым мгновением земной жизни.
Список литературы Мотив воскрешения в творчестве Леонида Андреева
- Анненский И. Ф. Вторая книга отражений. Иуда, новый символ//Избранные произведения. -Л.: Худож. лит., 1988. -С. 549-554.
- Книга о Леониде Андрееве: воспоминания М. Горького, К. Чуковского, А. Блока, Г. Чулкова, Б. Зайцева, Н. Телешова, Е. Замятина. -Пб.; Берлин: Изд. З. И. Гржебина, 1922. -111 с.
- Волжский. Литературные письма. О голосах критики по поводу «Жизни Василия Фивейского» Леонида Андреева//Голос юга. -1904. -14 дек. -(№ 9).
- Волошин М. А. «Елеазар», рассказ Леонида Андреева («Золотое Руно»)//Волошин М. А. Собр. соч.: в 13 т. (в 17 кн.). -М.: Эллис Лак, 2007. -Т. 6. -Кн. 1: Проза 1906-1916. Очерки, статьи, рецензии. -С. 43-53 . -URL: http://imwerden.de/pdf/voloshin_sobranie_tom06.1_2007_text.pdf
- Иезуитова Л. А. «Елеазар», библейский рассказ Л. Н. Андреева//Блоковский сборник XIII (Памяти В. И. Беззубова): Русская культура XX века: метрополия и диаспора. -Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1996. -С. 39-62.
- Иезуитова Л. А. Жизнь Василия Фивейского//Иезуитова Л. А. Леонид Андреев и литература Cеребряного века: Избранные труды. -СПб.: Петрополис, 2010. -С. 97-135.
- Келдыш В. А. О «серебряном веке» русской литературы. Общие закономерности. Проблемы прозы. -М.: ИМЛИ РАН, 2010. -511 с.
- Короленко В. Г. О сборниках товарищества «Знание» за 1903 год//Русское богатство. -1904. -№ 8 . -URL: http://az.lib.ru/k/korolenko_w_g/text_1903_znanie_oldorfo.shtml.
- Михеичева Е. А. О психологизме Леонида Андреева. -М.: Московский педагог. университет, 1994. -189 с.
- Московкина И. И. Поэтика легенд и притч Л. Андреева//Поэтика жанров русской и советской литературы: межвуз. cб. науч. тр. -Вологда, 1988. -С. 86-102.
- Соловьев В. С. Идея сверхчеловека//Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. -М.: Правда, 1989. -Т. 2: Чтения о богочеловечестве. Философская публицистика. -С. 610-618.
- Федоров Н. Ф. Бессмертие, как привилегия сверхчеловеков. (По поводу статьи В. С. Соловьева о Лермонтове)//Федоров Н. Ф. Собр. соч.: в 4 т. -М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. -Т. 2. -С. 136-140 . -URL: http://www.magister.msk.ru/library/philos/fedorov/fedor072.htm.
- Федоров Н. Ф. Статьи религиозного содержания из III тома «Философии общего дела»//Федоров Н. Ф. Собр. соч.: в 4 т. -M.: Традиция, 1997. -Т. 3. -С. 391-448.