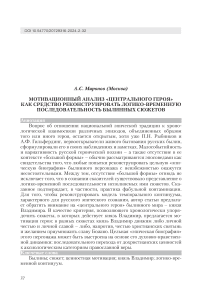Мотивационный анализ "центрального героя" как средство реконструировать логико-временную последовательность былинных сюжетов
Автор: Миронов А.С.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
Вопрос об отношении национальной эпической традиции к хронологической взаимосвязи различных эпизодов, объединенных образом того или иного героя, остается открытым, хотя уже П.Н. Рыбников и А.Ф. Гильфердинг, первооткрыватели живого бытования русских былин, сформулировали его в своих наблюдениях и заметках. Малособытийность и вариативность русской героической поэзии - а также отсутствие в ее контексте «большой формы» - обычно рассматриваются эпосоведами как свидетельства того, что любые попытки реконструировать цельную «эпическую биографию» былинного персонажа с неизбежностью окажутся несостоятельными. Между тем, отсутствие «большой формы» отнюдь не исключает того, что в сознании сказителей существовало представление о логико-временной последовательности исполняемых ими сюжетов. Сказанное подтверждает, в частности, практика фабульной контаминации. Для того, чтобы реконструировать модель темпорального континуума, характерного для русского эпического сознания, автор статьи предлагает обратить внимание на «центрального героя» былинного мира - князя Владимира. В качестве критерия, позволяющего хронологически упорядочить сюжеты, в которых действует князь Владимир, предлагается мотивация героя: в разных сюжетах князь Владимир движим либо личной честью и личной славой - либо, напротив, честью христианских святынь и желанием приумножить славу Божию. Цельная «эпическая биография» этого персонажа может быть выстроена на основе его духовно-нравственной динамики: последовательного перехода от дохристианских ценностей к аксиологическим категориям православной веры.
Былины, сюжет, ценностная мотивация, князь владимир, логико-временной континуум
Короткий адрес: https://sciup.org/149145985
IDR: 149145985 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-32
Текст научной статьи Мотивационный анализ "центрального героя" как средство реконструировать логико-временную последовательность былинных сюжетов
Bylinas; plot; value motivation; pre-Christian values; Christian axiology; Prince Vladimir; logical-temporal continuum.
Предположим, что «Одиссея» или «Беовульф» известны нам лишь по фрагментированным записям, не позволяющим установить, какие эпизоды этих эпических поэм произошли раньше, а какие – позже; предшествует ли путешествие Телемаха встрече главного героя с Полифемом? что является хронологически более ранним – прибытие Беовульфа в Хеорот или же его битва с драконом? Между тем, именно такая ситуация характерна для русских былин. Вопрос о возможном существовании не дошедшей до нас «большой формы», поставленный еще первооткрывателями живого бытования русской эпической традиции [Рыбников 1910, XCVIII, XCIX; Гильфердинг 1949, 58], остается открытым. Для однозначного ответа на подобный вопрос необходимо решить проблему логико-временной связности былинных сюжетов: было ли у сказителей представление о том, каким образом эпизоды «эпической биографии» их героев следуют друг за другом в потоке художественного времени?
Перенимая отдельную песню от живого носителя традиции, начинающий сказитель едва ли мог сразу усвоить модель общей эпической хронологии, в соответствии с которой только что услышанный сюжет должен был занять определенное положение в художественной реальности эпоса, понятой как логико-временной континуум. Однако элементы подобной модели могли восприниматься сказителем по мере того, как он «открывал» для себя все новые и новые былины. Если наше предположение верно, то логика соотнесенности сюжетов была неотъемлемой частью наследуемого эпического знания.
О необходимости воссоздать логико-хронологическую модель русских героических песен писал еще А.Ф. Гильфердинг. Знаменитый собиратель был убежден, что верным принципом организации былинных записей при их «окончательном и полном» издании должно стать расположение текстов не по географическому принципу и не по конкретным исполнителям, но «по предметам, с систематическим подбором вариантов» [Гильфердинг 1949, 58]. Однако издание былин «по предметам» (т.е. по сюжетам) не осуществлено до сих пор – именно потому, что эпосоведы «не знают», как былинные фабулы соотносятся друг с другом в логико-временном плане. С какого сюжета начать свод записей? Что произошло «раньше»: нападение Сокольника на богатырскую заставу или же путешествие трех витязей-побратимов в поисках Михайло Потыка? Поездка двух сватов, Добрыни Никитича и Дуная Ивановича, к королю Леховинскому или же путешествие того же До-брыни (вместе с Василием Казимировичем) в Орду к царю Абатую?
Представители мифологической школы былиноведения сделали первый шаг к решению задачи, предложив разделить богатырей на «старших» и «младших» [Буслаев 1887, 17–21]. Выводы ученых оказались полезными в плане выявления как древнейших, так и более поздних смысловых напластований в былинах, однако отнюдь не способствовали моделированию их художественного мира как логико-временного континуума. Логика «мифологов» противоречила логике сказителей: если руководствоваться последней, то при составлении полного издания былин «по предметам» следует, например, сначала поместить старины о первой поездке Ильи Муромца, и только затем – о его встрече со Святогором. Следовательно, Илья во время своего первого приезда в Киев встречается с «младшим» Алешей Поповичем, и только затем отправляется на Святые горы, где сталкивается со «старшим» Святогором. Как можно видеть, для эпического певца «старшие» и «младшие» богатыри мифологической школы были современниками.
Представители другой школы – исторической – классифицировали былинные сюжеты, фиксируя отражение в них реальных событий различных эпох. Так, выделялись дотатарские героические песни, старины времен татарского ига и, наконец, московские былины [Халанский 1885,
13–14]; а также докиевская и владимиро-суздальская эпическая поэзия [Аникин 1964, 81, 194]. Однако попытки сблизить богатырей с реальными историческими личностями нередко приводили к выводам, прямо противоречащим «фактам» эпической хронологии. Например, ученые полагали, что прототипом былинного Добрыни является Добрыня летописный – родной дядя исторического князя Владимира, брат его матери Малуши [Азбелев, 2003, 53–59]. Между тем, в былинах Добрыня всегда характеризуется такими эпитетами как «младешенький» или «глупешенький». Русской былине, судя по известным науке записям, не известен образ До-брыни-старика.
По-видимому, даже точная связь былинных сюжетов с историческими событиями, будучи установлена учеными, не может послужить ключом к реконструкции эпической хронологии. Б.А. Рыбаков, например, сопоставив имена богатырей и другие былинные детали со сведениями письменных источников, датировал сюжет «Добрыня на свадьбе своей жены» 980-ми гг., а былину «Исцеление и первая поездка Ильи Муромца» – 990-ми гг. [Рыбаков, 1982, 81]. Между тем, старинщики хорошо знали, что Илья Муромец должен был появиться в Киеве прежде несостоявшейся свадьбы Настасьи Микулишны (жены Добрыни) и Алеши Поповича, ведь только заступничество «старого казака» Ильи могло спасти – и спасло – Алешу от гибели, когда Добрыня принял решение казнить его прямо во время свадебного пира.
По справедливому мнению Д.В. Блажеса, «у подлинного носителя эпоса во время акта творчества возникает значимая соотнесенность песен» [Блажес 1977, 6]. И действительно, в случае русских былин сложно отрицать, что поступки их главных героев предполагают вполне очевидную хронологическую упорядоченность (сделавшую возможной, например, известную практику сюжетной контаминации, когда разные былины про одного и того же протагониста объединялись в одно связное повествование). Заметим, впрочем, что такая позиция не была близка В.Я. Проппу, согласно которому «эпос любого народа всегда состоит только из разрозненных, отдельных песен» [Пропп 2002, 129].
Еще одним доказательством склонности русских эпических певцов к хронологическому соотнесению своих произведений является тот факт, что большинство былинных сюжетов образуют диптихи и триптихи, в которых с легкостью распознаются начальные и финальные части. Очевидно, например, что бой Василия Буслаева с Новгородом случился раньше поездки этого героя в Иерусалим (былины «Василий Буслаев и Новгородцы» и «Паломничество Василия Буслаева»). Очевидно также, что Дунай Иванович бился с Добрыней Никитичем и был заключен в тюрьму по приговору князя Владимира прежде , чем отправился в роли свата в Леховинское королевство (песни «Бой Добрыни с Дунаем» и «Дунай Иванович сват»).
Диптихи и триптихи о героях дохристианского типа (т.е. богатырях, добивающихся личной чести и личной славы) построены по общей схеме: в первой части (А) каждого цикла протагонист достигает временного успеха, но затем к концу следующего сюжета (B) оказывается на краю гибели или погибает (за исключением Волха Всеславовича. Предположительно, до нас не дошла финальная часть «триптиха» об этом герое, выстроенного следующим образом: 1. «Вольга и Микула» – 2. «Волх Всеславович» – 3. Утраченная былина о гибели Волха, возможно определившая более поздний сюжет о гибели Змея Тугарина, «Алеша Попович и Змей Тугарин»):
-
А . «Василий Буслаев и Новгородцы» – B . «Паломничество Василия Буслаева».
-
А . «Молодец и королевна» – B . «Дунай Иванович-сват».
А . «Молодость Чурилы» – B . «Чурила и Катерина» («Смерть Чурилы»).
-
А . «Садко и новгородцы» – B . «Садков корабль стал на море».
-
А . «Михайло Потык» – B . «Сорок калик со каликою».
Еще один «диптих» объединяет сюжет про отца и сюжет про сына (оба персонажа мотивированы дохристианскими ценностями и пытаются добыть недоступную красавицу, чтобы стяжать личную честь):
-
А . «Хотен Блудович» – B . «Иван Годинович».
Сюжеты о богатырях с христианской мотивацией, стремящихся к защите святынь (т.е. не к личной, но к коллективной чести) и к бескорыстным подвигам деятельного сострадания во славу Божию (т.е. к общей славе), обычно выстраиваются по более сложной схеме, объединяющей большее количество сюжетов. (Для трех младших богатырей христианского типа – Михайло Данилович, Ермак Тимофеевич, Константин Саулович – конечный сюжет неизвестен. Возможно, «открытый финал» их эпической биографии указывает на то, что истории этих героев не закончились вместе с периодом старших богатырей). При этом без труда устанавливаются начальный ( А ) и конечный ( Z ) сюжет каждого цикла:
-
А . «Исцеление Ильи Муромца» – Z . «Последняя поездка Ильи Муромца»;
-
А . «Юность Добрыни и его поединок с Ильей Муромцем» – Z . Камское побоище.
-
А . «Алеша Попович и Змей Тугарин» – Z . Камское побоище.
При этом нельзя сказать, что герои действуют замкнуто в рамках «своих» сюжетов; они, напротив, «наезжают» в старины про других богатырей. Более того, в былинном мире присутствует персонаж, которого обнаруживаем в большинстве песен киевского цикла, почти в каждом сюжете. Хотя его нельзя назвать главным или даже одним из главных, он является, без сомнения, центральной фигурой русского эпоса. Это – «ласковый князь» Владимир.
Заметим, что киевский правитель не просто упоминается в песнях про других героев; он совершает поступки, мотивированные «богатырскими» ценностями – желанием чести и славы. Наша гипотеза заключается в том, что былинные певцы обладали контекстуальным знанием об определенной закономерности, в соответствии с которой ценностно мотивированные поступки князя Владимира с необходимостью следуют друг за другом. Поскольку такие поступки «рассеяны» по «чужим» сюжетам, их хронология, будучи выявленной, позволит в значительной мере восстановить общую логико-временную последовательность сюжетов киевского цикла, отмеченных присутствием князя.
Образ киевского правителя показывает, что в разных сюжетах этот персонаж мотивирован различными ценностями: личной честью и личной же славой – или, напротив, общей честью христианских святынь и славой Божией (понимаемой как молва о бескорыстных подвигах, совершаемых из сострадания). Если былинный певец обладал знанием о том, какая аксиологическая доминанта определяет поступки князя Владимира в определенный период его «эпической биографии», то подобное знание возможно реконструировать, разграничив аксиологические «возрасты» киевского правителя и сгруппировав сюжеты с ним соответственно этим периодам.
Выделив все аксиологически значимые поступки князя Владимира из былин киевского цикла, мы получаем список, насчитывающий 25 позиций. В этом перечне легко различимы поступки двух типов:
Таблица I . Тип I.
Действия, мотивированные дохристианскими ценностями личной имущественной чести и персональной («именной») славы:
|
Поступок «центрального героя» |
Цель (ценность) |
Смысл поступка в ценностном аспекте (поступок как ценностный выбор) |
|
1. Выделяет своему племяннику Вольге (также Волху) Всеславовичу три непокорных «городка» в качестве удела; |
Личная честь |
Князь оценивает уровень личной чести незаконнорожденного Вольги как низкий, выделяя ему худший удел; |
|
2. Отправляет дружину для расправы с Хотеном Блудовичем; |
Личная честь |
Князь ценит родовую честь выше личной чести Хотена, поэтому защищает свою родственницу – Часову вдову; |
|
3. Осуждает Добрыню Никитича за ущерб, нанесенный им имуществу Дуная Ивановича; |
Личная честь |
Князь оценивает уровень личной имущественной чести, добытой Дунаем на службе иноземному королю, как более высокий по сравнению с Добрыней (последний лишен наследуемой чести жителями Рязани, изгнавшими его из города вместе с матерью); недооценивает силу и смелость Добрыни как начала, дающие ему определенные права на имущество Дуная; |
|
4. Попирает святыню законного брака, пытаясь заполучить жену Ставра Годиновича, Василису Микуличну; |
Личная честь |
Князь ценит личную честь выше чести законного брака – и добивается по определению недоступной чужой жены, которой можно будет хвастаться как слагаемым личной чести; |
|
5. Попирает святыню законного брака, пытаясь заполучить жену Данилы Ловчанина; |
Личная честь |
Князь ценит личную честь выше чести законного брака – и добивается по определению недоступной чужой жены, которой можно будет хвастаться как слагаемым личной чести; |
|
Поступок «центрального героя» |
Цель (ценность) |
Смысл поступка в ценностном аспекте (поступок как ценностный выбор) |
|
14. Не сострадает «девицам, молодицам и старицам», которых обесчестили люди Чури-лы, и не защищает их; |
Личная слава |
Князь ценит личную славу (которая увеличится благодаря Чуриле как его подданному) выше святыни страдающего человека; |
|
15. «Отказывает от Киева» богатырям христианского типа, которые не могут прославить своего князя ценными трофеями; |
Личная слава |
Князь ценит личную славу выше общей славы киевского богатырства, предполагающей бескорыстное служение во имя Божие; |
|
16. Предает Василия Пьяницу в руки иноземного царя (Батыги или Кудреванко); |
Личная слава |
Князь ценит личную честь выше страдающего человека – и, опасаясь упреков в бесчестном поведении, «расплачивается» жизнью своего богатыря за совершенное последним убийство царского сына, родича и «дьяка-выдумщика». |
|
17. После разгрома иноземного войска не удерживает Василия Пьяницу при своем дворе. |
Личная слава |
Князь ценит личную славу выше общей славы киевского богатырства – и позволяет уйти герою, неспособному (в силу пьянства и бедности) увеличить персональную известность своего повелителя. |
( 1 : Гильфердинг II, 73 ; 2 : Гильфердинг III, 308 ; 3 : Григорьев III, 310 ; 4 : Рыбников II, 20 ; 5 : Киреевский III, I/2 ; 6 : Григорьев II, 217 ; 7 : Григорьев III, 413 ; 8 : Рыбников II, 15 ; 9 : Гильфердинг III, 223 и Ончуков 64 ; 10 : Григорьев III, 314 и Григорьев I, 113 ; 11 : Григорьев III, 334 ; 12– 13 : Марков 11 ; 14 : Гильфердинг III, 223 ; 15 : Былины Печоры и Зимнего Берега 100; 16–17 : Рыбников II, 11 .)
Логично предположить, что доминанта личной славы устанавливается в сознании героя не сразу, но – за редким исключением – только после того, как последний накопил необходимое количество «очков» личной имущественной чести – наследуемых либо добытых силой материальных и материально-знаковых благ.
Таким образом, мы обнаруживаем своего рода закономерность: стяжать личную славу возможно только в том случае, если герой сохраняет высочайший уровень личной чести; утрата же приобретенного ранее имущества немедленно приводит к бесславию – и к необходимости отомстить обидчику.
Исходя из сказанного, мы располагаем поступки князя Владимира, мотивированные ценностью личной чести, в верхней части таблицы и считаем их хронологически более ранними. Юный князь, уже обладая наследуемой честью (Киевом), стремится добыть недоступную красавицу (чужую жену или невесту), что позволит ему подняться на более высокий уровень личной чести. Первые две попытки оказываются неудачными (Василиса
Микулична, жена Данилы Ловчанина), однако третья завершается успехом: Владимир берет в жены королевну Апраксию.
Силой завладев прекрасной дочерью могущественного правителя, киевский князь достигает наивысшего уровня личной чести – и теперь желает прославиться. Славу эпическому властителю добывают воины, которых он привлекает к себе на службу щедрыми дарами. Однако один из таких воинов – Змей Тугарин – заявляет свои права на княгиню Апраксию и тем самым наносит огромный ущерб личной чести киевского правителя. Более того, поскольку Апраксия по доброй воле предпочитает Тугарина, это означает для Владимира не только бесчестие, но и бесславие, ведь такая подробность дает очевидный повод для распространения дурной молвы.
Отомстив Тугарину с помощью Алеши Поповича, киевский князь намерен восполнить ущерб, нанесенный его доброму имени; отныне все его усилия направлены на то, чтобы собрать при своем дворе самую яркую компанию героев. Неслучайно Владимир постоянно побуждает витязей совершать подвиги и затем хвастаться ими на пирах – это нужно для распространения молвы о самом князе.
Можно сказать, что правитель сознательно собирает вокруг себя прославленных честолюбцев, способных «украсить» его двор и распространить славу о нем, Владимире, далеко за пределами Руси. Как следствие, князю становятся не нужны герои христианского типа, ведь бессребреники, совершающие подвиги ради страдающих людей, не обогатят трофеями ни себя, ни своего повелителя. В результате богатыри оставляют Киев, и во время страшного нашествия Батыги единственным, кто может встать на защиту князя и его подданных, оказывается Василий Пьяница. После того, как Владимир, подчиняясь давлению бояр, предает Пьяницу в руки врагов (и впоследствии оказывается милосердно прощенным им), стремление к личной чести и личной славе оставляет киевского князя. Последний вступает теперь в свой новый «аксиологический возраст»:
Таблица II. Тип II.
Действия, мотивированные почитанием христианских святынь и стремлением преумножить славу Божию и общую славу киевского богатырства:
|
Поступок |
Цель |
Смысл поступка в ценностном аспекте (поступок как ценностный выбор) |
|
«центрального героя» |
(ценность) |
1. Проявляет сострадание к жене и не казнит ее за нанесенное ему бесславие – публично проявленную влюбленность в Чурилу Пленковича;
Слава Божия (бескорыстное сострадание в ущерб личной славе)
Князь ценит конкретного человека выше личной славы – и готов ради него перенести унижение;
Поступок «центрального героя»
Цель (ценность)
Смысл поступка в ценностном аспекте (поступок как ценностный выбор)
-
2. Признает справедливость высказанных Дюком Степановичем упреков в ненадлежащем почитании киевских святынь;
-
3. Подчиняется требованию выдать родственницу иноземному королю в жены (былина о Жидойле);
Честь христианских святынь
Честь христианских святынь; слава Божия (сострадание к киевлянам в ущерб личной славе)
Князь ценит христианские святыни (иконы, церковные строения) и богоданные принципы (церковная служба, институт богатырства) выше, чем личную славу;
Князь ценит христианские святыни и страдающих людей выше, чем родовую честь и личную славу;
4. Восстанавливает законное место богатырей за пиршественным столом («Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром»);
Честь христианских святынь (богатырство как подвижничество во славу Божию)
Князь ценит общую славу киевского богатырства выше личной славы – и воздает честь богатырю христианского типа;
-
5. Не казнит и не изгоняет свою жену, когда та покрывается зловонной коростой – признаком греха и проклятия («Сорок калик со каликою»);
-
6. Просит у Ильи Муромца прощения (былина о царе Калине);
Слава Божия (сострадание к жене в ущерб личной славе); честь христианских святынь (законный брак)
Князь ценит страдающего человека и законный брак выше личной славы и личной чести – и смиряется с бесславием и с бесчестием, приравнивая себя к греховной и проклятой женщине;
Слава Божия (сострадание к киевлянам в ущерб личной славе); честь христианских святынь
Князь ценит страдающих горожан и святыни Киева выше личной славы – и ради них смиряется с явным бесславием;
-
7. Не предлагает Илье Муромцу платы за снятие осады с Киева (былина о царе Калине).
Честь христианских святынь (богатырство как подвижничество во славу Божию)
Князь ценит общую славу киевского богатырства выше, чем личную честь – и сознательно остается в неоплатном долгу перед своим витязем.
( 1 : Гильфердинг III, 223 ; 2 : Рыбников II, 28 ; 3 : Ончуков 73 ; 4 : Рыбников II, 63 ; 5 : Григорьев II, 290 ; 6–7 : Гильфердинг III, 296 .)
Подавляющее большинство русских эпических певцов были православными христианами, причем лучшие старинщики, по свидетельству современников, являлись воцерковленными людьми, в том числе расположенными к длительным молитвенным практикам (см., в частности, известную заметку Л.Н. Толстого о сказителе В.П. Щеголенке: «Молится сам часа по 2. <...> Записана его молитва» [Толстой 1952, 312]). Поэтому можно быть уверенными в том, что в случае каждого конкретного сюжета певец мог безошибочно определить мотивацию князя Владимира как нехристианскую либо, наоборот, христианскую. Используя тип мотивации в качестве критерия, всю «эпическую биографию» киевского правителя можно очевидным образом разделить на два периода – условно «языческий» (Таблица I) и христианский (Таблица II).
При этом возможны два варианта периодизации: А) «языческий» период предшествует христианскому («преображение») и Б) христианский предшествует нехристианскому («расцерковление»). Однако второй вариант необходимо отвергнуть на следующем основании: князь Владимир поступает как христианин в былине про Калина, завершающей серию об Илье Муромце (как известно, сразу после освобождения Киева от полчищ этого царя русские богатыри впадают в грех гордыни, и мертвые тела воинов Калина оживают – происходит финальная битва «былинной истории», Камское побоище).
Из сказанного следует, что смена мотивирующих ценностей происходит в случае князя Владимира следующим образом:
Этап 1. Доминанта личной чести;
Этап 2. Доминанта личной чести и личной славы;
Этап 3. Возникающая доминанта страдающего человека вступает в конкуренцию с ценностью личной славы;
Этап 4. Доминанта страдающего человека замещает доминанту личной славы, а доминанта благочестия (почитания христианских святынь) замещает доминанту личной чести.
На первый взгляд может показаться, что подобная периодизация слишком сложна для крестьянских певцов. Однако запомнить, что эпический Владимир сначала был «язычником», а затем христианином – причем некоторое время в его душе боролись мотивации «ветхого» и «нового человека» (Кол. 3: 9–10) – было совсем несложно. Сказанное тем более верно, если учесть, что такая модель духовного развития в точности соответствует житию киевского князя, которое многие певцы, вероятно, хорошо знали.
Вместе с тем выстраивание искомой последовательности сюжетов осложнено двумя хронологическими нестыковками, связанными с парой Дунай Иванович – Илья Муромец. Эти герои не должны встречаться друг с другом по следующей причине. Когда Илья впервые приезжает в Киев, он находит там женатого князя Владимира (сюжет «Исцеление и первая поездка Ильи Муромца»), а это значит, что Дунай Иванович к тому времени уже мертв (он накладывает на себя руки в день свадьбы князя Владимира и Апраксии). Однако в ряде записей былины про бой Добрыни с Дунаем мы встречаем Илью Муромца, который разнимает бьющихся витязей.
Для того, чтобы разнять Добрыню и Дуная и доставить их в Киев на княжеский суд, певцу нужен был герой, существенно превосходящий поединщиков если не силой, то авторитетом. Характер Ильи Муромца, специфические особенности его внутреннего мира и его ценностные доминанты в рассматриваемом эпизоде никак не проявлены. Следовательно, роль «старшего» богатыря-арбитра с равным успехом мог сыграть Самсон Колыбанович, Святогор, старчище Иванище, Данила Игнатьевич или Никита Романович. Со временем кто-либо из этих старших богатырей – персонаж, изначально фигурировавший в сюжете – мог быть механически заменен «старым казаком» Ильей Муромцем.
Второе затруднение, также незначительное, представляет знаменитая шуба, подаренная Илье Муромцу князем Владимиром. По свидетельству ряда певцов, этот драгоценный предмет гардероба был «выслужен» Дунаем у короля Симеона Леховитого и достался киевскому князю после самоубийства богатыря. Если шуба принадлежала Дунаю, то она должна появиться у князя прежде прибытия Ильи в столицу. Однако старинщики пели, что Владимир дарит эту шубу Илье Муромцу ближе к концу его службы в Киеве, накануне нашествия Калина. Между тем, противоречие окажется мнимым если допустить, что князь Владимир сам носил упомянутую шубу много лет, прежде чем подарить ее Илье. Действительно, зависть бояр и их озлобление объясняются в таком случае не исключительной ценностью подарка как такового, но тем, что богатырь получил шубу с княжьего плеча.
В результате представляется оправданным говорить о том, что былинный образ князя Владимира предполагает последовательную и логи-чески-связную внутреннюю динамику: нравственное движение от эгоистических страстей «ветхого человека» к христианскому благочестию и смирению. С нашей точки зрения, подобная закономерность характерна не только для киевского правителя, но и для целого ряда других былинных героев, внутренний мир которых следует понимать как изменчивый, динамичный, а не раз и навсегда заданный. Если сделанное нами предположение верно, то оно открывает принципиально новый путь к описанию былинных богатырей, понимаемых теперь в качестве «сложных» персонажей, чья духовная эволюция – являясь своего рода наглядным примером – предполагала этическое, ценностно-корректирующее воздействие на аудиторию.
Иными словами, метод мотивационного анализа позволяет нам проследить и описать те изменения, которые происходят во внутреннем мире былинных героев, – и, как следствие, сделать обоснованные предположения о том, какую внеэстетическую ценностно-корректирующую функцию имело конкретное эпическое повествование. Что в свою очередь будет способствовать созданию новой функциональной поэтики былинных сюжетов.
Список литературы Мотивационный анализ "центрального героя" как средство реконструировать логико-временную последовательность былинных сюжетов
- Азбелев С.Н. Исторический Добрыня - герой древнейших новгородских былин: науч. ст. Чело. 2003. № 1. Т. 26. С. 53-60.
- Аникин В.П. Русский богатырский эпос: пособие для учителя: моногр. М.: Просвещение, 1964. 198 с.
- Блажес В.В. Содержательность художественной формы русского былевого эпоса. Свердловск: Уральский университет, 1977. 80 с.
- Буслаев Ф.И. Народная поэзия. Исторические очерки: сб. науч. ст. СПб.: Имперская академия наук, 1887. VI, [2], 501 с.
- [Гильфердинг А.Ф.]. Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Т. 1. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1949. VII, 734 с.
- Пропп В.Я. "Калевала" в свете фольклора // Пропп В.Я. Фольклор. Литература. История. М.: Лабиринт, 2002. С. 120-136.
- Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв.: моногр. М.: Наука, 1982. 590 с. EDN: RBNDVJ
- [Рыбников П.Н.]. Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Т. 1. М.: Сотрудник школ, 1910. CII, 232 с.
- Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 48-49. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1952. XXVI, 538, 307 с.
- Халанский М.Г. Великорусские былины киевского цикла: моногр. Варшава: Типография М. Земкевича, 1885. [2], 236, III с.