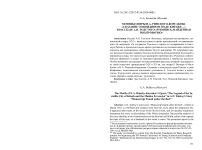Мотивы оперы Н.А. Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже…" в рассказе А.Н. Толстого "Рукопись, найденная под кроватью"
Автор: Беликова Екатерина Андреевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (52), 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассказ А.Н. Толстого «Рукопись, найденная под кроватью», написанный в марте 1923 г., является одним из ярких произведений, составляющих цикл об эмиграции. Он создавался Толстым в период его возвращения в Советскую Россию и продолжительное время трактовался исследователями творчества писателя как произведение, обличающее белую эмиграцию. Но подробный анализ рассказа позволяет выявить большое количество реминисценций из русской и мировой культуры, что значительно расширяет проблематику «Рукописи, найденной под кроватью» и делает ее знаковым произведением в творчестве писателя. Особое внимание заслуживает музыкальный фон рассказа, который складывается из таких известных произведений XIX и XX вв., как оперы Р. Вагнера «Гибель богов» и Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»; сопоставление последней с рассказом А. Толстого входит в задачи статьи. В результате удалось выявить пересечения на уровне проблематики, системы образов и жанра (письма / рукописи).
Град китеж, а.н. толстой, н.а. римский-корсаков, эмиграция
Короткий адрес: https://sciup.org/149127242
IDR: 149127242 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00011
Текст научной статьи Мотивы оперы Н.А. Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже…" в рассказе А.Н. Толстого "Рукопись, найденная под кроватью"
Одной из особенностей творческой манеры А.Н. Толстого можно считать использование характерных образов эпохи, писатель называл это для себя - «уловить тон современности». Не случайно романы («Егор Абозов», «Хождение по мукам»), а также рассказы («Без крыльев» и др.) и драмы («Спасательный круг эстетизму») наполнены узнаваемыми событиями, обстановкой столичной жизни современников, в некоторых персонажах проявляются черты ведущих деятелей русского искусства начала века.
Обращение к живописи или литературе часто служили для Толстого дополнительным средством выразительности в художественных текстах. Так, можно вспомнить картину «Любовь» в доме Кати Смоковниковой в «Хождении по мукам» или выступления футуристов, которые неоднократно возникают в произведениях писателя конца 1910-х - начала 1920-х гг. Но интересно, что Толстой редко использует музыкальные образы в своих текстах. Исключением является рассказ «Рукопись, найденная под кроватью», где музыка является не только фоном, на котором происходят важные события повести, но и тем средством, с помощью которого раскрываются образы главных героев.
Упоминаемые в рассказе музыкальные произведения достаточно разнородны. Отрывки из опер Р. Вагнера «Гибель богов», Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» чередуются с «Интернационалом», песенкой «Мадлон» и полечкой-трясогузочкой из веселого дома, которой главного героя научил протопоп из Симбирска.
Зачем Толстому нужно было такое разнообразие? Дело в том, что перечисленные произведения составляют музыкальный фон, на котором герои-эмигранты осмысляли новости из России 1917-1918 гг. Например, «Гибель богов» главный герой играет, когда пришли известия об отрече- нии царя; с помощью полечки рассказчик представляет определенный сорт людей своего времени: «...это люди, настроенные апокалиптически, то есть: “Ну что, дождались, соколики? А не хотите ли теперь полечку-трясогузочку? То-то: все валится к чертовой матери, в черную дыру и провалится, - от Европы останется одна Эйфелева башня торчать. А нам, мудрым и косоглазым, наплевать на вашу Европу, мы даже премило настроены, желаем жить, как божьи звери... Гаф”» [Толстой 1982, 160]. Военную песенку «Мадлон», популярную во время Первой мировой войны, исполняет главный герой со своей подругой в кабачке для французских солдат в тыловом городе. Это был «характерный номер» с пародией на русских, в определенный момент начинала играть уже знаковая для героя и читателя «бешеная полька-трясогузка». А в одном из диалогов Епанчина и Поморцева в параллель с «Градом Китежем» встает «Интернационал». Другими словами, в рассказе Толстого выстраивается целая система музыкальных тем, среди которых ведущими являются опера Римского-Корсакова и полечка.
Исследований, в которых бы подробно анализировались музыкальные темы рассказа Толстого «Рукопись, найденная под кроватью», нет. В этом мы видим новизну нашей работы. В задачу данной статьи входит сопоставление рассказа Толстого и оперы Римского-Корсакова с целью выявить их пересечения на разных уровнях и обозначить вопросы для дальнейшего исследования.
«Рукопись, найденная под кроватью» - уникальный текст для Толстого, поскольку в небольшой форме данного произведения сконцентрирован широкий спектр реминисценций мировой (Данте Алигьери) и русской литературы (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский). Безусловно, музыкальные и литературные мотивы позволяют говорить о широкой проблематике рассказа. По крайней мере, шире, чем обозначали первые критики и исследователи творчества писателя, которые помещали «Рукопись...» в круг текстов, направленных на «обличение белой эмиграции». Отчасти последнему способствовали время и условия создания рассказа. Авторской датой написания «Рукописи...» является март 1923 г. В это время Толстой окончательно порывает с эмиграцией и вместе с семьей уезжает в Советскую Россию.
Тематически рассказ примыкает к кругу текстов о жизни русских эмигрантов. Но если предыдущие произведения в большей степени походили на очерки, заметки из жизни современников писателя, оказавшихся за границей после 1917 г. («В Париже», «Четыре картины волшебного фонаря»), то в «Рукописи...» временной отрезок значительно шире - это уже 1916 1919 гг. Главный герой - Александр Епанчин - оказался в Париже в 1916 г. в составе русского военного ведомства. Этот период был самым безмятежным для героя, который свободное от службы время посвящал музыке - играл и сочинял. События, произошедшие в 1918 и 1919 гг, привели Епанчина к самоубийству. Текст «Рукописи...» представляет собой предсмертное письмо главного героя своему другу, живущему в РСФСР, и носит исповедальный характер. Епанчин стремится объяснить (в первую очередь себе) то решение, которым он окончит свою жизнь. Трагическим поворотом для главного героя станет встреча с Михаилом Михайловичем Поморцевым. Большое влияние на Епанчина окажет разрушительная философия этого персонажа, которая строилась вокруг отношения к России: смесь презрения, гордости, готовности на предательство. Характер их общения Епанчин обозначит в одном из фрагментов: «Мы с Михаилом Михайловичем переживали с величайшей самоутвержденностью хлыстовскую, сатанинско-порочную славянщину» [Толстой 1982, 160]. Желая выйти из-под влияния Поморцева, Епанчин сначала убивает его, а потом себя.
По мнению главного героя, с исполнения «Сказания о невидимом граде Китеже...» и начались все его беды. Епанчин всегда играл для Поморцева один и тот же отрывок: «Помнишь это место в Китеже: над темным полем летит умученный князь, мертвый жених. Его шаги налетают, как топот коней, - надрывающий, мертвый топот. В сердце Февронии запевают похоронные лики лесных скитов, голосит исступленная вера... Преобразись, неправедная земля!.. И вот ударили колокола Града Китежа, раздались дивным звоном, гремящим солнечным светом... Михаил Михайлович раскачивается, пьяный, замученный... Черт его знает, что было в душе у него - не знаю, хотя и прикован к нему, как каторжник к каторжнику.... Вчитайся, пойми, - все это важно» [Толстой 1982, 158].
Отрывок, который играет Епанчин Поморцеву, соотносится с первой картиной четвертого действия оперы, когда Феврония встречает своего умершего жениха и входит с ним в райский город Китеж. В песнях волшебных птиц Сирина и Алконоста звучит обещание новой жизни и нового города, где все спасутся:
Обещал людям страждущим, Людям плачущим... новое: Обещал Господь людям праведным. Так сказал. Се сбывается слово Божие, Люди, радуйтесь: здесь обрящете Всех земных скорбей утешение, Новых радостей откровение
[Бельский 1967, 78-79].
Обращаясь к данной опере, Толстой таким образом обыгрывал распространенные в то время рассуждения о будущем России, которые можно сравнить с фразой из его же «Рассказа проезжего человека» (1917): «Беседа наша была похожа на мочалку, которую жевал каждый поочередно: “Пропадем или не пропадем? Быть России или не быть? Будут резать интеллигентов, или останемся живы?”» [Толстой 1982, 7]. Но в «Рукописи...» этот вопрос к 1923 г. становится уже экзистенциальным, напрямую связанным с жизнью главного героя. В особо тяжелые минуты раздумий Епанчину удается уловить существование на Елисейских полях какого-то параллельного солнечного и прекрасного пространства, которое можно соотнести с предчувствием града Китежа: «Сквозь голубоватую дымку проступали полукруглые крыши, прозрачные клубы аллей. Вниз уходила вся залитая потоками солнца, точно стеклянная, широкая дорога бессмертия. Почему я подумал “бессмертия”? Я остановился и глядел, - блаженно билось сердце. Падающая и вдали, к садам Тюильри, снова поднимающаяся, среди весенней зелени, среди облачных домов, - в маркизах, в балкончиках, в крылатых конях, - непомерно широкая дорога Елисейских полей уходила в марево, в какую-то на мгновение осуществленную красоту» [Толстой 1982, 161] [здесь и далее курсив наш - Е.БД. Особое значение имеет и место, где Епанчина настигло его видение - Елисейские поля, или Элизиум, «острова блаженных» (часть загробного мира в античной мифологии, царство вечной весны, в котором души людей живут без печали и забот).
Данный отрывок может быть соотнесен с описанием преображенного града Китежа во второй картине четвертого действия: «Высокия колокольни, костры на стенах, затейливые терема и повалуши из белого камня и кондоваго дерева. Резьба украшена жемчугом; роспись синего, пепельного и сине-алого цвета, со всеми переходами, какие бывают на облаках. Свет яркий, голубовато-белый, со всех сторон, как бы не дающий тени. Налево против ворот княжьи хоромы; крыльцо сторожат лев и единорог с серебряной шерстью. Сирин и Алконост - райские птицы с женскими ликами поют сидя на спицах» [Бельский 1967, 79].
У нас нет пока данных, был ли знаком Толстой непосредственно с текстом либретто, но описание парижского видения Епанчина имеет много сходства с Китежем: от совпадения в цветовой палитре до очертаний строений («полукруглые крыши» - «колокольни»; «дома в маркизах, балкончиках» - «затейливые терема и повалуши» и т.п.). Гипотетически на Толстого могли повлиять декорации увиденной им постановки оперы, либо иллюстрации к этой известной легенде, получившей особую актуальность именно в XX в. Вопрос для дальнейшего исследования заключается в поиске материалов, которыми располагал Толстой при создании рассказа.
Кроме возможной связи приведенного фрагмента из «Рукописи...» с описанием града Китежа в либретто, можно говорить о проблеме противопоставления мечты - реальности в тексте Толстого. Так, видение Епанчина на Елисейских полях разрушается при появлении раненных солдат: «Мимо меня по торцовой мостовой проехали гуськом механические кресла с безногими солдатиками. Идиоты! Бездарные, жалкие дураки!» [Толстой 1982, 161].
На контрасте строится и описание Парижа в праздник разоружения: «На ней [площади] от вершины Люксорского обелиска к статуям двенадцати городов Франции были протянуты веревки, усаженные огромными коричневыми цветами из бумаги. <...> Повсюду, как высохший лес, торчали высокие, тонкие шесты, обвитые лентами, украшенные бумажными цветами. Эти непонятные шесты и деревянные арки с намалеванными, как в кинематографических рекламах, транспарантами тянулись вдоль Елисейских полей. Солнце пылало в душном мареве над шестами и арками, над бумажными цветами, заржавленными пушками, над этим страшным праздником умерщвленных» [Толстой 1982, 178]. В данном отрывке сложно не увидеть прямого противопоставления первого видения Епанчина на Елисейских полях и реального города. Здесь описывается Париж с субъективной точки зрения Епанчина, окружающая его жизни такова, что все приобретает зловещие и мертвенные черты.
Мы уже указывали выше, что текст рассказа «Рукопись...» представляет собой синтез литературных и музыкальных реминисценций. Этим произведение Толстого также схоже с оперой Римского-Корсакова. «Сказание о невидимом граде Китеже...» помимо музыкальных достоинств уникально с точки зрения либретто. В.И. Бельский, автор текста, при разработке основного сюжета соединяет ряд источников: от древнерусских памятников «Китежский летописец», «Повесть о Петре и Февронии» Ермолая Еразма, «Повести о Горе-Злосчастии» до романа П.И. Мельникова-Печерского «В лесах» и др. Исследователь творчества Римского-Корсакова С.В. Черевань указывает, что финал произведения композитор и автор либретто рассматривают как две перспективы будущего России: небытия (как Малый Китеж и Гришка) и духовного Возрождения (как Великий Китеж и Феврония) [Черевань 1998, 120].
Как было указано выше, возможно, главной причиной обращения Толстого именно к данной опере стала актуальность ее проблематики для истории России не только начала 1900-х, но и конца 1910-х гг. В финале рассказа Поморцев снова обратится к отрывку из «Сказания о невидимом граде Китеже...»: «Теперь у меня - покровитель, скоро буду дьявольски богат. <.. .> Продаю англичанам нефтяные участки в Азербайджане... Старые связи... Конечно, я - подлец. Но все это мелочи... Погляди, пощупай меня... Другой?.. Правда? Во мне все поет. Помнишь - “преобразись неправедная земля!” и бум, - колокола Града Китежа... тогда были только слезы, у Паяра - голые девчонки, слезы, - не преобразится никогда, нет... А теперь, слышишь, - поднялись покойнички: земля больше не принимает, такая мука... Поднялись, ухватились за веревку, раскачали и - бум. «Преобразись, неправедная земля!..» [Толстой 1982, 172]. В воспаленном мозгу Поморцева возникают апокалиптические картины происходящего в России: «В Сибири вехи стоят из мороженых мужиков. Горят леса, города, стога в степи. Гуляют кони. Сабельки помахивают. А колокола под землей - бумм, бумм, бумм! Преобразись, неправедная земля! Австрия летит к черту. В Италии выбили русскую медаль... <...> Слушай, Саша, слушай, - это воет человек, рвет с себя звериную маску» [Толстой 1982, 173]. Увлекаясь своими видениями, Поморцев выглядит как человек, потерявший рассудок. Но это только кажется. Он может полностью отказаться от своих взглядов, от яростной агитации, как только появляется возможность заработать деньги, пожить в свое удовольствие. Когда Епанчин понимает эту черту в характере Поморцева, он решается на его убийство.
Исследователь «Сказания о невидимом граде Китеже...» М. Пащенко, рассуждая о восприятии публикой этой оперы в первой половине XX в., указывает, что «основательный сплав реализма и мистики способствовал непотопляемости оперы на рубеже двух идеологических парадигм» [Пащенко 2008, 181]. Отмечая особую символику оперы, Пащенко определяет это произведение Римского-Корсакова и Бельского «как русский remake Священной истории. Историчности русского сюжета соположен библейский историзм, а мистическому пути к раю вперед соответствует путь к раю назад, в исторически засвидетельствованные благословенные времена» [Пащенко 2008, 181]. Толстой отчасти использует указанные черты произведения Римского-Корсакова в своем рассказе. Так Епанчин пытается справиться со своими впечатлениями о событиях в России, погружаясь в мистические видения исторических трагедий более далеких эпох или предчувствуя неведомое для себя райское пространство.
Кроме очевидных перекличек произведений Римского-Корсакова и Толстого на уровне проблематики, можно говорить также о некоторых параллелях в системе образов. Например, Гришка Кутерьма из оперы, вероятно, соотносится с Михаилом Поморцевым.
Кутерьма - главный злодей в «Сказании о невидимом граде Китеже...»: он из трусости предает князя и всех жителей города, постоянно оскорбляет Февронию, в итоге сходит с ума. Поморцев также представляет собой источник зла в рассказе, от него, как из ящика Пандоры, исходят все человеческие пороки: пьянство, необузданность, сладострастие, гнев, презрение. В приведенном выше эпизоде налицо сумасшествие героя, его предательство выражается в афере с нефтяными участками, в финале рассказа в описаниях его внешности Толстой подчеркивает мертвенность - «был похож на веселого покойничка». Кроме того, Поморцев не способен выйти за пределы своей злости, ничто его не меняет. Так и Гришка Кутерьма продолжает насмехаться над Февронией после того, как девушка освободила его из плена. Даже биографически Поморцев может быть связан с Гришкой: потомок Чингиса, был из рода опричников, а «погиб он [предок Поморцева - Е.БД на безрассудном деле, - плененный татарами, замучен в Карасубазаре» [Толстой 1982, с.158].
Как мы упоминали выше, среди источников для либретто Бельский использовал «Повесть о Горе-Злосчастии». Поэтому Гришка Кутерьма представляет героя со сложной психологией, он постоянно борется внутри себя с бесом, перед Февронией иногда разыгрывает покаяние. Это также соотносится с образами Поморцева и Епанчина в рассказе Толстого, отсылая к мотиву двойничества в «Рукописи...» [подробнее - Извозчикова 2016].
Епанчин, несмотря на зависимость от Поморцева, все же отличается от него. Он способен чувствовать красоту, любить, у него получается устроить «птичье счастье» с француженкой Ренэ. В главном герое есть тяга к гармонии (отчасти на это влияет то, что он музыкант и литератор), поэтому именно ему чудится в очертаниях Парижа другое пространство, «на мгновение осуществленная красота».
В системе образов рассказа Толстого пара Поморцев - Епанчин лишь частично соответствует Гришке Кутерьме - Февронии в опере Римского-Корсакова. Правда, в подкрепление параллелей Епанчин - Феврония может служить знаковая деталь обоих произведений - письмо.
Феврония, оказавшись вместе с князем в Китеже, имеет единственное желание - написать Гришке в качестве утешения:
ФЕВРОНИЯ (Поярку). Ну, пиши. Чего же не сумею, люди добрые доскажут. Гришенька, хоть слаб ты разумом, А пишу тебе сердечному.
-
<.. .> В мертвых не вменяй ты нас, мы живы: Китеж град не пал, но скрылся.
Мы живем в толико злачном месте, что и ум вместить никак не может; процветаем аки финики, аки крины благовонные...
(князю Юрию)
Кто же в град сей внидет, Государь мой?
КНЯЗЬ ЮРИЙ.
Всяк, кто ум не раздвоен имея, паче жизни в граде быть восхощет.
ФЕВРОНИЯ.
Ну, прощай, не поминай нас лихом. Дай Господь тебе покаяться.
Вот и знак: в нощи взгляни на небо, как столпы огнистые пылают; скажут: пазори играют... нет, то восходит праведных молитва.
-
<.. .> Ино же к земли приникни ухом: звон услышишь благостный и чудный, словно свод небесный зазвенел.
То во Китеже к заутрене звонят [Бельский 1967, 85-86].
Включая данный сюжет в финал оперы, Бельский таким образом использовал поверье о том, что рядом с озером Светлояром люди находили письма своих родственников из града Китежа. Можно утверждать, что письмо из другого мира обыгрывает и Толстой в своем рассказе. Эпистолярный жанр оказывает влияние на композицию всего произведения; рассказ является исповедальным письмом Епанчина своему другу, чтобы напомнить о себе, попросить разобраться в произошедшем, письмом из одного мира в другой - из Парижа в РСФСР. Отчасти в рассказе есть и автобиографический момент: Толстой писал данное произведение, уже ориентируясь на советского читателя, полностью порывая с эмиграцией. Перекличку либретто с рассказом можно усмотреть и в словах князя Юрия о «нераздвоенном уме» (о ведущем мотиве двойничества мы уже упоминали).
В результате сопоставления оперы Римского-Корсакова и рассказа Толстого нам удалось выявить пересечения на уровне проблематики, системы образов и жанра (письма / рукописи).
К моменту создания рассказа «Рукопись, найденная под кроватью» (1923) образ града Китежа уже активно использовался русскими писателями для осмысления революции, будущего России, причем очень по-разному [Шешунова 2005]. С помощью оперы Римского-Корсакова Толстой спародировал распространенные в то время историософские концепции современников.
Образы «Сказания о невидимом граде Китеже...» глубоко проникают в текст рассказа, влияют на основные черты поэтики «Рукописи...». Особое внимание в произведении Толстой уделяет актуальной проблеме своего времени - влиянии исторических событий на жизнь человека. Именно поэтому тема русской эмиграции в «Рукописи...» разворачивается до темы кризиса в Европе и мире в целом.
Дальнейшего исследования требует поиск материалов, которые мог использовать писатель: личные впечатления от конкретной постановки «Сказания о невидимом граде Китеже...», знакомство с текстом либретто, работы художников-декораторов. Наиболее важным нам представляется решение вопроса о месте рассказа «Рукопись, найденная под кроватью» в русской литературе первой трети XX в., поскольку круг авторов, обращавшихся к образу града Китежа достаточно широк: 3. Гиппиус, М. Пришвин, А. Ахматова, Н. Клюев, С. Есенин, С. Городецкий, Б. Корнилов и многие другие.
Список литературы Мотивы оперы Н.А. Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже…" в рассказе А.Н. Толстого "Рукопись, найденная под кроватью"
- Бельский В.И. "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Н.А. Римского-Корсакова. М., 1967.
- Извозчикова Е.А. Проблема двойничества в произведениях А.Н. Толстого 1920-х гг. ("Рукопись, найденная под кроватью" и "Похождения Невзорова, или Ибикус") // Альманах современной науки и образования. 2016. № 7 (109). С. 32- 35.
- Пащенко М. "Китеж", или Русский "Парсифаль": генезис символа // Вопросы литературы. 2008. № 2. С. 145-182.
- Черевань С.В. "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Н.А. Римского-Корсакова в философском контексте эпохи: дисс. … к. искусствовед. н.: 17.00.02. Новосибирск, 1998.
- Шешунова С.В. Град Китеж в русской литературе: парадоксы и тенденции // Известия Российской Академии наук. Серия литературы и языка. 2005. Т. 64. № 4. С. 12-23.