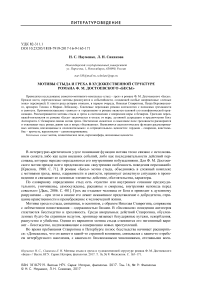Мотивы стыда и греха в художественной структуре романа Ф. М. Достоевского "Бесы"
Автор: Науменко Наталья Сергеевна, Синякова Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Проводится исследование сюжетно-мотивного комплекса «стыд - грех» в романе Ф. М. Достоевского «Бесы». Прежде всего, перечисленные мотивы реализуются в событийности, создающей особые напряженные «личные зоны» персонажей. К такого рода акторам относим, в первую очередь, Николая Ставрогина, Петра Верховенского, архиерея Тихона и Марию Лебядкину. Ключевые персонажи романа соотносятся с полюсами греховности и святости. Противопоставление «святых» и «грешников» в романе является основой его полифонической организации. Рассматриваются мотивы стыда и греха в соотношении с вопросами веры и безверия. Трагедия персонажей-нигилистов из романа «Бесы» заключается в отказе от веры, духовной деградации и предпочтении Богу Антихриста. С безверием связан мотив греха. Постепенно сюжетное и смысловое поле греховности расширяется и охватывает весь роман, равно как и вихрь «бесовщины». Выявляются аксиологические функции рассматриваемых мотивов, воплощаемые в «положительных» и «отрицательных» ценностях: гордыня - смирение, властолюбие - кротость, вероломство - самопожертвование.
Мотив, семантическое поле, персоносфера, жизненные ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/147219847
IDR: 147219847 | УДК: 82-311.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-9-165-171
Текст научной статьи Мотивы стыда и греха в художественной структуре романа Ф. М. Достоевского "Бесы"
В литературно-критическом узусе понимание функции мотива тесно связано с истолкованием сюжета либо как цепи внешних событий, либо как последовательности действий персонажа, которые нередко определяются его внутренними побуждениями. Для Ф. М. Достоевского мотив прежде всего представлен как «внутренняя особенность поведения персонажей» [Краснов, 1980. С. 71]. В романе «Бесы» мотив стыда, объединяясь в сложный комплекс с мотивами греха, вины, одержимости и святости, организует сюжетную ситуацию в произведении и связывает ее основные элементы: действие, обстоятельства, характеры.
По словарному определению стыд есть «чувство или внутреннее сознание предосудительного, уничиженье, самоосужденье, раскаянье и смиренье, внутренняя исповедь перед совестью» [Даль, 2006. С. 401]. Грех же отдаляет человека от Бога и приводит к духовному разрушению – при этом в основе его лежит искаженное представление о добродетели, отрицание нравственности и пренебрежение к человеческой жизни.
Мотивы греха и стыда, связанные, в основном, с образом Николая Ставрогина, сопряжены с лейтмотивом повествования – одержимостью бесами. В «бесовском» поведении антигероя сплетаются бесстыдство и греховность. Среди аморальных действий Ставрогина, обусловленных будто бы странным недугом, хроникер называет безудержные кутежи, оскорбления, распутство и убийства. Одним из вариантов мотива стыда становится его негативный вариант – бесстыдство, подталкивающее к совершению новых преступлений.
Во время пребывания Ставрогина в Петербурге полюс бесстыдства начинает расширяться: «Доискались, что он живет в какой-то странной компании, связывался с каким-то отребьем петербургского населения, с какими-то бессапожными чиновниками, отставными воен-
Науменко Н. С ., Синякова Л. Н . Мотивы стыда и греха в художественной структуре романа Ф. М. Достоевского «Бесы» // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 9: Филология. С. 165–171.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 9: Филология
ными, благородно просящими милостыню, пьяницами, посещает их грязные семейства, дни и ночи проводит в темных трущобах и бог знает в каких закоулках, опустился, оборвался и что, стало быть, это ему нравится 1» [Достоевский, 1990, Т. 7. С. 40] 2.
Вдохновляющей эмоцией для Ставрогина в акте бесстыдства становится самоупоение от совершения подлых поступков. Он – имморалист, которому важен не этический смысл поступка, а его эмоционально-аффективный импульс, сила потрясения.
В главе «У Тихона» романист раскрывает сущность центрального персонажа: «Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение. <…> Не подлость я любил ( тут рассудок мой бывал совершенно цел ), но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости . <…> Никогда я не говорил о том никому, даже намеком, и скрывал как стыд и позор » (с. 643).
Грехи Ставрогина граничат с преступлением, вытесняя в его сознании представления о нравственности и стирая в его внутреннем существе границы между добром и злом. Одинаковую красоту видит Ставрогин и в крайнем проявлении уродства, и в подвиге ради высшей цели. Наслаждение от совершения подлых деяний для него не только превращается в будоражащее ощущение, способное вывести из пресного равновесия обыденности, но и побуждает к совершению новых преступлений. Кроме того, наслаждение от самоуничижения соотносится с греховностью: чем гаже поступок, тем выше упоение от сознания низости.
А. Л. Бем, один из сторонников идеи о том, что «Ставрогин романа» и «Ставрогин изъятой главы» (имеется в виду глава «У Тихона») могут сосуществовать в одном лице, выделил основные причины духовной неполноценности антигероя: «Скука и праздность – вот главные симптомы этой болезни духа. <…> Исповедь – это не только попытка сломить свою гордость, но и последний порыв к “Энтузиазму”, к непосредственному растворению себя в покаянии. Но этот порыв гаснет, ибо нет подлинного смирения» [Бем, 2001. С. 139] 3.
Посещение монастыря продемонстрировало новый уровень подлости Ставрогина. Он намеренно открывает монаху, человеку святой жизни, правду о совершении отвратительного греха – совращении ребенка – и жаждет услышать слова презрения в ответ. Ставрогину важно признание посторонним лицом, в особенности праведником, жестокости преступления 4.
Тихон предсказывает трагический финал для Ставрогина, в будущем видя для него «почти непроходимую бездну» (с. 659). Духовное перерождение и последующее смирение, которого так жаждет антигерой, проистекает от публичного осуждения – наказания стыдом. Приятие стыда – один из вариантов покаяния, однако гордыня Ставрогина не позволит ему быть оплеванным публично, в результате чего «великий грешник» приходит к решению совершить самоубийство. В финале романа мотив стыда трансформируется в мотив греха: Ставрогин совершает самоубийство, т. е. окончательно отрывает себя от веры.
Таким образом, мотив стыда в образе центрального персонажа романа неразрывно связан с мотивами внутренней борьбы, соблазна, душевных изъянов и, наконец, лейтмотивом повествования – одержимостью бесами. Постепенно влияние последнего усиливается, что приводит к окончательному подчинению Ставрогина «бесовскому» началу и далее – к самоубийству.
В романе «Бесы» Ф. М. Достоевский художнически исследовал, как от Христа способен отречься тот, кому предназначено исполнение высшей цели.
Ставрогин обладает мистическим, гипнотическим обаянием; все к нему тянутся, воздвигают ему «пьедестал», стремятся быть к нему приближенными: Верховенский-младший называет его «идолом», Шатов признается, что «не может вырвать (его. – Н. Н ., Л. С .) из своего сердца», а в обществе «даже гордость и та брезгливая неприступность, за которую так ненавидели его <…> четыре года назад, теперь уважались и нравились» (с. 243, 283, 393). Однако демоническая красота Ставрогина оказывается губительной. Во внешности героя – мертвом лице, «напоминающем маску», и обманчивом спокойствии хладнокровного существа – скрываются противоречия (с. 42). Он одновременно и красив, и отвратителен, что является отражением внутренней раздробленности, ведь человек безгрешный, гармоничный в своей духовной целостности, гармоничен и внешне. Таким образом, построенная на контрастах внешность отражает дисгармоничность характера и внутреннюю греховность.
При отсутствии положительного начала Ставрогин постепенно подчиняется началу греховному, его деяния становятся всё страшнее и отвратительнее, а душа начинает разлагаться. Духовное разрушение окружающих вследствие «экспериментов» над их сущностью не вызывает у Николая Ставрогина чувства вины, поэтому понятие греха ему до определенного момента неведомо. Однако в главе «У Тихона» автор казнит героя страшным грехом.
Насилие над девочкой и ее последующее самоубийство оказывают столь сильное воздействие на Ставрогина, что он не в силах отрефлексировать свой самый страшный грех. Всеми силами он пытается вытеснить произошедшее из памяти и дистанцироваться от совершенного преступления. Однако сила греха настолько велика, что Ставрогин не может справиться с ней. Переполненный мерзостью от совершения низких поступков, он не в состоянии осознать и преодолеть свой самый страшный грех. Мотиву греха сопутствует мотив вины в совершенном преступлении, так как грехи делают человека виновным перед Богом и отделяют его от Царства Божия [Ринекер, Майер, 1992. С. 959].
Несмотря на то что центральной фигурой романа является Николай Ставрогин, символически отражающий всю Россию, которая задыхается в вихре «бесовщины», не менее важен для концепции произведения его самый преданный последователь, лакей и шут в одном лице, Пётр Верховенский.
Греховность для «беса» Верховенского выступает одновременно предметом самолюбования и основой миропорядка; она проявляется в цинизме, безверии, отсутствии моральных и нравственных скреп. Пренебрежение к окружающим служит индикатором жестокости, проявляясь не только в отношении посторонних, но и отца – Степана Трофимовича Верховенского, который искренне любит сына. Не признающий общественных устоев и отрицающий Бога, Верховенский-младший являет собою символическое обобщение «нечаевщины».
Отсутствие в Верховенском человечности – одна из главных черт, соотносящая его с «бесовским» полюсом. Прежде всего, «бесовщина» обнаруживается в революционном движении, но, кроме того, в одержимости ложными идеями, многократном совершении преступлений и провозглашении принципов, противных нормам морали.
Трикстер Верховенский вовлекает окружающих в «бесовскую» суету. Поглощенный разрушительными революционными идеями, он верит единственно в революцию и смуту, которую жаждет посеять по всей России с помощью ослепленной одержимостью шайки: «Мы сделаем такую смуту, что всё поедет с основ» (с. 391). Греховность – главенствующий элемент в системе ценностей Верховенского, служащий критерием в оценке поведения окружающих и определяющий степень их «пригодности» к революционному делу: «Затем следуют чистые мошенники; ну эти, пожалуй, хороший народ, иной раз выгодны очень, но на них много времени идет, неусыпный надзор требуется» (с. 362).
Революционные настроения, по мнению Ф. М. Достоевского, неразрывно связаны с атеизмом. Главную причину смуты 1860–1870-х гг. великий писатель видел в отсутствии веры и отрыве от почвы – эти идеи легли в основу замысла романа «Житие великого грешника», который был преобразован в романы «Бесы» и «Братья Карамазовы». Верховенский убежден в том, что безверие является одним из основополагающих факторов бунта в России, и пытается убедить в этом Ставрогина: «Кстати, Шатов уверяет, что если в России бунт начинать, то чтобы непременно начать с атеизма» (с. 216).
Отказывая Богу в божественном статусе, превосходящем всё существо жизни, Верховен-ский-младший самолично занимает его место и утверждает за собой право распоряжаться чужими судьбами. Глубинное значение греха заключается в том, что человек ставит себя на место Бога и притязает распоряжаться своей судьбой так, как того хочет, в то время как это позволено только Господу [Леон-Дюфура, 1990. С. 238].
Своим соратником по революционному делу Верховенский-младший мнит Николая Ставрогина, которого ассоциирует с Антихристом. В основе связи «главных бесов» романа лежит отрицание нравственных понятий, своеволие и греховность. Сходство персонажей заключается в том, что оба намеренно обрывают связь с родом, не знают любви к родине и не верят в Бога – эта триада составляет основу греховности по Ф. М. Достоевскому. Однако если Ставрогин предстает на страницах романа опустошенным человеком с очерствелым сердцем, то Верховенский полон губительной страсти к революционным идеям и мечтает действовать во имя разрушения.
В восприятии Верховенского-младшего Ставрогин – «Иван-Царевич», самозванец и властитель разрушения, лишенный нравственных качеств бесстыдник и грешник, которому следует возглавить революционное движение (с. 395). Петр Верховенский не только создает облик идеального мессии революции, он называет Ставрогина «идолом», возле которого он сам – жалкий «червяк» (с. 394). Возвеличивание Ставрогина и придание ему «божественного» статуса есть прямое нарушение второй библейской заповеди: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой…» (Ис. 20: 4–6). «Обожествление» Ставрогина проявляется также в наделении «Ивана-Царевича» качествами, необходимыми для служения революционному делу. «Бесовская» сущность одерживает верх над самим Верховенским, замещая реальность: «…Вы мой идол! <…> Вы именно таков, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк...» (с. 394).
Бесстыдник по своей натуре, Верховенский-младший использует чувство стыда в качестве общественного регулятора, что обнаруживается в революционной программе: «…самая главная сила – цемент, все связующий, – это стыд собственного мнения . Вот это так сила! И кто это работал, кто этот “миленький” трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове! За стыд почитают » (с. 362). Чувство стыда, положенное в основу «социального» управления в революционном обществе, выполняет мотивирующую функцию: «Пошли они, разумеется, из великодушного стыда, чтобы не сказали потом, что они не посмели пойти, но все-таки Петр Верховенский должен бы был оценить их благородный подвиг и по крайней мере рассказать им в награждение какой-нибудь самый главный анекдот» (с. 368). Кроме того, в отличие от Ставрогина, для которого стыд является отрицатель-но-сдерживающим фактором, Верховенский признает стыд движущей, карающей силой: «Мы организуемся, чтобы захватить направление; что праздно лежит и само на нас рот пялит, того стыдно не взять рукой» (с. 565).
В противовес полюсу греховности в романе можно выделить полюс святости, с которым соотносятся персонажи, не ведающие греха или отказавшиеся от мирских страстей и посвятившие себя служению Господу. Святость предполагает тесную связь с Богом, поэтому традиционно ассоциируется с чистотой и непорочностью – в противоположность греховности 5.
В романе «Бесы» полюс святости имеет подвиды: полюс блаженства и полюс «учительной святости», с которыми соотносятся Мария Лебядкина и старец Тихон, носители «истинных» ценностей. Автор вынашивал замысел о том, что Хромоножка и Тихон совершат над Ставрогиным суд высшей, народной этики, неотделимой от религиозных представлений о добре и зле (с. 701).
В Библии блаженными именуются все, уповающие на Бога. В Новом Завете особенно призваны радоваться Царству Божию нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы и изгнанные за правду [Ринекер, Майер, 1992. С. 751]. Мария Лебядкина описана хроникером как кроткая тихая женщина, озаренная спокойной радостью. Святость Хромоножки восходит к благочестию: в ее комнатке стоит свечка, а в углу, под образами, расположен вербный херувим из бумажных роз. Набожность усиливает связь героини с Богом, сополагая ее с «божественной» сферой.
Блаженство часто связывают с мученичеством и душевными или физическими страданиями. Телесные страдания вызваны хромотой, следствие которой – обособленность от общества и изоляция в тесной комнатушке, символически соотносящейся с кельей. Физический недуг отражает недуг душевный: детская наивность и простодушие обусловлены болезнью рассудка.
Введение в роман образа Марии Лебядкиной и ее последующая гибель «усиливает трагическую тональность произведения с его финальными убийствами и самоубийствами» (с. 706). Очевидно, что этот персонаж архетипически восходит к образу русской Души. Чистота сердца, простодушие и наивность в Хромоножке соседствуют со способностью сострадать, бескорыстием и жертвенностью.
В образе Марии Лебядкиной обнаруживается мотивная пара «стыд – вина». Физическое увечье – хромота – вызывает ощущение непригодности и неполноценности, вынуждает замыкаться в себе. Вместе с осознанием собственной дисгармоничности возникает стыд, который воплощается в реакции на возможное осуждение окружающих. Стыдливость Хромоножки проявляется также физически – в опущенном взгляде и поникшей голове: «…она упала всем боком на кресло и, не будь этих кресел, полетела бы на пол. <…> Она видимо была огорчена своим падением, смутилась, покраснела и ужасно застыдилась. Молча смотря в землю, глубоко прихрамывая, она заковыляла за ним, почти повиснув на его руке» (с. 177).
Являясь жертвой чар демона Ставрогина, образ которого двоится в сознании несчастной, Хромоножка чувствует перед ним вину за собственную неполноценность – это и физический недуг, и нежелание мириться с двойственностью Ставрогина, и направленные на него подозрения: «Молюсь я, бывало, молюсь и всё думаю про вину мою великую пред ним» (с. 261).
Если сравнение Ставрогина с Григорием Отрепьевым в представлении Верховенского основано на «необыкновенной способности к преступлению», то «общий знаменатель» в глазах Марии Лебядкиной – демоническое начало. Брошенное вслед Ставрогину предзнаменование «Гришка Отрепьев, анафема!» становится пророческим, и всё, что следует дальше, есть только «судорожное метание предопределенного к гибели антигероя» (с. 264) [Бем, 2001. С. 153]. Полюс святости вытесняет полюс греховности, перекрывает его: Ставрогин оказывается бессилен перед прозревшей Хромоножкой, поэтому, уязвленный, спешно покидает квартиру Лебядкиных.
К полюсу «учительной святости» также относится образ старца Тихона – бывшего архиерея, который по болезни живет в монастыре на покое. В главе «У Тихона» старец представлен мудрым учителем и беспристрастным судьей. В Библии учителями названы люди, призванные открыть окружающим Божью волю и привести их к познанию истины [Ринекер, Майер, 1992. С. 4727].
В образе Тихона концентрируются основные христианские добродетели: смиренная мудрость, кротость и сострадание. Кроме того, автор наделяет его не только эмпатией, но и даром провидения: «Ему (Ставрогину. – Н. Н ., Л. С. ) с чего-то показалось, что Тихон уже знает, зачем он пришел, уже предуведомлен <…>, и если не заговаривает первый сам, то щадя его, пугаясь его унижения» (с. 636).
Тихон поставлен перед моральной дилеммой: ему предстоит раскрыть подлинные мотивы Ставрогина, явившегося к нему с рукописным вариантом исповеди и полного решимости эту исповедь обнародовать. Как и в эпизоде с Марией Лебядкиной, в главе «У Тихона» происходит столкновение двух персонажей, в образах которых воплощаются мотивы святости и греховности. Близость к Богу и проницательность не позволяют старцу обмануться. В исповеди он видит закравшегося Дьявола и осознает расщепленность личности собеседника: «Иные места в вашем изложении усилены слогом; вы как бы любуетесь психологией вашею и хватаетесь за каждую мелочь, только бы удивить читателя бесчувственностью, которой в вас нет» (с. 657).
М. М. Бахтин высказал мнение о том, что «с Тихоном говорят как бы два человека, слившиеся в одного. Ему противостоят два голоса, во внутреннюю борьбу которых он вовлекается как участник» [1963. С. 176]. Обращенная к Ставрогину назидательность является ритори- ческой попыткой старца указать грешнику путь истинный. М. М. Бахтин утверждал, что «без признания и утверждения другим Ставрогин не способен принять себя самого, но в то же время не хочет принять и суждения другого о себе» [1963. С. 272]. Сострадание Тихона позволяет взять на себя роль «незнакомца», выслушать Ставрогина и подсказать ему путь к искуплению, однако для последнего перспектива обратиться в веру смехотворна. «Святость» Тихона, коснувшись «великого грешника», в бессилии отступает, поскольку греховность, заключенная в многочисленных преступлениях, безверии, оторванности от почвы и гордыне, слишком велика, чтобы Ставрогин пришел к покаянию.
В представлении великого писателя преодоление греховности возможно только в результате восстановления связи с Богом, почвой и народом. Таким образом, анализ мотивной пары стыда и греха в художественной структуре романа Ф. М. Достоевского «Бесы» позволил не только выявить ключевые персональные концепции действующих лиц, но и соотнести идейный фундамент романа со всей творческой системой Ф. М. Достоевского.
Список литературы Мотивы стыда и греха в художественной структуре романа Ф. М. Достоевского "Бесы"
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского: Моногр. М.: Сов. писатель, 1963. 363 с.
- Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе: Моногр. М.: Языки славянской культуры, 2001. 451 с.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М: Рипол классик, 2006. Т. 3. 549 с.
- Краснов Г. В. Мотив в структуре прозаического произведения. К постановке вопроса // Краснов Г. В. Вопросы сюжета и композиции. Горький, [б. и.], 1980. С. 69-81.
- Леон-Дюфура К. Словарь библейского богословия. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. 594 с.
- Ринекер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза: В 86 т. (82 осн. 4 доп.). СПб.: Терра, 1992. 5414 с. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/biblejskaja-entsiklopedijabrokgauza/ (дата обращения 01.07.2017).
- Топоров В. Н. Святость и русские святые: Моногр. М.: Гнозис, 1995. 875 с.
- Достоевский Ф. М. Бесы: Роман // Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. Л.: Наука, 1990. Т. 7. 632 с.
- Достоевский Ф. М. Рукописные редакции романа «Бесы». Наброски 1874-1879 годов // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1975. Т. 12. 371 с.