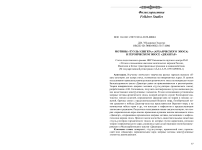Мотивы "тууль-улигера" (архаического эпоса) в героическом эпосе "Джангар"
Автор: Убушиева Данара Владимировна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы. Текстология
Статья в выпуске: 1 (48), 2019 года.
Бесплатный доступ
Изучение эпического творчества разных народов выявило общие категории для жанра эпоса, основанные на инвариантных ядрах. В данном исследовании проведена реконструкция архаического эпоса на материалах песен Багацохуровского цикла «Джангар» ранее не привлекавшегося к рассмотрению. Теория инвариантных ядерных мотивов «тууль-улигера» (архаического эпоса), разработанная А.Ш. Кичиковым, получила подтверждение путем выявления ранее недостающих конструктивных элементов. В ходе исследования установлены ядерные мотивы архаического эпоса, основой которого служит богатырское сватовство: поиски суженой, передвижение Джангар-хана по мирам в поисках суженой, брачные связи с представительницей Водного мира, богоборческий мотив сражения и победы Джангар-хана над представителем Верхнего мира, а не неминуемая гибель героя и др., что восходит к мифологии и предшествующим эпическим традициям. Результаты исследования также свидетельствуют, что теория «первоначально ядра» вполне применима к ранним циклам калмыцкого эпоса «Джангар», сохранившим архаические ядерные мотивы, восходящим к мифологическим корням эпоса. Прологи песен могли быть самостоятельными сюжетами «тууль-улигеров» (архаического эпоса), из которых путем нарастания, согласно теории «первоначального ядра», развились ныне существующие песни Багацохуровского и Малодербетовского циклов «Джангара».
Инвариант, "тууль-улигер", архаический эпос, героический эпос "джангар", первоначальное ядро, ядерные мотивы, конструктивные элементы, реконструкция
Короткий адрес: https://sciup.org/149127144
IDR: 149127144 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00004
Текст научной статьи Мотивы "тууль-улигера" (архаического эпоса) в героическом эпосе "Джангар"
Изучение эпического творчества разных народов выявило общие категории для жанра эпоса: «эпическое время и пространство», «эпическая сюжетика», «эпический герой», «эпический фон» основанные на инвариантных ядрах. По наблюдению Б.Н. Путилова, «у каждой эпической системы свой эпический язык, национальный (этнический) по своей природе и особенностям, но есть ряд универсалий, инвариантных черт, общих для всех или каких-то групп эпических систем и придающих всем им известную степень типологического жанрового единства» [Путилов 1999, 27]. Песни ранних циклов калмыцкого эпоса «Джангар» в наивысшей степени отражают это жанровое единство, объединяющее не только эпос монголоязычных народов, но и в целом мир эпоса. Как отмечает Б.Н. Путилов, «из архаики в классический эпос перешли (трансформировавшись, наполнившись новыми значениями, новыми историческими связями и т.д.) многие архаические сюжетные темы, мотивы, ситуации, персонажи» [Путилов 1999, 15].
В.Я. Пропп, изучив русский героический эпос, заключает: «Эпос возникает не при возникновении государств, а раньше. Он создается при разложении родового строя...» [Пропп 1958, 57]. Сюжет раннего эпоса строится на «поисках жены и основании парной моногамной семьи» и обозначен как «догосударственный» эпос [Пропп 1958, 58]. В.М. Жирмунский в сравнительно-историческом разрезе исследовал тюрко-монгольские сказания. Им рассмотрены основные мотивы - чудесное рождение, героическое детство, богатырский рост, неуязвимость, получение имени, приобретение богатырского коня и оружия, героическое сватовство как «первое звено поэтической биографии героя», при этом сказания названы «богатырскими сказками» [Жирмунский 1960]. Е.М. Мелетинский в сравнительно-типо-логическом аспекте исследовал эпические поэмы карело-финнов, народов Кавказа и тюрко-монгольских народов Сибири. Им были проанализированы образ центрального эпического героя, героическое сватовство, борьба с чудовищами и др., которые отражают общие закономерности догосудар-ственной архаики и более поздних эпических памятников [Мелетинский 2004]. С.Ю. Неклюдов рассмотрел связь монголоязычной эпической традиции, выражающуюся в сюжетно-тематическом единообразии, «сходны некоторые - мифологические или мифологизированные - образы, композиционное построение, система стереотипных описаний, ритмическая организация стиха, единообразен даже язык эпоса» [Неклюдов 1984, 80]. А.Ш. Кичиков изучил трансформацию архаического эпоса в калмыцкой эпической традиции. Ученый реконструировал трансформированные сюжетообразующие темы и мотивы архаического эпоса, который назван им «тууль-улигером» - мотив бездетности, рождение богатыря, магическая неуязвимость, богатырская женитьба и др. [Кичиков 1997].
В данном исследовании планируется продолжить реконструкцию «ту-уль-улигера» (архаического эпоса) на материалах песен Багацохуровского цикла, ранее не привлекавшихся к рассмотрению, сохранивших рудименты архаической «одноходовой» «малой» эпической формы. Последние в процессе «концентрической» циклизации, где основным является «объединение относительно небольших, как правило “одноходовых” песен, не связанных сквозным сюжетом; общими остаются лишь персонажи цикла, локализация событий в пространстве и во времени, определенная эпическая эпоха и эпическое государство с эпическим владыкой во главе» [Неклюдов], перешли в циклы, к которым относят и эпос «Джангар».
При рассмотрении ядерных мотивов архаического эпоса, отраженных в песнях Багацохуровского (1852 г.) и Малодербетовского (1862 г.) циклов «Джангара», можно примерить и другой вариант развития эпоса, в свете теории «первоначального ядра», «порождающего “большую” эпическую форму в результате своего “разбухания”» [Неклюдов]. Согласно теории «первоначального ядра», созданной Г. Германном и поддержанной Д. Гротом, применительно к гомеровскому эпосу, «... “Илиада” и “Одиссея” возникли не как соединение самостоятельных произведений, а как расширение некоего “ядра”, заключавшего в себе уже все основные моменты сюжета поэм. В основе “Илиады” лежит “пра-Илиада”, в основе “Одиссеи” - “пра-Одиссея”, и та и другая - небольшие эпосы. Позднейшие поэты расширяли и дополняли эти эпосы введением нового материала...» [Теория «малых песен»...]. Данную теорию применительно к ранним циклам «Джангара» нами также предполагается подтвердить.
Вопросом о существовании в калмыцкой эпической традиции произведений переходной формы занимался Т.П. Михайлов, реконструировавший две калмыцких былины «Бамб-улан-баатар сын Менк-цаган-хана» на русском и «Догшн Дольган хаана дуута Хар Кукл баатр» (‘Богатырь Хар Кюкл сын свирепого Дольган хана’) на калмыцком языках по образцам ойратских былин и калмыцких богатырских сказок [Михайлов 1971, 230]. Исследователь пришел к выводу, что былинный эпос утрачен калмыками, но реконструкция выявила неплохую сохранность былинных фрагментов.
По мнению С.Ю. Неклюдова,«... архаическая богатырская сказка является предшественницей наиболее ранних форм героического эпоса и столь близка к ним, что грань между жанрами подчас провести затруднительно» [Неклюдов]. В этом ключе, развивая теорию реконструкции калмыцкой «былины», предложенную Г.И. Михайловым как переходную форму от архаической «богатырской сказки» к героическому эпосу, А.Ш. Кичиков исследовал тексты песен Малодербетовского цикла и цикла Ээлян Овлы калмыцкого «Джангара» в сравнительно-типологической характеристике с архаичными сказаниями тюрко-монгольских эпических традиций. Исследование привело к тому, что «наличие в “Джангаре” трансформированных элементов архаического эпоса потребовало реконструкции его инварианта, который имеет схематическую организацию из двенадцати эпизодов» [Кичиков 1999, 8]. Ученым предложен термин “тууль-улигерный” эпос, определена его структура и выделены двенадцать конструктивных элементов:
«1. Бездетные престарелые старик и старуха. 2. Вымаливание бездетными супругами ребенка. 3. Чудесное рождение сына-богатыря. 4. Наречение именем чудеснорожденного младенца. 5. Чудесный рост и необыкновенное детство будущего героя. 6. Получение им вести о суженой. 7. Нахождение и укрощение предназначенного герою коня (взаимная идентификация). 8. Богатырская поездка юного героя за невестой. 9. Участие героя в состязаниях за невесту. 10. Женитьба, получение приданого и обратный путь. 11. Поход героя в страну мангусов (захватчиков) за угнанными в плен родителями (народом). 12. Истребление героем мангусов (захватчиков) и возвращение с освобожденными родителями (народом)» [Кичиков 1997, 12].
Реконструкция элементов по текстам Малодербетовского цикла и песне «О женитьбе Хонгора» из цикла Ээлян Овлы выявила следующее - «ту-уль-улигерные эпизоды 1, 3, 4, 5, 11, 12 удается обнаружить в итоге специального исследования...» [Кичиков 1999, 33].
Предпринятая нами реконструкция с привлечением текстов песен «О
Хара Кинесе» и «О Замбал хане» Багацохуровского цикла дополнила недостающие элементы «тууль-улигера».
Первый элемент «тууль-улигера» - Бездетные престарелые старик и старуха - в трансформированном виде сохранился в песне «О Шара Гюргю» Малодербетовского цикла, где, как считает А.Ш. Кичиков, «вместо жалобы на бездетность - таинственное и, видимо, скорбное молчание стареющего богатыря и правителя державы, вызвавшее сперва смятение, а потом и обиду приближенных» [Кичиков 1999, 25]. В Багацохуровском цикле данный элемент не реконструирован.
Второй элемент «тууль-улигера» - Вымаливание бездетными супругами ребенка - реконструирован в трансформированном виде также в Мало-дербетовском цикле. Причина восьмилетнего странствия Джангар-хана сводится к поискам суженой и продлению рода. В песне «О Шара Гюргю» молчание и печаль Джангара-хана ассоциируются с вымаливанием ребенка. А.Ш. Кичиков отмечает: «... загадочный отъезд Джангара мотивируется задним числом - когда он на чужбине обретает наследника (Шовшу-ра)» [Кичиков 1997, 35]. См. III песню Малодербетовского цикла (далее -М.Ц.): 19 (8) jirayalinimini (9) dutuni ci bileci: camai xaiyad yaralabi: (10) ara bumban oraran do lid abasun yonoxon (11) ulan sobsur mini [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 4, 19] (Ты тот, кого не хватало в моей жизни! / [Я] отправился на поиски тебя, / [Я] обменял тебя на свою страну Бумбу / Мой трехлетний Алый Шовшур. - Здесь и далее перевод автора статьи, Д.В. Убушиевой).
Третий элемент «тууль-улигера» - Чудесное рождение сына-богатыря в прямой проекции, как и его быстрый рост, сохранился в Багацохуровском цикле лишь в описании рождения сына Шара Мангаса, противника Джангар-хана. Как упоминает Е.М. Мелетинский, «мифологические реликты лучше сохраняются в образах “чужих”, врагов» [Мелетинский 2003, 334], что и отражено в примере: II песня Багацохуровского цикла (далее - Б.Ц.) - 39 (28) tere s6ni bideni tere mangyus xani xatuni (29) tere soi ktiktilji baiji: kobUn yarad ulid unuqsan dugmi sonsuba (30) bi: busu saradan torobebi: bolzoq saradan dungsi yarbabi: boqdo jangyar (31) camalai yucin tabun nasundan camala esergeceji ese dailaldadaq bolxuni 40 (1) ene nasundan erliq nomTn xani elecle xarayaji ukusubi: ectis xoito (2) torolden ertitu tamain irOldti eqce mingyan yalabtu taman irOl sakiqsatibi (3) geji ulin yarba [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17, 39-40] (Хатун того хана мангасов / В ту ночь рожала. / Родился мальчик, / Я услышал его плач /-Нев тот месяц родился я, / Недоношенным родился я. / С тобой Джангар-хан / В свои тридцать пять лет / Сражусь, / И если не одолею, / В этой жизни / С посланцем Эрлик Номин хана / Встретившись умру! / В следующем перерождении, / На дне ада / Ровно тысячу эр / Пребывать буду! - говоря, / С плачем родился).
В Малодербетовском цикле данный элемент реконструирован в песне «О Шара Гюргю», «... сыну Джангара присущи основные черты чудеснорожденного героя... стальная пуповина..., рождение от чудесной девы..., фантастически быстрый рост...» [Кичиков 1999, 25]. Пример чудесного происхождения героя связан с не менее известным героем калмыцкого эпоса, с богатырем Алтаном Чеджи. Б.Э. Мутляева пишет: «... это имя, означающее в переводе на русский язык “золотая грудь”, указывало в древности, вероятно, на внешние необыкновенные признаки героя» [Мутляева 1978,59]. Это же отмечает А.Ш. Кичиков: налицо «тууль-улигерный мотив рождения с золотой грудью и серебряным низом» [Кичиков 1997, 37]. Отталкиваясь от этих суждений, можем предположить, что если буквально перевести на русский язык имя богатыря Хонгор (‘рыжий’, ‘золотой’), то и его имя говорит о необыкновенном происхождении и восходит к мотиву «золотой хохол».
Четвертый элемент «тууль-улигера» - Наречение именем чудеснорож-деного младенца также отражен в песне «О Шара Гюргю» Малодербетов-ского цикла: III песня М.Ц. - 17 (17) eji aba xoyorni erkultilji (18) baiyad yonoxun ulan subsur nere ogbe [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 4, 17] (Мать и отец, / Лелея растили, / [И] назвали трехлетним Алым Шовшуром). Данный пример демонстрирует имянаречение в трехлетием возрасте, соответственно перед первым подвигом богатыря. Б.Б. Манджиева выявила, что «калмыцкий героический эпос сохранил обряд посвящения и наречения взрослого имени...» [Манджиева 2016, 48]. В этой же песне присутствует мотив переименования. Первое имя богатырю Алому Шовшуру в трехлетием возрасте дали его родители - Джангар-хан и небесная дева, но после его подвига, восстановления страны Бумбы, на совете богатырей Хонгор требует права переименовать сына Джангар-хана, на что получает одобрение: III песня М.Ц. -31 (11) toro sajin (12) xoyoran barin yaraqsan erke badama geged (13) boltoya geji nere oqbe [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 4, 31] (Правленье и веру держа родившийся, / Страну Тибет-Бумба объединив родившийся, / Именуйся - Властвующий Бадмин геген! - нарек).
Пятый элемент «тууль-улигера» - Чудесный рост и необыкновенное детство будущего героя можно вычленить из приведенного выше примера о рождении сына Шара Мангаса. В песне «О Шара Мангасе» он рождается недоношенным, но уже умеет говорить. В .Я. Пропп заключает на сказочном материале, что «мотив быстрого роста создался из мотива рождения героя... Он рождается взрослым, потому что он - взрослый, вернувшийся с того света. Но так как женщина не может родить взрослого, появляется мотив превращения ребенка во взрослого, которое в сказке представляется как необычайно быстрый рост» [Пропп 1976, 240]. В нашем случае это определение можно отнести к рождению сына Шара Мангаса, более того, с наложением религиозных мотивов о перерождениях, текст эпоса и речь сына мангаса не только не противоречат, а иллюстрируют то, что «он рождается во второй раз» [Пропп 1976, 238].
Шестой и седьмой элементы «тууль-улигера» переставлены нами местами, в соответствии со структурой песен Багацохуровского цикла.
Шестой элемент «тууль-улигера» - Нахождение и укрощение предназначенного герою коня (взаимная идентификация). Данный элемент нивелирован, на первый план выходит предназначенность коня: I песня Б.Ц. -4 (13) xan jangyarain amin-den xadaya (14) laqsun kulgtilduq morini (Хану
Джангару ниспосланный / Верховой конь) [РО БВФ СПбГУ, Calm. С. 17, 4]; III песня Б.Ц. - 11 (25) amindani kiilguluqsen yaqcaxan (26) kultiqni (Ниспосланный ему скакун) [НАРГО. Он. 1. Р 53. Д. 15, 11]. Претерпев значительные изменения при переходе из архаического в классический эпос, в пору кочевого скотоводческого быта, данный «тууль-улигерный» мотив не сохранился. Предназначенность коня предусмотрена априори, а его описание перешло в «... культ коня и - шире - разнообразные представления коневодческого и скотоводческого общества, в том числе представления о боевом коне всадника-воина» [Мелетинский 2004, 333].
С седьмого по десятый элементы «тууль-улигера» строятся на теме богатырского сватовства. Богатырское сватовство является ядерным образованием архаического эпоса. В.Я. Пропп, изучая русский героический эпос и говоря о былинах с этим мотивом, в частности, о былине о Садко, выделяет ее часть о сватовстве как «одну из самых древних и самых архаических в русском эпосе» [Пропп 1958, 36]. Мотив сватовства Садко к дочери морского царя назван В.Я. Проппом «древнейшим стержнем песни» [Пропп 1958, 87]. В.М. Жирмунский заключает, что «сюжет героического сватовства, богатырской поездки в поисках невесты (обычно - “суженой”, предназначенной герою) занимает одно из важнейших мест в эпической биографии героя богатырской (как и волшебной) сказки» [Жирмунский 1960, 218]. По мнению Б.Н. Путилова, «мотивы поисков героем невесты-суженой и борьбы за нее» [Путилов 1971, 126] занимают важное место в архаических памятниках. Е.М. Мелетинский приходит к выводу, что «эпос тюрко-монгольских народов подтверждает, что героическое сватовство -действительно универсальная тема в древнейших эпосах» [Мелетинский 2004, 257].
Изучение эпоса «Джангар» имеет двухвековую историю, в том числе, исследователи уделяли внимание и теме богатырского сватовства в нем. Тем не менее, эпизод богатырского сватовства, сохранившийся в Багацо-хуровском цикле, не получил должного внимания и ранее не исследовался. Цикл не сохранил до наших дней отдельных песен, посвященных богатырскому сватовству, но в прологах песен «О Хара Кинесе» и «О Замбал хане», в описании-представлении супруги Джангар-хана Герензел хатун, данная тема содержит полный набор мотивов, свойственных героическому сватовству. Подчеркиваем, что сюжет сватовства в цикле присутствует только в прологе, в котором дано описание-представление Герензел-хатун.
Тема богатырского сватовства начинается с выезда героя в поисках суженой. В.Я. Пропп объясняет выезд героя из дома тем, что «...при родовом строе жену надо было брать из другого рода, то есть отправляться за ней более или менее далеко» [Пропп 1958, 42]. В настоящем цикле Джангар-хан, отвергнув всех ханских дочерей, отправляется на поиски предназначенной суженой, предназначенность которой не мотивируется. Как замечено Б.Н. Путиловым, «само предназначение в архаическом эпосе либо не мотивируется, либо мотивируется волею свыше, записью в особой божественной книге и т.п.» [Путилов 1971, 126].
«... В архаическом эпосе герой едет к невесте долго и трудно, преодолевая на своем пути многочисленные препятствия, в том числе фантастического и мифологического характера, различные магические рубежи...» [Путилов 1971, 136]. Данное обстоятельство архаичности показано в цикле описанием странствий и трудностей, испытываемых Джангар-ханом в поисках суженой: III песня Б.Ц. - 15 (19) yurban Jilin yucin zuryan sardu er (20) ged olji yadad: aranzala zerden (21) eceged: utu zandan arman uryal (22) ji cired: uryuqsan arban tabuni (23) sara metu dUrting ulan cireni unusun (24) onggotei bolji zobad [НА РГО. On. 1. P. 53. Д. 15, 15.] (В течении трёх лет, / Тридцать шесть месяцев / Кружился, не мог отыскать. / Аранзала Зерде измучив, / Длинное сандаловое копье / Таща словно укрюк, / Словно луна пятнадцатой ночи, / Красивое лицо его / Исстрадалось и посерело, как пепел - сравнимы с испытаниями и трудными задачами на пути к суженой).
Седьмой элемент «тууль-улигера» - Получение им вести о суженой. Непосредственная весть о суженой приходит от чудесного помощника, в песне «О Замбал хане» это золотой воробей, являющийся знаком иного мира, который на птичьем языке сообщает: III песня Б.Ц. -15 (24) ondor cayan (25) ulain oroi dere yarci xarul xar (26) ji baiba: baitulani monggon jibirtei (27) altan odotei boqsoryoi dere teng (28) gerer niseji ired: sobuni keler (29) kelbe: yazadaki yalab sartu tenggesTn 16(1) tere tala nutuqluqsan: ocirtu altan (2) ulutai: oron-du tigei yurban jinda (3) manitai: gtisi zambai xani ktikigi: (4) tenggerm kobUn burxan cayan gedeq (5) kUn kticar abn geji bainei: abaxu (6) zobtei gergencini tere gebe [НА РГО. On. 1. P. 53. Д. 15, 15-16] (Взобравшись на вершину Белой горы, / Стал осматривать. / Когда осматривал, с серебряными крыльями / С золотым опереньем воробей / Прилетел сверху, с небес, / Раскрыв клюв, / Сказал на птичьем языке: / Внешнего моря Шар-ту / На той стороне расположившегося, / Владеющего драгоценной горой Алтан, / И чиндамани, которого больше нет во всем мире / Дочь Гюши Замба хана / Сын тенгрия, зовущийся Бурхан Цаган, / Хочет насильно взять в жены. / Тебе предназначенная супруга она, - сказал).
По наблюдениям В.Я. Проппа, «...все, что окрашено в золотой цвет, этим самым выдает свою принадлежность к иному царству» [Пропп 2004, 245]. Также отмечено, что «функция птицы всегда только одна - она переносит героя в иное царство» [Пропп 2004, 140]. Данный сказочный мотив трансформирован в рамках героической эпики, поэтому не демонстрирует переправы героя в иной мир.
Восьмой элемент «тууль-улигера» -Богатырская поездка юного героя за невестой. Мотив поиска жены - «один из древнейших элементов героического эпоса» [Пропп 1958, 43]. Безуспешные поиски суженой в своем локусе перемещают Джангар-хан в другой мир. Переходными маркерами выступают рубежная гора: I песня Б.Ц. - 5 (21) erkultigTn monggon cayan ulan dereni yarci gene [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17, 5] (Эркулюкской серебряной Белой горы / На вершину взобрался); III песня Б.Ц. -15 (24) ondor cayan (25) ulain oroi dere yarci [НА РГО. On. 1. P. 53. Д. 15, 15] (Ha вершину высокой Белой горой взобрался); и Внешнее море: I песня Б.Ц. -
5 (23) cada biyiden xalexani nain tabun sarai (24) orgon kittin xara tengges orou sorou xoyor urusxaltei: urusxulduni (25) tiktiriyin dungge xara cilun biye biyen gtibdelden: ulan yal badarad: ulan (26) dungge cayan doligen undu sundu cokad: nada biyen ergeni dolon mingyan (27) alda yalm ulan enge: utuyan ire iremeqtei: tere tenggesTn ter (28) talani [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17, 5] (По ту сторону посмотрел / В восемьдесят месяцев / Широкое холодное черное море / С противоположным течением. / В этом течении, черные камни величиной с корову, / Бились друг об друга / Иссекая красный огонь. / Белые волны величиной с гору, / Бились туда-сюда. / Берег этой стороны / Семь тысяч саженей. / Огненно-красный берег / С краями как лезвие / Расположившийся на той стороне того моря); III песня Б.Ц. -15 (29) yazadaki yalab sartu tenggesTn 16 (1) tere tala nutuqluqsan [НА РГО. On. 1. P. 53. Д. 15, 15-16] (Внешнего моря Шарту / На той стороне расположившегося).
Следует отметить, что суженой Джангар-хана является дочь хозяина (царя) Водного мира: I песня Б.Ц. - 5 (29) naiman mingyan Itibsarayan ezen gtisi zamba xani kttken [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17, 5] (Хозяина восьми тысяч лубсурга / Гюши Замба хана дочь).
Поиски суженой в другом мире, передвижение Джангар-хана по мирам демонстрируют весьма древний пласт мотивов, отражающий еще дошаманские верования. «Согласно первобытному миропониманию различные “миры”, в частности Верхний и Нижний, качественно однородны, и люди при жизни могут переходить из одного в другой» [Мелетинский 2004,315].
Девятый элемент «тууль-улигера» - Участие героя в состязаниях за невесту. Мотив участия в состязаниях за невесту в цикле отсутствует, сюжет демонстрирует более древний мотив, который можно назвать ядерным мотивом архаического эпоса - богоборческий мотив, отражающий сражение Джангар-хана с небесным представителем, с сыном Тенгрия, и победу над ним: I песня Б.Ц. - 5 (30) tenggerm kobtin burxan cayan gedeq 6 (1) batur: abn geji baqseni alji orkod: naiman mingyan baturmi kolden mtirgtiled [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17, 5-6] (Сына Тенгрия / Богатыря, именуемого Бурхан Цаган, / Который чуть было не взял в жены / Убил, восемь тысяч его богатырей, /К ногам преклонив); III песня Б.Ц. - 16 (13) tenggeriin (14) kobtin burxan cayanigi dolon mingyan (15) batartaigini alji orkod [НА РГО. On. 1. P. 53. Д. 15, 16] (Сына Тенгрия Бурхан Цагана / Вместе с его семью тысячами богатырями убив). Как замечено Е.М. Мелетинским, «собственно богоборчество как таковое характерно для эпической архаики...» [Мелетинский 2003, 347].
Десятый элемент «тууль-улигера» - Женитьба, получение приданого и обратный путь. Свадебный пир в описании отсутствует, сам акт бракосочетания сформулирован сверхлаконично: I песня Б.Ц. - 6 (2) mingyan eketti (3) xtibilyayar xtibiled abci [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17, 6] (Тысячу раз перевоплощаясь, взял ее в жены); III песня Б.Ц. -16(15) gtisi (16) zambain ktiken arban dolon nastani abaxi (17) gerenzele xatan abci [НА РГО. On. 1. P. 53. Д. 15, 16] (Дочь Гюши Замба, / Которую семнадцатилетней должен взять, / Ава Герензел хатун взял).
Составные части десятого элемента (получение приданого и обратный путь) в текстах не выявлены.
Как указывает Б.Н. Путилов, в богатырском сватовстве «мы находим сложнейший сплав архаики (художественной и обрядовой)» [Путилов 1999, 21]. Этому заключению вполне соответствуют эпизоды богатырского сватовства в песнях Багацохуровского цикла «Джангара», которые отражают ядерные «тууль-улигерные» мотивы, восходящие к мифологии - такие как передвижение Джангар-хана по мирам в поисках суженой, брачные связи с представительницей Водного мира, богоборческий мотив, реализованный в сражении и победе Джангар-хана над представителем Верхнего мира, а не неминуемая гибель героя, в отличие от более поздних эпических сюжетов.
Возвращаясь к структурным элементам, отметим: если все, что представлено выше, считать первым ходом «тууль-улигера», первым подвигом героя, то далее можно говорить о втором ходе архаического эпоса. Если богатырское сватовство в прологе Багацохуровского цикла - сюжет первого хода повествования, то второй ход сюжета раскрывается в самом сюжете песен и связан с основным подвигом героя, чему соответствуют одиннадцатый и двенадцатый элементы «тууль-улигера» соответственно: Поход героя в страну мангу сов (захватчиков) за угнанными в плен родителями (народом) и Истребление героем мангусов (захватчиков) и возвращение с освобожденными родителями (народом).
В песне «О Хара Кинесе» вторым ходом сюжета является возвращение плененного богатыря Хонгора, о чем писал А.Ш. Кичиков: «.. .песня о победе над Хара-Кинесом представляет из себя трансформированный сюжет второго хода тууль-улигерного сказания, согласно которому враги-насильники (чудовища) уводят народ (родных) богатыря в иной мир (Нижний) мир, герой уничтожает насильников и возвращается на родину с освобожденным народом. В таком случае Хонгор, побежденный и плененный противником, заменяет собой родных и подданных тууль-улигерного богатыря, в роли которого, в свою очередь, выступают Джангар и его богатыри» [Кичиков 1997, 228].
Отталкиваясь от этой же схемы, можно заключить, что в песне «О Зам-бал хане» второй ход сюжета посвящен похищению и возвращению девятитысячного табуна Джангар-хана, который заменяет угнанных в плен родителей или народ.
Таким образом, дополненная реконструкция «тууль-улигерного» сказания демонстрирует следующее: Малодербетовский цикл содержит 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 элементы, Багацохуровский цикл - 3, 5, 7 (по Кичикову 6), 8, 9, 10, 11, 12. Выявлены все двенадцать элементов архаического эпоса. Более того, обозначены ядерные мотивы архаического эпоса, основой которого является богатырское сватовство: поиски суженой, передвижение Джангар-хана по мирам в поисках суженой, брачные связи с представительницей Водного мира, богоборческий мотив сражения и победы Джан- гар-хана над представителем Верхнего мира. Как видим, теория инвариантных ядерных мотивов «тууль-улигера» применительно к эпосу «Джангар», разработанная А.Ш. Кичиковым, подтверждается и на материалах песен Багацохуровского цикла, в котором обнаружены ранее недостающие конструктивные элементы архаического эпоса.
Предположительно, прологи ранних циклов эпоса «Джангар» в которых сохранились архаические ядерные мотивы, восходящие к мифологическим корням эпоса, могли быть самостоятельными сюжетами «тууль-улигеров» (архаического эпоса), из которых путем нарастания, согласно теории «первоначального ядра», развились ныне существующие песни Багацохуровского и Малодербетовского циклов «Джангара». Как отмечено С.Ю. Неклюдовым, «...если даже возраст отдельных эпических произведений не столь велик, давность самих эпических традиций, в русле которых они возникли и трансформировались, должна быть неизмеримо большей» [Неклюдов 1984, 79].
Список литературы Мотивы "тууль-улигера" (архаического эпоса) в героическом эпосе "Джангар"
- Жирмунский В.М. Сказание об Алпамыше и богатырская сказка. М., 1960.
- Кичиков А.Ш. Героический эпос «Джангар». Сравнительно-типологическое исследование памятника. М., 1997.
- Кичиков А.Ш. Предисловие//Джангар. Малодербетовская версия/сводный текст, перевод, вступительная статья, комментарии, словарь А.Ш. Кичикова. Элиста, 1999. С. 5-38.
- Манджиева Б.Б. К проблеме изучения мотивов калмыцкой богатырской сказки и героического эпоса «Джангар»//Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Серия: Эпосоведение. 2016. № 1. С. 44-50.
- Мелетинский Е.М. О былинных мотивах//Фольклор и народная культура: In memoriam. СПб., 2003. С. 334-351.
- Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса: ранние формы и архаические памятники. М., 2004.
- Михайлов Г.И. Проблемы фольклора монгольских народов. Элиста, 1971.
- Мутляева Б.Э. Мотив чудесного рождения героя в тюрко-монгольском героическом и сказочном эпосе//Типологические и художественные особенности «Джангара». Элиста, 1978. С. 51-62.
- Неклюдов С.Ю. Героический эпос монгольских народов. М., 1984.
- Неклюдов С.Ю. Типология и история в памятниках героического эпоса//Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика. URL: http://www. ruthenia.ru/folklore/neckludov18.htm (дата обращения 07.01.2019).
- Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2004.
- Пропп В.Я. Мотив чудесного рождения//Фольклор и действительность. Избранные статьи. М., 1976. С. 205-240.
- Пропп В.Я. Русский героический эпос. 2-е изд., испр. М., 1958.
- Миронов А.С. Влияние стилизаций В. П. Авенариуса на рецепцию героического эпоса в русском образованном обществе рубежа XIX-XX веков. Статья первая. «Книга о киевских богатырях»//Вестник МГУКИ. 2017. №4 (78).
- Миронов А.С. Концепт силы в системе ценностей русской Былины//Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2017. №2 (23).
- Путилов Б. Н. Русский и южнославянский героический эпос. Сравнительно-типологическое исследование. М., 1971.
- Теория «малых песен». URL: https://studwood.ru/980423/filosofiya/teoriya_ malyh_pesen (дата обращения 07.01.2019).