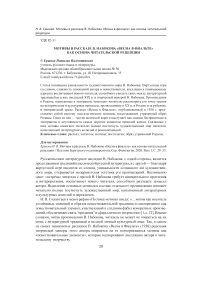Мотивы в рассказе В. Набокова «Весна в Фиальте» как основа читательской рецепции
Автор: Ершова Наталья Валентиновна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена уникальности художественного мира В. Набокова. Виртуозная игра со словом, сложность отношений автора и повествователя, апелляция к понимающему адресату воспитывают нового читателя, способного увидеть связь между литературной традицией русских писателей XIX в. и творческой манерой В. Набокова. Произведения о Родине, написанные в эмиграции, помогают читателю рассмотреть его точку зрения на исторические и культурные процессы, происходящие в XX в. в России и за рубежом, в эмигрантской среде. Рассказ «Весна в Фиальте», опубликованный в 1936 г. представляет собой систему ностальгических мотивов, воссоздающих утраченный образ Родины. Один из них - мотив железной дороги выступает как символ бесприютности эмигрантов и неуловимости самых дорогих моментов прошлой жизни. Связанные с ним мотивы помогают читателю полнее постигнуть художественный мир писателя, наполненный литературных аллюзий и реминисценций.
Рассказ, читатель, мотивы, ностальгия, образ утраченной родины
Короткий адрес: https://sciup.org/148316605
IDR: 148316605 | УДК: 82-31
Текст научной статьи Мотивы в рассказе В. Набокова «Весна в Фиальте» как основа читательской рецепции
Ершова Н. В. Мотивы в рассказе В. Набокова «Весна в фиальте» как основа читательской рецепции // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 1. С. 29–33.
Русскоязычное литературное наследие В. Набокова, с одной стороны, является продолжением традиций классической руccкой литературы, а с другой — благодаря виртуозной игре писателя со словом, уникальности созданного им художественного мира, открывается модернистская эстетика его произведений. Несомненно одно: «встреча» читателя с прозой В. Набокова требует внимательного прочтения и интерпретации, воспитывает нового читателя, способного разгадать замысел автора. Выделение основных мотивов в составе отдельного произведения поможет читателю полнее постигнуть художественный мир, наполненный литературных и культурных аллюзий и перекличек.
И. В. Силантьев в монографии «Поэтика мотива» писал: «... мотив как носитель устойчивых значений и образов повествовательной традиции и одновременно как повествовательный элемент, участвующий в создании фабул конкретных произведений, обеспечивает связь “предания” и сферы личного творчества» [1, с. 12]. Иными словами, читая произведения В. Набокова, читатель не может не опереться на их связь с литературной традицией и на свой личный культурный опыт. Так, в одном из самых знаменитых рассказов В. Набокова «Весна в Фиальте» (1936) рецепция творческой манеры этого автора опирается на те повторяющиеся мотивы как «повествовательные элементы», которые подчеркивают апелляцию автора к читательскому творчеству.
Духовно-нравственный и эстетический смысл рассказа писателя-эмигранта раскрывается прежде всего в системе ностальгических мотивов, воссоздающих утраченный образ Родины. Если вспомнить одно из первых стихотворений, написанных в эмиграции «В поезде» (1921), в нем уже появляется один из таких мотивов — мотив железной дороги как символа бесприютности, тоски по прошлому — весне, дачной беспечной жизни. Мотив этот сопрягается с важной темой всего последующего творчества, поскольку уже здесь писатель заявил о своем излюбленном герое — творческой, поэтической личности: в стихотворении «стихословили колеса», поезд замедляет ход в соответствии со звуками и ритмом ямба:
Я выехал давно и вечер не родной Рдел над равниною не русской, И стихословили колеса подо мной, И я уснул на лавке узкой.
Мне снились дачные вокзалы, смех, весна,
И, окруженный тряской бездной,
Очнулся я, привстал, и ночь была душна, И замедлялся ямб железный… [2, с. 31].
Так и в рассказе «Весна в Фимльте» упоминание о железной дороге настойчиво повторяется, ее описание станет для читателя важным в начальном эпизоде приезда героя ночным экспрессом в Фиальту, где происходит очередная встреча с Ниной. В следующем эпизоде возникает — не без горечи — воспоминание героя о «синей тени вагона», его прощании с Ниной, последнем миге, когда она «влезла в тамбур, исчезла, а затем сквозь стекло я видел, как она располагалась в купе, вдруг забыв о нас, перейдя в другой мир» [3, с. 391].
Еще один эпизод представляет собой описание воображаемой героем встречи с Ниной опять на вокзале, «у прилавка в путевой конторе, ноги свиты, одна бьет носком линолеум, локти и сумка на прилавке, за которым служащий, взяв из-за уха карандаш, раздумывает вместе с ней над планом спального вагона» [3, с. 395]. Затем следует еще одно воспоминание, снова связанное с вокзалом: это сон, в котором герой видит смерть Нины: «...в проходе, на сундуке, подложив свернутую рогожку под голову, бледная и замотанная в платок, мертвым сном спит Нина, как спят переселенцы на Богом забытых вокзалах» [3, с. 402]. Саму весть о ее гибели герой получает снова на вокзале Милана – месте «одиночества в толпе».
Читателю становится понятно, какую роль отводит автор повторяющемуся мотиву железной дороги в рассказе: описание движущегося экспресса, железнодорожных вокзалов и вагонов неотрывно от описания взаимоотношений главных героев, которые продолжаются 15 лет. В повествовании от лица героя поэтому логично появляется метафора, где эти годы воспринимаются как движение поезда: «...до самого разъезда так мы с друг дружкой ни о чем не потолковали, не сговаривались насчет тех будущих, вдаль уже тронувшихся, пятнадцати дорожных лет» [3, с. 392]. Как и в стихотворении «В поезде», герой, а вслед за ним и героиня, несмотря на то, что смогли устроить свою жизнь в эмиграции (у каждого из них есть семья), чувствуют свою бесприютную жизнь в дороге с неизменным ощущением отсутствия домашнего уюта в вагоне или на вокзале, где не могут найти душевного успокоения.
И читателю на ум могут прийти произведения русских авторов XIX–XX вв., где так же мотив железной дороги связывается с трагической судьбой героини («Анна Каренина» Л. Толстого, «На железной дороге» А. Блока, «Матренин двор» А. Солженицына и др.). И в связи с рассказом Набокова читатель свяжет его с мотивом упущенного счастья, несостоявшейся любви.
В этом он убеждается в эпизоде-воспоминании героя-рассказчика о первом поцелуе и первой встрече с героиней, произошедшей еще в России: «Я познакомился с Ниной очень уже давно, в тысяча девятьсот семнадцатом... Было это в какой-то именинный вечер в гостях у моей тетки, в ее Лужском имении, чистой деревенской зимой… Не помню, почему мы все повысыпали из звонкой с колоннами залы в эту неподвижную темноту, населенную лишь елками, распухшими вдвое от снежного дородства: сторожа ли позвали поглядеть на многообещающее зарево далекого пожара, любовались ли мы на ледяного коня, изваянного около пруда швейцарцем моих двоюродных братьев…» [3, с. 392]. Здесь активность читательского восприятия возрастает: дата знакомства героев и воспоминания о «многообещающем зареве далекого пожара», конечно же, содержат атмосферу революционных лет, вызывают вспомнить сгоревшие усадьбы – маленькие «островки» уходящей усадебной культуры и вслед за пожаром революции, охватившей Россию, наступившее время эмиграции, за которым последует разлука героев.
Станут понятны размышления героя после мимолетных встреч с Ниной, его удивление от того, что все годы жизнь сталкивала его с женщиной, с которой и были связаны ностальгические воспоминания: «Сам не понимаю, что значила для меня эта женщина, с пушкинскими ножками (как сказал о ней русский поэт… вздыхавший о ней платонически), а еще меньше понимаю, чего от нас хотела судьба, постоянно сводя нас…» [3, с. 401]
Важен эпизод последней встречи героев перед гибелью Нины, в котором исповедальные воспоминания отсылают читателя к пушкинским реминсценциям: «С невыносимой силой я пережил (или так мне кажется теперь) все, что когда-либо было между нами, начиная вот с такого же поцелуя, как этот; и я сказал наше дешевое, официальное ты, заменяя тем одухотворенным, выразительным вы, к которому кругосветный пловец возвращается обогащенный кругом: “А что, если я вас люблю?” …но что-то, как летучая мышь, мелькнуло по ее лицу быстрое, странное, почти некрасивое выражение, и она… смутилась; мне тоже стало неловко… “Я пошутил, пошутил”, – поспешил воскликнуть я…» [3, с. 407]. Ведь кроме упоминаний о «пушкинских ножках» и стихотворения Пушкина «Ты и Вы», читатель получит и общее впечатление о несостоявшемся счастье героев Набокова, как и у героев «Евгения Онегина».
И на вопрос, зачем Набокову понадобились ассоциации с творчеством русского поэта, можно найти ответ у авторов литературоведческой статьи о данном рассказе, вспомнивших стихотворение «Зимняя дорога»: «Пушкинский подтекст также помогает автору реализовать метафору Нина – Россия, поскольку для Набокова Пушкин был не просто великим творцом гениальных произведений, а чем-то соизмеримым со всей Россией» [4, с. 61]. Для русских писателей действительно важен пушкинский мотив упущенного счастья («…а счастье было так возможно, так близко…»), в памяти читателя возникнут также и «Дама с собачкой», «О любви» А. П Чехова, и произведения И. Бунина из цикла «Темные аллеи».
Во время описания последней встречи с Ниной герой вспоминает такие детали, как букетик фиалок в руках героини и кем-то потерянный, лежащий на земле ключ. Да, Фиальта – город фиалок, не существующий на самом деле. Оказывается, после мимолетных встреч в Париже, Милане, Берлине – реальных столицах различных государств, герой попытался признаться Нине в любви в несуществующем городе и доме, ключ от которого потерян. В реальном мире у их любви не было будущего.
Таким образом, мотивы рассказа Набокова, о которых шла речь, позволяют многое понять в динамике повествования, кажущейся сумбурной и алогичной. Повествование передает движение сознания героя, где нет временной последовательности, но только мотивы и отдельные детали, на первый взгляд, хаотичные, связывают субъективный взгляд и внутренние монологи в единое целое. Читатель находится под влиянием обостренной памяти и такого же острого чувства героя-рассказчика к женщине, отношения с которой так захватили его на протяжении полутора десятка лет. Он может иногда не понимать о силе своего чувства, однако, например, фиалки в руках Нины вспоминаются как «бескорыстно пахучие», потому что читатель понимает, что в душе героя, часто обескураженного ее поведением и своей реакцией на случайность встреч с ней, сама женщина так же бескорыстна, как эти скромные цветы. А более всего в читательской рецепции рассказа «Весна в Фиальте» займет мысль о несомненной близости двух чувств, постоянно живущих в душе героя, – любви к своей соотечественнице и связанного с ней острого ощущения разлуки с родиной, о чем свидетельствуют основные ностальгические мотивы.
Список литературы Мотивы в рассказе В. Набокова «Весна в Фиальте» как основа читательской рецепции
- Силантьев И. Поэтика мотива. М.: Языки славянской культуры, 2004. 294 с.
- Силантьев И. В. Очерк современной нарратологии // Критика и семиотика. 2002. Вып. 5. С. 5-31.
- Набоков В. В. В поезде // Круг. Л.: Художественная литература, 1990.
- Набоков В. В. Весна в Фиальте // Круг. Л.: Художественная литература, 1990.
- Асоян А. А., Подкорытова Т. И. След пушкинской музы в рассказе В. Набокова "Весна в Фиальте" // Изв. СО РАН. История, филология и философия. 1992. Вып.2.