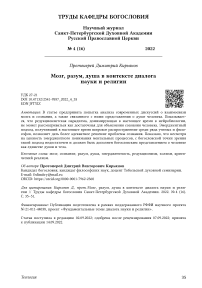Мозг, разум, душа в контексте диалога науки и религии
Автор: Кирьянов Дмитрий Викторович
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 4 (16), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка анализа современных дискуссий о взаимосвязи мозга и сознания, а также связанного с ними представления о душе человека. Показывается, что редукционистская парадигма, доминирующая в настоящее время в нейробиологии, не может рассматриваться как достаточная для объяснения сознания человека. Эмерджентный подход, получивший в настоящее время широкое распространение среди ряда ученых и философов, позволяет дать более адекватное решение проблемы сознания. Показано, что несмотря на ценность эмерджентного понимания ментальных процессов, с богословской точки зрения такой подход недостаточен и должен быть дополнен богословским представлением о человеке как единстве души и тела.
Мозг, сознание, разум, душа, эмерджентность, редукционизм, холизм, критический реализм
Короткий адрес: https://sciup.org/140297576
IDR: 140297576 | УДК: 27-21 | DOI: 10.47132/2541-9587_2022_4_35
Текст научной статьи Мозг, разум, душа в контексте диалога науки и религии
Диалог науки и богословия в современном мире охватывает широкий спектр проблем и вопросов, которые касаются эволюции Вселенной, жизни и человека, происхождения религии, морали и всех аспектов человеческой культуры. Вызовы, которые ставит современная наука перед традиционным христианским пониманием этих проблем, требуют серьезного критического анализа. Успех, который продемонстрировали естественные науки в объяснении природы, не может не впечатлять, а основанные на полученном знании технологии, которые мы используем сегодня, наглядно демонстрируют эффективность и практическую значимость того знания, которое приобрело человечество.
В рамках многолетнего диалога между наукой и богословием доминирующее значение приобрел методологический подход, который получил название критического реализма. В рамках этого подхода научные теории рассматриваются как предварительные, однако имеющие отношение к описываемой ими реальности. Так, например, физик Дж. Полкинхорн проводил аналогию между научными теориями и картами в атласе, имеющими различный масштаб и детализацию. Каждая из карт представляет собой некоторую модель реальности, но не саму реальность, которая всегда богаче по своим возможностям1. Полкинхорн подчеркивает, что «эпистемология и онтология являются отличными друг от друга, но стратегия реализма состоит в том, чтобы использовать первую как источник для разумных мотиваций в пользу идей относительно последней»2. Критически реалистский подход, по мнению философа Р. Бхаскара, должен учитывать стратифицированный характер реальности, поскольку без «концепции стратификации наука должна представляться как вид исторической случайности, которой недостает внутренней ра-циональности»3. Опираясь на критический реализм Р. Бхаскара, англиканский богослов А. Макграт подчеркивает именно эту характеристику критического реализма как важную для диалога науки и богословия, поскольку она дает возможность отстаивать независимость богословского метода от методологии других наук. Соглашаясь с Полкинхорном в том, что «эпистемология имеет неразрывную связь с онтологией»4, Макграт все же предупреждает о том, что подход «снизу — вверх», избранный многими исследователями в области науки и богословия, является недостаточным, поскольку реальность определяет метод познания, а не наоборот. При использовании понятий «природа», «естественное», «натурализм» мы уже априори подразумеваем определенную онтологию: «Мы не просто “видим” природу, мы видим ее определенным образом»5. Если мы рассматриваем природу как автономную, не зависящую ни от какой внешней реальности сущность, мы даже не будем пытаться искать понимания природы на уровнях, отличных от того, который доступен наблюдению и эксперименту. Макграт подчеркивает, что натурализм «накладывает эмбарго на трансцендентное, не предлагая какого-либо научного оправдания делать так»6. Линия аргументации Макграта становится особенно важной, поскольку она подчеркивает необходимо учитывать многослойный или стратифицированный характер реальности не только в понимании природы Вселенной, но и человека.
Редукционистская парадигма объяснения сознания
Когда в современном диалоге между наукой и богословием обсуждается проблема объяснения сознания, то прежде всего подчеркивается вопрос о месте и роли редукционизма в этом объяснении. Еще в 1974 г. биолог Ф. Айяла7 подчеркнул различие трех типов редукционизма, которых придерживаются ученые в своей практике. Обязательным для научной деятельности является методологический редукционизм, который представляет собой стратегию изучения целого посредством деления на составные части. Однако методологический редукционизм отнюдь не подразумевает того, что невозможно говорить о каких-либо сущностях, выходящих за рамки научного описания. Более жесткой позицией является эпистемологическая редукция, которая предполагает, что законы и теории высших уровней сложности могут быть выведены из низших. Онтологический редукционизм представляет собой наиболее крайнюю позицию, утверждающую реальность только самых фундаментальных объектов, таких как элементарные частицы, и предполагает, что объекты высших уровней организации и сложности представляют собой ничто иное как просто атомы и частицы. Особенно такой подход характерен для современной нейробиологии, в которой доминирующими философскими позициями являются эмпиризм, физикализм, редукционизм и детерминизм. Неудивительно, что подавляющее большинство ученых, работающих в этой области, убеждены в том, что в конечном итоге не только все процессы сознания, но и субъективный мир человека рано или поздно будут объяснены посредством физико-химических процессов мозга. Так, например, первооткрыватель ДНК Ф. Крик утверждает: «Вы, ваши радости и ваши печали, ваша память и ваши амбиции, ваше чувство личной идентичности и свободы воли являются, фактически, не более чем поведением огромного ансамбля нервных клеток и связанных с ними моле-кул»8. Проблема, связанная с этим высказыванием, состоит в том, что нет никаких оснований в предельном редукционизме произвольно останавливаться на нервных клетках и связанных с ними молекулах, следует идти вплоть до субатомного уровня кварков, электронов, а, возможно, и суперструн. Но может ли Ф. Крик быть уверенным, что наши радости и печали можно объяснить некоторой научной теорией на уровне микрочастиц или суперструн? Это можно назвать парадоксом неполной редукции. Останавливаясь на нервных клетках или даже молекулах, Ф. Крик по умолчанию признает, что эти уровни организации не редуцируются полностью к кваркам и суперструнам, осуществляя реальное причинное воздействие. Более того, как отмечает космолог Дж. Эллис, «нет никаких оснований отрицать реальности причинных сил ваших радостей и ваших печалей (эмоциональной системы) или вашей памяти…»9 Именно поэтому эволюционный биолог Т. Добжански называет подобный подход «неразумным редукционизмом»: «Большинство биологов … являются редукционистами в той степени, что мы рассматриваем жизнь как весьма сложный, весьма специальный и весьма невероятный образец физических и химических процессов. Для меня это “разумный” редукционизм. Но должны ли мы идти дальше и настаивать, что биология должна быть таким образом сведена к химии, что биологические законы и регулярности могли быть выведены из того, что чему мы научились у химии процессов жизни? Это, я думаю, “неразумный” редукционизм»10. Однако редукционизм, несмотря на свою эффективность как методологии, является недостаточным даже в области биологии. Так, биолог М. Хьюлетт подчеркивает: «Современная биология с ее весьма редукционистским подходом не может ответить на вопрос (о жизни), поскольку свойства молекул, которые составляют живую систему, не предсказывают жизни как таковой. Я думаю, что ответ лежит в виде “мета-биологии”, задающей большие вопросы, которые сама биология не способна рассматривать»11.
Сегодня нейробиология стала знаменем редукционизма. Открытия современных нейробиологов, которые соотносят определенные области или системы мозга с конкретными когнитивными функциями, казалось бы, свидетельствуют в пользу такого подхода. Однако не все ученые и философы согласны со столь крайней позицией. Реакцией на крайний редукционизм стала разработка в рамках диалога науки и богословия направления исследований, подчеркивающего, с одной стороны, фундаментальность физико- химических процессов как основы для возникновения сложных когнитивных функций, а с другой — развитие аргументации в пользу тезиса о несводимости сознания к физико-химическим процессам. Среди таких подходов можно выделить нередуктивный физикализм Н. Мерфи, эмерджентный монизм Ф. Клейтона и Дж. Эллиса и двухаспектный монизм Дж. Полкинхорна. Следует отметить, что указанные авторы настаивают на отрицании субстанциального дуализма души и тела. Главной причиной отказа от субстанциального дуализма является невозможность его совмещения с современными научными представлениями. Справедливость такого упрека будет рассмотрена ниже.
Нередуктивный физикализм и эмерджентный монизм
В своих публикациях богослов и философ науки Н. Мерфи отстаивает подход, который она назвала нередуктивным физикалистским взглядом на природу человека. Суть этого взгляда состоит в том, что человек представляет собой психосоматическое единство, он является одновременно и биологическим организмом и ответственным «Я». Сама по себе подобная позиция не вызывает никаких вопросов, пока Мерфи явно не декларирует, что отличает свою позицию от редуктивного материализма и дуализма души и тела. Основной вопрос, который ставит Мерфи, следующий: «Если ментальные события являются внутренне связанными с нейронными событиями, как может быть так, что содержание ментальных событий не руководствуется законами нейробиологии? Если нейробиологический детерминизм истинен, то из него должно следовать, что нет никакой свободы воли, что моральная ответственность в опасности, и, в самом деле, наш разговор о роли разума в какой-либо интеллектуальной дисциплине лишен смысла»12. Вопрос поставлен правильно, но что означает термин Мерфи «нередуктивный физикализм»? Не является ли это противоречием в терминах? Мерфи поясняет, что под термином фи-зикализм она подразумевает, что ментальные состояния являются следствием деятельности сети нейронов, однако само по себе это следование не означает того, что ментальные состояния могут быть полностью объяснены в терминах нейронных процессов, поэтому такой тип физикализма должен быть назван нередуктивным. Мерфи стремится подчеркнуть, что несмотря на то, что состояния сознания обусловлены низшим уровнем организации — состоянием нейронов мозга, тем не менее, содержание ментальных состояний может оказывать нисходящее причинное влияние на мозг и его состояния. Для объяснения этого Мерфи использует идею нисходящей причинности Д. Кэмпбелла в отношении эволюционного процесса13. Дж. Эллис подчеркивает, что сегодня нисходящая причинность может быть продемонстрирована посредством компьютерных симуляций сложных систем14, так что эмерджентность не может считаться просто философской концепцией. Понятие нисходящей причинности является обязательным, если вы желаете объяснить факт, что вы способны прочитать книгу на русском или другом языке. Этот факт обусловлен тем, что ваши нейронные связи были адаптированы к пониманию этого языка, поскольку вы взаимодействовали с окружающим вас обществом. Таким образом, активность мозга подразумевает сложное взаимодействие нисходящих и восходящих причин.
Н. Мерфи полагает, что термин «нередуктивный физикализм» является синонимом термина «эмерджентный монизм», но, по ее мнению, лучше выражает смысл подхода вследствие неясности термина эмерджентность.
Однако Ф. Клейтон и Дж. Эллис подчеркивают необходимость использования этого понятия для выражения степени организации различных уровней сложности в природе. Термин эмерджентность, с одной стороны, подчеркивает, что высшие уровни организации возникают из низших, а с другой — акцентирует внимание на том, что на определенной стадии «изучаемые агенты становятся столь сильно индивидуализированными, что уже спорно суждение, являются ли их действия объяснимыми в терминах лежащих в основании законов»15. Таким образом, с одной стороны, в организации мира природы есть непрерывность развития, с другой — на определенных стадиях эта линия развития приводит к появлению такой степени организации, которая обладает холистическими свой ствами и не сводится к низшим уровням.
Основное достоинство подобных подходов заключается в том, что, с одной стороны, подчеркивается положительная значимость исследований в области нейробиологии для понимания функций мозга и человеческого поведения, включенность такого понимания в общие рамки эволюции жизни на земле, а с другой — особое внимание сосредоточено на принципиальной нередуци-руемости сознания и его функций к низшим уровням организации. В то же самое время физикалистские подходы ставят вопрос том, насколько далеко физикализм может заходить, не отрицая факторы, необходимые для религиозной веры? Клейтон признает, что «физикалисты отрицают существование Бога исключительно на основании того, что онтологический физикализм предполагает существование только физических объектов»16. Клейтон выделяет несколько возможных подходов, характеризующих возможное взаимоотношение наук о мозге и богословия. Так, физикалисты убеждены в том, что человеческая личность будет в конечном итоге полностью объяснена в нейробиологических терминах, что делает богословие совершенно излишним. Такое суждение получило название тезиса достаточности. Полностью противоположным ему является тезис о недостаточности, которого придерживается Клейтон, поскольку «быть личностью означает то, что в принципе находится вне пределов нейробиологии»17. При этом Клейтон признает, что спор между этими двумя тезисами является чисто философским, а не научным, однако придерживается тезиса о недостаточности, полагая, что он вполне совместим с убеждением в объяснительной способности нейробиологии. С этим взглядом согласен и Дж. Полкинхорн, который подчеркивает, что «редукция мышления исключительно к физическим состояниям нейронных сетей не является выводом из нейробиологии, но метафизическим положением, налагаемым на научную дисциплину»18. Проблематичность такой полной редукции была продемонстрирована Дж. Холдейном в его известном суждении: «Если я верю, что мои верования являются просто продуктом нейронов, то я не имею причин доверять тому, что мои верования истинны — следовательно, я не имею причин верить, что мои верования являются просто продуктом нейронов»19.
Клейтон, Мерфи и Эллис признают, что с точки зрения нейробиологии сознание связано с активностью нейронов, однако это эмерджентное свойство нейронов, высокоуровневый процесс, который допускается свойствами нейронов, но не сводим к ним вследствие глубокой взаимосвязи взаимодействий с физическим, социальным и интеллектуальным окружением. Нейробиологи пытаются найти и описать нейронные корреляты сознания, а успешной считают ту теорию, которая позволяет устранить очевидную противоположность между нейронаучными представлениями и описаниями сознательного опыта от первого лица. Однако здесь мы сталкиваемся с «трудной проблемой сознания». Философ Д. Чалмерс отмечает, что ученые, как правило, решают «легкие проблемы сознания», связанные с реакциями на стимулы, вниманием, памятью, контролем поведения и т. д. Однако действительно трудная проблема сознания — это проблема опыта. Будучи сторонником сильной эмерджентности, Чалмерс приводит наглядный пример того, почему трудная проблема сознания не может быть решена в свете нейробиологии: «Ученый, который лишен цветового зрения, может получить полное физическое знание о мозге и его функциях, и тем не менее, он не может вывести отсюда то, что означает иметь сознательный опыт красного цвета»20. Клейтон также считает, что субъективный опыт не может быть объясним нейробиологией, поскольку «можно полностью знать структуры и функции некоторого опыта, и все же не знать, что означает иметь такой опыт»21. Он приводит пример, который демонстрирует неадекватность теорий идентичности сознания и мозга: «Предположим, вы можете в принципе точно знать, какие нейронные процесс происходят, когда Майкла просят определить понятие “справедливость” и дать ответ. Все же эти события никогда не будут идентичны его определению справедливости»22. Проблема заключается в том, что сложный опыт не может существовать разделенным среди множества объектов, таких как нейроны. Парадокс состоит в том, что, с одной стороны, понимание невозможно отрицать как неоспоримый факт нашей жизни, а с другой — это понимание, как отмечает У. Хаскер, «не может быть ни отдельным нейроном, ни группой нейронов, такой как мозг, и не может быть каким-либо материальным объектом вообще»23.
Наш субъективный или внутренний опыт ментальных функций вместе с нашим пониманием их и нас самих как единого центра сознания требует объяснения, которое превосходит чисто физическое функционирование мозга, даже если мы обоснованно допускаем, что все эти функции связаны с мозгом и в определенной степени зависят от него. Неудивительно, что Дж. Фодор столь остро ставит проблему: «Никто не имеет ни малейшей идеи о том, как что-то материальное могло быть сознающим. Никто даже не знает, на что должно быть похоже иметь хотя бы малейшую идею того, как что-то материальное могло быть сознающим. Такова большая часть философии сознания»24. Таким образом, некоторая форма дуализма является практически неизбежной. Неудивительно, что до определенной степени дуализм продолжает сохраняться даже в подходе Мерфи и Клейтона несмотря на то, что Клейтон называет свой подход «эмерджентным монизмом» и категорически отвергает дуализм души и тела. Монизм Клейтон видит в том, что «есть только одна физическая система, и никакой энергии не вводится в эту систему посредством некоторой духовной субстанции, внешней по отношению к ней»25. Заметим, что само это суждение никак не противоречит тому, что человек представляет собой единство души и тела. Нематериальная душа не является внешней по отношению к телу в том смысле, что человек представляет собой единство души и тела. При этом Клейтон вполне ясно подчеркивает дуализм свой ств, говоря о том, что язык физики и личности пересекаются только отчасти. Он справедливо подчеркивает, что «споры между физикалистскими и нефизикалист-скими взглядами на личность имеют отношение не только к науке, а к тому, что действительно или реально или окончательно существует»26. Можно согласиться с Клейтоном в отношении того, что ментальное зависит, но не сводится к физическому. Однако эмерджентный подход можно рассматривать как необходимый, но не достаточный подход для богословского понимания человеческой личности. Вряд ли при этом можно согласиться с Клейтоном в том, что введение субстанции души (т. е. собственно богословского понятия) должно привести к отвержению всякой дискуссии. Такое суждение подобно взгляду, что введение понятия Бога должно привести к отвержению всякой дискуссии между наукой и богословием. Другая проблема эмерджентного монизма, по мнению философа Р. Коллинза, состоит в том, что само по себе введение эмерджентных свой ств или структур является недостаточным, поскольку «просто передвигает проблему на один уровень назад к законам, определяющим, когда возникают эмерджентные свой ства или структуры»27.
Душа в контексте диалога науки и богословия
Однако главная проблема нередуктивного физикализма и эмерджентист-ского монизма состоит в том, что эти подходы игнорируют богословскую преданность, значение которой мы подчеркивали в самом начале. Ответы на вопросы о природе существенно зависят от того, какого взгляда на природу мы придерживаемся, и какие виды ответов мы можем получить исходя из этого взгляда. Это в полной мере относится и к представлению о человеке. Христианская богословская антропология всегда подчеркивала наличие у человека души как активного начала в человеке. Более того, христианская эсхатология предполагает, что душа продолжает свое существование после смерти человеческого тела и существует отдельно от него до всеобщего воскресения. Такой богословский взгляд на человека демонстрирует, что для понимания его природы явно недостаточно простого возникновения эмерджентного сознания из физико- химических процессов. Дж. Полкинхорн не принимает подхода Н. Мерфи и Ф. Клейтона, поскольку полагает, что их подход двусмысленный и приводит к тому, что материя становится причинным основанием разума. Как отмечает У. Хаскер, христианское учение о воскресение мертвых предполагает, что «сознающий разум является онтологически отличной от физического мозга сущностью»28. Поэтому свой подход Хаскер называет «эмерджентным дуализмом», а Полкинхорн «двухаспектным монизмом». С точки зрения последнего, душа представляется «“носящим информацию образцом”, выражающим непрерывность живой личности и организующим материю»29. Однако проблема с таким пониманием состоит в том, что этот информационный образец, возникающий эволюционно в человеке, с точки зрения Полкинхорна обладает самостоятельной активностью, т. е. отличается от обычного ввода информации в систему. Неудивительно, что К. Уорд задает Полкинхорну справедливый вопрос, является ли душа субстанциальной? Очевидно, что обычная информация существует всегда на конкретном носителе и «связана с физической структурой настолько, что при разрушении этой структуры она также разрушается»30. Чтобы избежать такого вывода, Полкин-хорн постулирует, что этот информационный образец обладает внутренней активностью. К. Уорд справедливо указывает на это противоречие во взгляде Полкинхорна, которое можно было бы легко устранить, если бы последний не отказывался априорно от понимания психосоматического единства человека в том виде, в каком оно представлено в традиционном христианском богословии и у Декарта31. Это становится еще более очевидным, когда Полкинхорн говорит об эсхатологическом будущем. Воскресение мыслится Полкинхорном как изменение всего тварного в соответствии с новыми законами, которые Бог вводит во Вселенную. При этом в этой трансформации выделяются два аспекта — непрерывный и прерывный. С одной стороны, история и развитие этого мира с его законами прерываются, с другой стороны, эсхатологическое будущее предполагает, что существовавший ранее мир трансформируется в новое состояние. Когда Полкинхорн говорит об информационном образце, то он полагает, что этот образец может быть перенесен Богом в новую форму телесности. Для объяснения возможности такого переноса Полкин-хорн использует метафору души как «софта», а тела как «железа». Такая метафора позволяет представить возможность переноса софта или «носящего информацию образца» в новое физическое окружение преображенного мира. Однако сама метафора «активного информационного образца» имеет смысл только тогда, когда мы уходим от двухаспектного монизма и утверждаем, что психосоматическое единство следует понимать именно как единство души и тела человека.
В связи с этим возникает закономерный вопрос. Если, например, по мнению И. Барбура32 и других ученых существование души не может быть ни доказано, ни опровергнуто посредством науки, то какие существуют объективные причины отказа от дуализма со стороны философов и богословов, которые вовлечены в диалог науки и религии? Как отмечает У. Стоугер, «с научной и современной философской точки зрения она (душа) видится как очень неполезная — хотя я не могу видеть, что она каким-то образом противоречит естественным наукам»33. Стоугер полагает, что мы можем расширить эмерджентное описание, если поразмышляем о том, что мы вкладываем в само понятие законов природы. Стоугер выделяет два понимания законов природы:
-
1) Как мы знаем, понимаем и моделируем их;
-
2) Как они действительно функционируют в реальности, которая больше, чем то, как мы знаем, понимаем и адекватным образом моделируем34.
Нейробиология в рамках своих подходов может изучать законы природы в первом значении, приближаясь в определенной степени к пониманию их во втором значении. В этом первом значении можно принять в качестве рабочей модели описание эмерджентности, предложенное Клейтоном и Эллисом. В то же самое время даже эти эмерджентные модели не дают ответа на вопрос: как может нечто ненаблюдаемое, т. е. сознание быть просто комбинацией состояний мозга, природа которых наблюдаема? Стоугер полагает, что ответ состоит в том, что «сознание не является “просто комбинацией” состояний мозга, но скорее вовлекает сложный эволюционирующий паттерн состояний мозга, конституированный некоторым весьма специфичным образом определенными отношениями, включая те, которые мы должны открыть и понять»35. Таким образом, те корреляты сознания, которые доступны науке, представляют собой подгруппу законов природы, которые потенциально познаваемы естественными науками. Душа в таком понимании может мыслиться как полная сеть отношений, которые существуют в действительности. Следовательно, если мы рассматриваем природу как творение Божие, то это понимание предполагает, что законы природы, как они функционируют в реальности, выражают отношение с Богом всей стратифицированной реальности. В отношении души и сознания это предполагает, что законы природы, как они функционируют в реальности, предполагают весь спектр отношений, включающих нейронные связи, взаимодействие со всем телом человека, его возникновением и развитием, а также отношение с высшими уровнями реальности, которые недоступны научному исследованию. У. Стоугер подчеркивает, что понятие души «предполагает ее связь с Основанием ее бытия»36.
Философские возражения концепции души, как правило, связаны с критикой субстанциального дуализма Декарта, который, согласно традиционному представлению картезианства, противопоставлял мыслящую субстанцию (res cogitans) протяженной субстанции (res extensa). В философии такой взгляд получил название «ошибки гомункула»37. Однако такое понимание дуализма на самом деле является упрощением подхода Декарта к проблеме, поскольку последний разделял традиционное христианское представление о человеке как единстве души и тела: «Природа учит меня также, что я не только присутствую в своем теле, как моряк присутствует на корабле, но этими чувствами — боли, голода, жажды и т. п. — я теснейшим образом сопряжен с моим телом и как бы с ним смешан, образуя с ним, таким образом, некое единство»38. Богослов К. Уорд полагает, что обвинение Декарта в дуализме является одним из наиболее распространенных заблуждений в истории философии. Уорд пишет: «Картезианский дуализм, фактически, — это учение, что тело и разум являются различными по виду, но существенно интегрированными и соединенными, чтобы сформировать одно существо, человека»39. Философ религии Ч. Талиаферро также признает, что такие материалисты как Д. Деннетт изображают дуализм в карикатурном виде, считая личность крошечным субъектом в театре, который находится в голове. Талиаферро пишет: «Когда вы видите меня пишущим, вы не видите душу, контролирующую тело, вы видите воплощенную личность. Дуализм лучше рассматривать вдоль интегральных линий. В здоровых условиях разум и тело, ментальное и физическое функционируют как единство. Но в других условиях, в случае смерти, например, тело может исчезнуть, но, если личность больше, нежели тело, смерть может не означать конца личности или души»40. В такой перспективе представляется вполне возможным исследовать гипотезу души, которая, по мнению философов М. Бэйкера и С. Готца, «может функционировать как гипотеза в том смысле, что она является интегральной частью сложной теории об истинной природе людей … а ее связь с наблюдаемыми эмпирическими данными должна быть реальной и неустранимой, но связь может быть сложной и не прямой»41. Другое возражение, которое часто высказывается против принятия концепции нематериальной души, состоит в том, что она не наблюдаема посредством научных методов. Однако, как указывает Г. Халворсон, «постулирование ненаблюдаемой структуры позади феноменов является обычной стратегией теоретической науки, ее оправдание проистекает из факта, что она объясняет эмпирические факты, которые в противоположном случае были бы загадочными»42.
Православный богослов К. Найт подчеркивает, что в рамках научных исследований вполне возможно успешно изучать те функции души, которые сегодня относятся к сознанию и разуму. Признавая достоинства эмерджентных подходов и критику ими редукционизма, Найт считает основным недостатком этих подходов отвержение представления, что эмерджентные качества, такие как мышление, свобода воли и др., «могут иметь какую-либо реальность вне тела»43. Он справедливо отмечает, что с начала XVIII века термин душа заменяется в научном дискурсе понятиями разума или сознания, однако отождествление души с разумом и сознанием не является корректным. Другим важным недостатком эмержентистского подхода К. Найт считает стремление полностью обосновать возникновение сознания и разума из низших уровней организации материи, игнорируя важный аспект христианского понимания того, что «материя имеет свое происхождение в уме Божием»44, поскольку вся природа, как мы уже отмечали, должна рассматриваться как творение.
Исходя из того, что мы сегодня знаем о функциях мозга, о связи мышления и сознания с нейронной активностью, а также исходя из понимания несводи-мости сознания к нейронным коррелятам, философ Р. Коллинз предлагает «двухаспектную модель души»45. Душа обладает субъективными свой ствами или qualia, которые являются нередуцируемыми, а также несубъективными свой ствами, которые могут быть описаны математическими законами. Такая двухаспектная модель души позволяет описывать психическую деятельность в научных терминах, и, в то же время, подчеркнуть, что в человеке есть нечто, что не редуцируется и не может быть представлено посредством научного описания. Коллинз полагает, что постулирование дуализма сущностей, хотя и является метафизической позицией, исходит из понимания того, к какому объяснению стремится сама наука — описанию известных явлений наиболее простым способом. По мнению Коллинза, «введение новой сущности, души, которая имеет субъективные и несубъективные свой ства, может потенциально обеспечить довольно простым представлением наблюдаемых корреляций между состояниями мозга и субъективными состояниями»46. С точки зрения Коллинза, несубъективные свой ства души не имеют отношения к сознанию и вполне могут быть описаны математическими законами, в то время как субъективные свой ства души недоступны для такого описания.
Подход Р. Коллинза согласуется с православной антропологией. В православной богословской традиции природа человека представляет собой единство телесного и душевного начала. Так, прп. Максим Исповедник неоднократно подчеркивает, что «… [способное быть] орудием тело, [со]единенное с умозрящей душой, являет завершенного человека»47. Тело, согласно прп. Максиму, является орудием души, а душа вмещает тело, целиком присутствуя в каждой из его частей. При этом само представление о душе предполагает наличие в ней аспектов, которые могут быть описаны посредством взаимодействия с телом, а также тех аспектов, которые являются нередуцируемыми и выражают отношение души к Богу. Так, православный богослов прот. Д. Ста-нилое подчеркивает, что «духовное дыхание Бога производит онтологическое духовное дыхание человека, а именно, духовную душу, которая имеет свои корни в биологическом организме и находится в сознательном диалоге с Богом и с другими людьми»48. Этот акцент на единстве человека исключает любую форму субстанциального дуализма, в котором человек рассматривается просто как дух или душа. Скорее, человек является воплощенным духом или одушевленным существом, в котором душа проявляет себя через тело, а тело имеет свои основания в душе. Православное понимание души предполагает наличие у нее различных аспектов или способностей, часть которых вполне может быть объяснима ее тесной связью с телесной природой человека, а другая часть, напротив, нередуцируема. Опираясь на труды свт. Григория Нисского, К. Найт акцентирует внимание на богословском понятии ума (nouς) как высшей познавательной способности человека на пути к Богу, выражающейся в прямом интуитивном познании божественного, которую следует отличать от рассудочного знания (διανοια), сопряженного с существованием человека в мире после грехопадения и обусловленным его биологической природой. Найт подчеркивает: «Если следует развить когерентное понимание веры, необходимо нечто, что обеспечивает нередукционистской связью между ней и другими аспектами психологии человека»49. Таким образом, когнитивные науки и науки о мозге вполне способны изучать процессы, связанные с рациональностью человека, его волевым поведением и эмоциональным миром, но ограничены в понимании высшей познавательной способности — ума (nouς), который, согласно мысли прп. Иоанна Дамаскина, «не иной по сравнению с нею самой (душой. — прот. Д. К.), но — чистейшая часть ее (ибо как глаз в теле, так ум в душе)»50. Прот. Д. Станилое подчеркивает эсхатологическое значение ума, когда утверждает: «…после того, как ум освободится от всех вещей и представлений этого мира, он познает Бога прямым интуитивным образом»51. Такое понимание придает важный смысл эсхатологической перспективе, в которой, выражаясь словами Полкинхорна, «несущий информацию образец» не просто переносится в новое «железо», оставаясь, по существу, неизменным, но трансформируется и преображается в новое состояние. Найт указывает на то, что метафора «софта» и «железа», которую использует Полкинхорн, сегодня становится неадекватной как с научной, так и с богословской точки зрения, поскольку «то, что мы называем разумом, обусловлено физическим субстратом, из которого он возникает»52. Это означает, что те аспекты разума, которые обусловлены взаимосвязью с мозгом и человеческим телом, являются частью нашей настоящей телесности, которые не обязательно будут перенесены в мир грядущий после воскресения: «воскресший разум будет связан с новой ситуацией и будет с неизбежностью отличаться от нашего земного разума»53, а познавательные способности души после воскресения будут связаны не с διανοια, а с nouς, «оком души», которое дает прямое интуитивное знание Бога, поскольку характер преображения человека в новое состояние указывается в Священном Писании как видение Бога «лицом к лицу» (1 Кор 13:12).
Заключение
Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы.
-
1. Онтологический редукционизм является метафизической позицией, которая не является прямым следствием практики науки.
-
2. Диалог богословия и науки не может осуществляться с некоторой абстрактной нейтральной с богословской точки зрения позиции, но изначально предполагает понимание природы как творения Божия.
-
3. Имеющиеся в настоящее время данные когнитивных исследований и нейробиологии позволяют аргументированно говорить о наличии эмерджентных свой ств, таких как разум и сознание, которые принципиально не сводимы к функциям мозга.
-
4. Эти свой ства можно разделить на две категории — те свой ства, которые возникают как новый уровень организации из физико- химических и биологических структур, или эмерджентные, и свой ства, которые связаны с существованием души или nous, определяющей отношение человека к Богу.
-
5. Конструктивное взаимодействие между христианским богословием и современными науками о человеке возможно без необходимости радикального пересмотра традиционного христианского учения о человеке и устранения концепции души.
Источники и литература
Список литературы Мозг, разум, душа в контексте диалога науки и религии
- Декарт Р. Размышления о первой философии // Его же. Сочинения: в 2 т. / Пер. с лат. и фр. Т.2 / Сост., ред. и примеч. В. В. Соколова. М.: Мысль, 1994. 633 с.
- Иоанн Дамаскин, прп. Источник знания / Пер с древнегреч. и комм. Д. Е. Афиногенова, А. А. Бронзова, А. И. Сагарды, Н. И. Сагарды. М.: Индрик, 2002. 416 с.
- Максим Исповедник, прп. Амбигвы. Трудности к Фоме (Ambigua ad Thomam), Трудности к Иоанну (Ambigua ad Iohannem) / Пер. с древнегреч. Д. А. Черноглазова, А. М. Шуфрина; науч. ред., предисл. и комм. Г. И. Беневича. М.: Эксмо, 2020. 992 с.
- Ayala F. J. Introduction // Studies in the Philosophy of Biology: Reduction and Related Problems / Ed. by F.J. Ayala, Th. Dobzansky. Berkeley: University of California Press, 1974. P.VII-XVII.
- Baker M., Goetz S. Introduction // The Soul Hypothesis. Investigations into the Existence of the Soul / Ed. by M. Baker, S. Goetz. NY: Continuum, 2011. P. 1-20.
- Barbour I. G. Neuroscience, Artificial Intelligence and Human Nature — Theological and Philosophical Reflections // Neuroscience and the Person. Scientific Perspectives on Divine Action. Berkeley-Vatican City: CTNS-VO, 2002. P. 249-281.
- Bhaskar R. Reclaiming Reality: A Critical Introduction to Contemporary Philosophy. London-NY: Verso, 1989. 235 p.
- CampbellD.T. "Downward Causation" in Hierarchically Organized Biological Systems // Studies in the Philosophy of Biology: Reduction and Related Problems / Ed. by F.J. Ayala, Th. Dobzansky. Berkeley: University of California Press, 1974. P. 179-187.
- Chalmers D. Strong and Weak Emergence // The Re-Emergence of Emergence. The Emergentist Hypothesis from Science to Religion / Ed. by Ph. Clayton, P. Davies. Oxford: OUP, 2006. P. 244-257.
- Clayton Ph. Mind and Emergence. From Quantum to Consciousness. Oxford: OUP, 2004. 249 p.
- Clayton Ph. Neuroscience, the Person and God. An Emergentist Account // Neuroscience and the Person. Scientific Perspectives on Divine Action. Berkeley-Vatican City: CTNS-VO, 2002. P. 181-215.
- Clayton Ph., Knapp S. Predicaments of Beliefs. Science, Philosophy and Faith. Oxford: OUP, 2011. 210 p.
- Collins R. A Scientific Case for the Soul // The Soul Hypothesis. Investigations into the Existence of the Soul / Ed. by M. Baker, S. Goetz. NY: Continuum, 2011. P. 222-246.
- Crick F. Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul. NY: Charles Scribner's Sons, 1994. 318 р.
- Dobzansky T. Introductory Remarks // Studies in the Philosophy of Biology: Reduction and Related Problems / Ed. by F.J. Ayala, Th. Dobzansky. Berkeley: University of California Press, 1974. P. 1-3.
- Ellis G. How can Physics Underlie Mind. Top-Down Causation in the Human Context. Berlin: Springer, 2016. 482 p.
- Halvorson H. The Measure of All Things: Quantum Mechanics and the Soul // The Soul Hypothesis. Investigations into the Existence of the Soul / Ed. by M. Baker, S. Goetz. NY: Continuum, 2011. P. 138-163.
- Hasker W. Souls Beastly and Human // The Soul Hypothesis. Investigations into the Existence of the Soul / Ed. by M. Baker, S. Goetz. NY: Continuum, 2011. P. 202-217.
- Knight Chr. Science, Theology and Mind // Orthodox Christianity and Modern Science. Tensions, Ambiguities, Potential / Ed. by V. N. Makrides & G. E. Woloschak. Turnhout: Brepols, 2019. P. 147-161.
- Knight Chr. The Human Mind in This World and the Next: Scientific and Early Theological Perspectives // Theology and Science. 2018. Vol. 16. Is. 2. P. 151-165.
- McGrath A.E. A Scientific Theology: in 3 vols. Vol. 1: Nature. Grand Rapids: Eerdmans, 2001. 337p.
- McGrath A.E. A Scientific Theology: in 3 vols. Vol.2: Reality. Grand Rapids: Eerdmans, 2002. 353 p.
- McGrath A.E. Dawkins' God: Genes, Memes and the Meaning of Life. Oxford: Blackwell, 2004. 172 p.
- Merphy N. Supervenience and the Downward Efficacy of the Mental: A Nonreductive Physicalist Account of Human Action // Neuroscience and the Person. Scientific Perspectives on Divine Action. Berkeley-Vatican City: CTNS-VO, 2002. P. 147-165.
- Polkinghorne J. C. Mathematical Reality // Meaning in Mathematics / Ed. by J. Polkinghorne. Oxford: OUP, 2011. P. 27-35.
- Polkinghorne J. C. Scientists as Theologians: A Comparison of the Writings of Ian Barbour, Arthur Peacocke and John Polkinghorne. London: SPCK, 1996. 96 p.
- Polkinghorne J. C. The God of Hope and the End of the World. London: SPCK, 2002. 192 p.
- Staniloae D. The World: Creation and Deification // Idem. The Experience of God. Orthodox Dogmatic Theology. Vol. 2. Brookline: Holy Cross Orthodox Press, 2000. 214p.
- Stoeger W., SJ. The Mind-Brain Problem, the Laws of Nature, and Constitutive Relationships // Neuroscience and the Person. Scientific Perspectives on Divine Action. Berkeley-Vatican City: CTNS-VO, 2002. P. 129-147.
- Taliaferro Ch. The Soul of the Matter // The Soul Hypothesis. Investigations into the Existence of the Soul / Ed. by M. Baker, S. Goetz. NY: Continuum, 2011. P. 26-40.
- Verschuuren G. The Holism-Reductionism Debate. In Physics, Genetics, Biology, Neuroscience, Ecology, and Sociology. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. 216 p.
- Ward K. Bishop Berkeley's Castle: John Polkinghorne on the Soul // God and the Scientist. Exploring the Work of John Polkinghorne / Ed. by F. Watts, Chr. Knight. Farnham: Ashgate, 2012. P. 127-139.
- Кирьянов Д.В. Критический реализм в диалоге науки и религии: подход И. Барбура и Дж. Полкинхорна // Манускрипт. 2021. Т. 14. Вып. 8. С. 1669-1678.