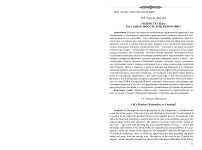Мудрость Сида: рассудительность или хитроумие?
Автор: Ершова Ирина Викторовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: К 90-летию Ю.В. Манна
Статья в выпуске: 3 (50), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются особенности героического характера Сида Кампеадора и поднимается проблема происхождения главного качества Сида, определяемого как «mesurado». Стоит объяснять специфику испанского героя его сходством с историческим прототипом или античным идеалом правителя, или же проблема состоит в особой генетической природе этого эпического персонажа? Анализ отдельных эпизодов «Cantar de mio Cid» ̶ эпизодом с закладом сундуков и битвы при Теваре ̶ показывает, что рассудительность и мудрость Сида скорее следует толковать как хитроумие. Уточнить истоки природы эпического амплуа Сида Кампеадора предлагается благодаря хроникальным переложениям, часть из которых датируется временем, предшествующим датировке поэмы, а часть ̶ последующим. Анализ эпизода в Нахерской хронике, который следует трактовать как хитроумный трюк с ложным умалением сил, а также определение сюжетной роли Родриго Диаса в рассказе о разделе королевства Фернандо I в «Хроника двадцати королей» как роли советчика, помогающего найти хитроумный выход из сложной ситуации, позволяет утверждать, что мудрость Сида проистекает прежде всего из плутовства, характерного для героя-трикстера, и все эпические роли и функции Сида Кампеадора, которые складываются в испанской эпической традиции до конца XIII в. (хитроумный воин; советчик; властитель), последовательно связывают мудрость Сида не с его разумными «экономическими» стратегиями и рассудительностью нрава, а с хитроумием, проявленным при принятии решений
"песнь о моем сиде", клад сундуков с песком, умеренность, герой-трикстер, "нахерская хроника", "хроника двадцати королей"
Короткий адрес: https://sciup.org/149127193
IDR: 149127193 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00057
Текст научной статьи Мудрость Сида: рассудительность или хитроумие?
Средневековая эпическая традиция знает немало примеров героев, имевших реальных прототипов, но даже на их фоне Сид Кампеадор (Родриго Диас де Бивар) считается едва ли не самым «историчным» из них. Доводов в пользу исторической достоверности Сида Кампеадора приводится много: от реальных фактов его биографии до специфических черт характера героя. Своеобразие испанского эпического героя действительно связано с его близостью к историческому прототипу, однако речь скорее должна идти о специфике генезиса его эпического амплуа, которое трансформирует традиционный облик героя-воина в контексте средневековой культуры.
Исследователи «Песни о Сиде» исходят из одного твердого положения -Сид (и этим он обязан своему историческому прототипу) отличается несвойственной эпическому герою «мудростью, разумностью» - и пытаются самым разным образом объяснить это качество. И правда, обычно сопоставляемый с такими героями, как Беовульф, Роланд, Гильом Оранжский и др., Сид никак не вписывается целиком в роль «героя-воина», что подвергает сомнению эпическую природу героя и поэмы. Испанский эпический герой зрел годами, разумен, практичен и даже хозяйственен; он весь в постоянной заботе о своих вассалах (об их пропитании, ночлеге, наделах земли), а нанесенное ему оскорбление предпочитает решать не воинскими поединками с недругами, но сложной судебной процедурой на кортесах короля, в результате чего его слава и богатство еще больше возрастают. Заботясь о пропитании своего войска, Сид оказывается способен даже на подлог, что обычно становится аргументом в пользу его хозяйственной находчивости и рассудительности. Конечно, его воинские качества бесспорны; правда, он никогда не показан в традиционном для эпического героя бое-поединке, хотя и убивает много врагом в битвах, более того, каждая его битва - это скорее хорошо продуманная военная операция.
По мнению многих исследователей, мудрость Сида проявляется буквально во всех действиях героя - это его умеренность в поведении, разумность при захвате и разделе добычи (обязательные компоненты тем битвы и осады), военная стратегия и способность находить хитроумные решения. Какова же генетическая природа мудрости Сида Кампеадора? Одни объясняют ее «рыцарскими» установками ученого автора поэмы, исходящего из системы ценностей ХП-ХШ вв. и отдающего предпочтение добродетелям не столько эпическим, сколько рыцарским. Для других рассудительность и здравомыслие Сида - тоже не совсем эпическое свойство, но с другими доводами. Характер Сида трактуется как реализация унаследованной от античности идеи гармоничного сочетания в человеке sapientia и fortitudo, причем первое выступает скорее в значении «pruden-tia» (благоразумие и рассудительность). Такие объяснения также возводят героя поэмы к учено-клерикальной, т.е. письменной традиции. В качестве подтверждения не случайного характера этой редкой и странной для эпического героя характеристики приводится факт внесения теологами prudentia в список христианских добродетелей на рубеже ХП-ХШ вв. [Montaner 2011, 831]. Третьи выводят нехватку воинских качеств Сида и преобладание рассудительности в его поступках из его меркантильности и даже стяжательства: кажется, что раздел добычи составляет в совокупности большую часть песни. Отечественный переводчик и исследователь поэмы Б.И. Ярхо, проверяя «Песнь о Сиде» и другие эпические памятники средневековья на наличие или отсутствие патриотической лексики, сделал вывод, что по преобладающей семантике лексика испанской поэмы свидетельствует о следующем: «“Сид” - песнь корысти и стяжания (“Слово” -песнь храбрости; “Роланд” - песнь борьбы за веру; “Беовульф” - песнь вражды и мести») (из доклада, прочитанного в ИМЛИ осенью 1941 г.) [Акимова, Шапир 2006, xxvii]. Родриго Диас действительно немало занят заботой о деньгах, разделом добычи, подсчетом завоеванного и пр., что, прежде всего, можно считать следствием реальных целей Реконкисты на ранних этапах, где основными были именно экономические цели (добыть землю и содержать себя и дружину).
Наконец, нетрадиционность Сида часто объясняется соединением в нем качеств двух типов собственно эпического героя - «героя-воина» и «героя-мудреца»: воинской доблести, силы, с одной стороны, и мудрости, а то и хитроумия, с другой [Menendez Pidal 1957, 338; Hart 1977, 64-68; Schaller 1977; Estrada 1982, 117-118; Deyermond 1987, 26]. Классическим примером первого типа героев обычно называют Ахилла, второго - Одиссея.
Сид, действительно, ближе ко второму типу - героя-мудреца, а как следствие его мудрость в поэме является не только (и не столько) рассудительностью и здравомыслием, но и хитростью.
Можно даже утверждать, что Сид Кампеадор в качестве эпического героя генетически возникает именно как герой-хитрец, и его мудрость надо понимать, прежде всего, как хитроумие. Сид минимально показан в бою, ни разу не изображен в единоличном поединке, а его самые запоминающиеся деяния - это заклад ложных сундуков и хитрости при осаде и в битвах с врагом. Все хитроумные решения Сида идут во благо его войску, а потому только возвеличивают героя.
Самый главный эпизод, доказывающий хитроумие Сида, - заклад с сундуками, реализующий фольклорный мотив «герой хитростью добыва- ет помощь». Когда Сид покидает Бивар, лишенный всего своего имущества, то весь путь до границы Кастилии представляет собой следование героя за опережающим его запретом короля («крепко запечатанная грамота»), Он не может купить ничего из еды в Бургосе, найти себе пристанище в домах горожан, раздобыть денег на содержание войска. В этом внимании к материальному обеспечению войска герой «Песни о моем Сиде», как считается, разительно отличается от других памятников романского эпоса [Bowra 1952, 345-346; Duggan 1989, 19-20]. Бедствия героя на трудном пути вызывают горе людей, и только самые отважные решаются прийти на помощь герою: копейщик Мартин Антолинес добывает Сиду провизию и помогает ему в истории с закладом. Он привозит в лагерь на Арлан-соне ростовщиков Ракеля и Видаса, которые принимают ложный заклад, поклявшись не открывать сундуки в течение года, и дают ссуду Родриго Диасу, которая нужна ему, чтобы содержать войско и заплатить за постой жены и дочерей в монастыре Сан-Педро де Карденья.
Мотив ложного заклада также имеет фольклорный характер; среди вариантов (но не источников) называют рассказ об обмане с сундуками, которые должны ввести в заблуждение вороватого ростовщика, в 15 апологе книги Петра Альфонса «Наставление клирику» \Disciplina clericalis, XV, пер. треть XII в., оттуда этот рассказ перешел в «Римские деяния»], а также эпизод с сундуками с камнями для создания ложного богатства у Геродота (История, Ш-123). Вместе с тем точных сюжетных совпадений с указанными историями не найдено, хотя сходство с апологом Петра Альфонса есть (изукрашенные сундуки, ростовщик); однако смысл рассказа в «Песни о Сиде» прямо противоположный. А. Монтанер, ссылаясь на А. Дейермонда, М. Чаплин и Сальвадора Мигеля, связывает рассказ о закладе сундуков с песком с жанром «примера», где лукавство и хитрость героя помогают победить его противников. Так и происходит в апологе Петра Альфонса, где сундуки с мнимым богатством по совету старой монахини должны проучить вора и заставить его вернуть деньги. В «примере» главное - это помощь божественного плана (в узко терминологическом смысле) или возможность включения в проповедь с религиозно-дидактической задачей (в широком) [Deyermond, Chaplin 1972, 41; Salvador Miguel 1977, 207; Montaner 2011, 627]; такая назидательная цель есть в латинском апологе (отсюда старая монахиня, придумавшая обман), но его нет в поэме, что скорее свойственно бытовой сказке или новеллистическому рассказу. Один и тот же мотив трактован в «Песни о Сиде» и в «Наставлении клирику» совершенно по-разному.
Однако вернемся к смыслу и месту этого эпизода в поэме. Мотив с мнимым богатством в сундуках встраивается в сюжет с вполне определенной задачей - достать денег на содержание семьи и дружины. Как кажется, он не содержит никакой иронии по отношению к ростовщикам Ракелю и Видасу, хотя эта интерпретация является основной в испанской критике. В частности, эпизод этот трактуется следующим образом: Ракель и Видас оказывают помощь Сиду только ради своего корыстного интереса, и - как и инфанты Каррионские - окажутся в итоге в проигрыше [Gargano 1980, 222]. Невозврат денег ростовщикам рассматривается как пример шутки над шутником (мотив burlador burladd) [Lacarra Ducay 1979, 193-194]; подробнее об интерпретации эпизода в сидоведении см. [Montaner 2011, 673-675].
На самом деле этот эпизод лишь демонстрирует хитроумие героя и его помощника, находящих выход в безвыходной ситуации, а учитывая, что все знают о гневе и запрете короля, ростовщики могли вполне догадываться о пустых сундуках, рассчитывая на возмещение и удачу Сида («вот какая ваша удача, велика ваша добыча» - assi es vuestra ventura, grandes son vuestras ganancias, v. 177). К тому же, весь эпизод по своему формульному составу оформлен именно как просьба Сида о помощи. Эта типическое место, и оно имеет устойчивую форму в поэме. Любая просьба о помощи включает в себя следующие компоненты: а) напоминание о запрете короля («ведь король на него гневается» - que el rey le a airado, 114, 156); б) обещание последующей награды - в данном случае Мартином Антоли-несом, а затем и самим Сидом («сделает вас навсегда богачами, не будете вы бедняками» - рог siempre vos fare ricos, que non seades menguados, 108; mientra que vivades non seredes menguados, 157): в) трата денег на дружину и нужды семьи.
Другим примером демонстрации мудрости Сида в поэме, а точнее его хитроумия становятся военные операции героя, например, в битве при Те-варе. Последовательность действий такова: перед началом военных действий графа Рамона Беренгера идут угрозы и обмен устными посланиями (в виде двух реплик); далее следует обращение к войску, где Сид задумывает своего рода ловушку для малопригодного к битве врага: спускающееся с горы огромное войско графа примут на копья удачно расположившиеся рыцари Сида - в этот момент он сообщает, что его лагерь стоит под горой и это дает ему преимущество:
«Прежде чем въедут они в долину, примем их на копья;
Одного вы раните - три седла станут пустыми.
Увидит Рамон Беренгер, за кем бросился в погоню, Чтоб сегодня в роще Тевара завоевал я свою добычу» (Antes que ellos lleguen al llano presentemosles las lancas: por uno que firgades tres siellas Iran vazias.
Vera Remont Verenguel tras quien vino en alcanna, oy en este pinar de Tcvar por tollerme la ganancia [Cantar de mio Cid 1993, далее CMC 996-999].
Сидово войско выходит на битву меньшим числом, но с большей отвагой и мужеством. А франков хотя и много, но они слабы и плохо готовы к сражению; это подчеркнуто кратким замечанием об одеждах противников: франки в придворных костюмах, тогда как на людях Сида воинская одежда.
Весь эпизод противостояния с графом Барселонским в «Песни о моем Сиде» решен очень стереотипно для системы типических сцен в поэме, хотя и в несколько комической интонации: это и рассуждения о туфлях вместо высоких сапог, о легких седлах вместо тяжелых галисийских, предназначенных для боя; это также сцена обмена речами после битвы, в которой Сид трижды уговаривает поесть графа, а тот отказывается в обиде. Комизм этот слегка отдает шутовством, что с общей трикстерской подоплекой характера Сида и его хитроумием соотносится в полной мере. Все обращение героя с графом должно подчеркнуть превосходство Кампеадора и некоторую несерьезность противостоящего ему врага (в отличие от мавров, к которым Сид всегда относится всерьез).
Итак, мудрость Родриго Диаса в «Песни о Сиде» проявляется не столько в дележе добычи или его реакциях, сколько в умело организованных битвах и осадах, которые демонстрируют главное эпическое свойство Сида - его хитроумие. Попробуем выяснить истоки природы эпического амплуа Сида Кампеадора. Сделать это, на наш взгляд, можно благодаря хроникальным переложениям, часть из которых датируется временем, предшествующим датировке поэмы, а часть - последующим.
В хроникальной эволюции сказаний о Родриго Диасе де Бивар одним из самых интересных и спорных текстов оказывается латинская «Нахер-ская хроника» (лат. Chronica Naierensis, 1160? или 1180-1190?), созданная предположительно в монастыре Санта Мариа ла Реаль де Нахера [Ubieto Arteta 1981]; это первая хроника, посвященная истории Кастилии и ее правителей (впервые издана Ж. Сиро [Cirot 1909] под названием «Chronique leonaise»). Среди прочего хроника вызывает особый интерес вниманием к легендарным сюжетам и, возможно, обращением к устным сказаниям и эпическим песням о деяниях героев (сюжет о битве при Ковадонге; отречение Альфонсо Великого; о мятежных графах Кастилии; о судьях Кастилии; о графе Фернане Гонсалесе; о графине-предательнице; об инфанте Гарсия; о сыновьях Санчо Наваррского). В частности, одним из таких сюжетов в латинской хронике является история борьбы за власть и битв короля Санчо II Кастильского, источником которой считают несохранившуюся «Песнь о Санчо II Сильном», существовавшую то ли на латинском, то ли на романском языке. Начало этой истории кладет раздел королевства королем Фернандо I между тремя его сыновьями и двумя дочерями. Дочери получили города и области к ним прилежащие, а сыновья поделили между собой Кастилию, Галисию и Леон. Результатом необдуманного решения старого короля стали междоусобные битвы братьев-королей.
Родриго Диас де Бивар, кастильский рыцарь и альферес короля (обладавший полномочиями командующего войском), возникает в следующем эпизоде: накануне битвы братьев-королей при Гольпехере король Санчо собирает военачальников, чтобы выяснить, чье войско больше и каковы их собственные силы. В этот момент между королем и Родриго происходит следующий диалог:
«Тогда сказал Санчо: “Если они превосходят числом, ты мы лучше и сильнее их. Не стоит ли мое копье тысячи рыцарей, а копье Сида Кампеадора - сотни? ” На это ответил ему Родриго, что с Божьей помощью смог бы он сразиться с одним рыцарем, а там как Бог даст. Однако король снова и снова препирался с кастильцем, говоря ему, что тот мог бы сразиться с 50, или 40, или 20, или, наконец, с десятком; но лишь один ответ смог он услышать из уст Кампеадора: “Выйду на бой против одного и сделаю то, что Бог позволит ”»
(“.. тех Santius hortatus suos sic ait: “si illi numerosiores, nos meliores et forciores. Quin inmo lanceam meam mille militibus, lanceam uero Roderici Campidocti, centum militibus comparo”. Ad hec Rodericus cum uno tantum milite cum Dei adiutorio se pugnaturum et quod Deus disponeret facturum asserebat. E contra cum rex iterum atque iterum Rodericum secure cum L uel cum XL uel cum XXX, deinde cum XX uel ad minus cum X posse pugnare contenderet, nunquam tamen aliud uerbum ab ore Roderici potuit extorquere, nisi quod cum uno se cum Dei adiutorio pugnaturum et quod Deus permitteret facturum” [Naierensis III.7-17]).
По окончании битвы оба короля попадают в плен, и здесь на выручку Санчо приходит Родриго, увидевший, как четырнадцать воинов схватили короля и уводят его в плен. Далее:
«Побежал он за ними, крича издалека: “Куда вы идете, жалкие? Какой будет ваша победа, если, уведя нашего короля, вы потеряете своего? Верните нашего короля и получите своего ”. Они же, не зная того, что король их и в самом деле стал пленником, и считая, что это никак невозможно, презрительно отнеслись к Родриго и сказали ему: “Глупец, зачем следуешь ты по следу пленного короля? Или надеешься в одиночку вырвать его из наших рук? ” Отвечал на это Родриго: “Дайте мне одно копье, и я вам очень быстро покажу, с Божьей помощью, чего я хочу”. Они воткнули копье в землю и поехали дальше. Схватив его, Родриго, пришпорил коня, первым броском сразил одного и развернувшись выбил из седла другого; и так раз за разом, налетая на них и повергая на землю, освободил короля и дал [ему] коня и оружие»
(“.. .instanter properat et eos a longe sic affatur: “quo miseri fugitis, uel que uicto-ria nobis si regem nostrum fertis et uestro rege caretis? Nostrum reddatis, ut uestrum post habeatis”. Illi regem suum captum esse nescientes et id nequaquam fieri potuisse credentes, uerba Roderici contemptui habentes dixerunt: “stulte, quid insequeris capti uestigia regis? Tu solus eum de manibus nostris liberari confidis?” Quibus Rodericus ait: “si lancea sola daretur, cum Dei adiutorio in breui meam nobis patefacerem uolun-tatem”. At illi fixa in campo lancea processerunt. Qua Rodericus arrepta, equum calcari-bus urge ns primo impetum unum prostrauit, in reditu alium deiecit et sic in eos sepius feriendo et ad tenam prosternendo, regem eripuit, equum et arma exhibuit [Naierensis III. 1: 29-45]).
Важной структурной чертой обоих эпизодов становится принцип удвоения, который организует весь эпизод: два этапа битвы (сражение, заканчивающееся пленением двух королей; бой Родриго за освобождение короля Санчо с четырнадцатью рыцарями); две беседы Родриго Диаса (одна с королем накануне битвы, вторая с противниками, пленившими короля). В обеих сценах поведение Родриго Диаса строится по одной модели - фольклорной по своему генезису: герой преуменьшает и умаляет свою силу Скромный ответ Родриго следует на похвальбу короля, при этом протагонистом в этом случае следовало бы считать именно Родриго, и кажется, что структура эпизода подтверждает это.
Второй раз у Родриго Диаса подобная же перебранка происходит с вражескими рыцарями, пленившими короля, где он вновь демонстративно преуменьшает свои возможности, сначала уговаривая врагов добром отпустить короля, а потом преследуя отряд в одиночку и безоружным. Он начинает сражаться только после того, как враги уверились в его глупости: под насмешки рыцарей герой просит лишь одно копье. Далее Родриго этим самым копьем по одному расправляется с половиной отряда, освобождает короля, и вместе они побеждают остальных (подробнее о трюке Родриго и его эпических параллелях см.: [Ершова 2018]).
Мотив умаления своей силы эпическим героем очевидно несет в себе оттенок хитрости, плутовства. В упомянутом выше втором диалоге (Родриго и рыцарей) этот оттенок трикстерства, преуменьшения своей силы ради обмана антагониста, просматривается достаточно отчетливо. Этому хитроумному герою вполне соответствует и трюк с сундуками, и периодические ловушки в бою и осадах, к которым часто прибегает эпический Сид в поэме. Эпизод в «Нахерской хронике» предстает фольклорным по самой своей природе, а потому позволяет нам предположить, что хитроумие с самого начала эпической карьеры было вполне свойственно эпическому Сиду.
Эпические сказания о Сиде Кампеадоре в XIII в. оказались записаны и включены в различные варианты хроник Испании, начатых в скриптории Альфонсо Мудрого. Там возникает еще один вариант сюжета о событиях, предшествующих тем, что описаны в «Песни о моем Сиде». Если в XII в. все деяния Родриго Кампеадора и его посвящение в рыцарство связывались с вассальной службой королю Санчо, то в XIII в. начало воинской биографии Сида приходится на время службы, королю Фернандо (и отныне так и будет в устной традиции, в частности, в романсах). Первое упоминание Родриго Диаса в «Хронике двадцати королей (Cronica de veinte reyes, гл. 237) происходит в тот момент, когда хроника повествует о 40-м году правления Фернандо I Великого и подходит к рассказу о смерти короля и разделе страны между его сыновьями. Коротко история раздела выглядит следующим образом: умирающий король делит страну между сыновьями, забыв при этом наделить наследством дочь Урраку. Обиженная инфанта с плачем и жалобами требует справедливости и заручается помощью Сида Руй Диаса. Сыновья, каждый, отдают часть своей земли Урраке, и Санчо, старший, вынужден отдать крепость Самору, что ему не нравится. Король умирает, но все предчувствуют будущие распри братьев, и они начинаются почти немедленно после смерти короля.
Заметную и важную роль в рассказываемом сюжете играет Ruy Diaz mio Qid - так называет его хроника и, по-видимому эпическая поэма, ставшая ее источником. Сид в этом сюжете выступает правой рукой и советчиком короля Фернандо: «Хорошо, что вы пришли, Сид, мой верный вассал, ибо не было у короля лучшего советчика, чем вы» (Bien seades venido Qide, mio leal vasallo, ca nunca rrey tai consejero ovo nin tan bueno commo vos sode [5s, CCXXXVIII]). Соответственно все его действия в приведенных эпизодах связаны с функцией мужа совета (эту функцию часто выполняет герой-мудрец, например, Одиссей в «Илиаде»): он послан королем за сыном-кардиналом; он является свидетелем раздела и клятвы; он дает совет инфанте Урраке, как попасть к королю и изложить свою жалобу; он советует королю дать наследство Урраке; он усмиряет знать и ссоры у покоев умирающего короля.
Очевидно, что особое положение Сида при короле Фернандо (сюжета по своему происхождению более позднего, чем «Песнь о Сиде») является следствием того высокого статуса, который обретает герой в эпической традиции. Именно Сид находит решение, как наделить наследством инфанту Урраку: Руй Диас не просто советует ей скорее попасть в покои короля, но придумывает хитрость с публичным плачем Урраки, чтобы ввести ее к умирающему королю. Хитрость Сида заключается в том, что инфанте надлежит громко плакать у покоев умирающего отца, тогда тот услышит плач Урраки и велит позвать ее. Советническая функция Сида в данном сюжете является основной, все советы Сида осторожны и сопряжены с хитроумием, что вполне согласуется с эпическим поведением Сида и характером героя в «Песни о моем Сиде».
Так мы видим, что помимо героя-воина традиция сказаний о Сиде Кампеадоре демонстрирует нам три ипостаси Сида - героя-мудреца (с элементами трикстерства) в «Нахерской хронике», советчика в «Песни о разделе короля Фернандо», а также разумного и рассудительного Сида-во-ина и правителя из «Песни о Сиде»: и все они между собой связаны одной чертой - хитроумием. Более того, хитроумие в нем, как кажется, является способом примирить два противоположных амплуа, из которых составлен его образ в «Песни о Сиде» - героя-воина и властителя. Хитроумный герой, часто выступающий в древнем эпосе в роли мужа совета (как, например, тот же Одиссей в «Илиаде» и Сид в начале своего героического пути), в средневековом рыцарском эпосе «Песнь о Сиде» приобретает черты эпического властителя.
Быть может, в том числе по этой причине в поэме Сид почти никогда прямо не называется «мудрым» и «разумным», тогда как ему и в самом деле свойственны эти качества. Как полагает Фр. Рико, «mesura» - разумность, уравновешенность, умеренность - не только является достоинством героя, но, оказываясь центральной категорией, характеризующей героя-воина, «неминуемо ведет к разрушению жанра» (имеется в виду эпос) [Rico 1993, XL], Умеренность и рассудительность действительно не очень свойственны традиционному герою-воителю. Более того, в случае с
Сидом наличие этого качества сказывается на остальных характеристиках и мотивах, свойственных персонажу такого типа: так, например, мотивы «жалобы героя», «похвальбы героя» максимально редуцированы, а такие, как, например, безрассудство героя, его вспыльчивость, и вовсе отсутствуют. На лексическом же уровне умеренность /разумность, главная по сути черта героя, не обретает форму устойчивого эпитета-характеристики (само слово в тексте применено к Сиду лишь однажды - «хорошо сказал Сид и так разумно» (fablo mio Cid bien у tan mesurado, 7). И это как раз понятно: слово «mesura» в средневековой культуре четко маркировано и имеет характер категории, правда, в системе рыцарско-куртуазных добродетелей, и войдет оно скорее в кодекс поведения идеального рыцаря - героя рыцарского романа, нежели героя эпического. В «Книге о рыцарском ордене» Раймундо Льюля, в четвертой ее части, где описывается поведение идеального рыцаря, «мудрости» как важнейшей добродетели рыцарства отдано важное место:
«Отсюда следует, что поскольку предназначение рыцарей заключается в том, чтобы преследовать и уничтожать злокозненных людей, и поскольку никто не подвергается стольким опасностям, как рыцари, можно ли себе представить что-то более необходимое рыцарю, чем мудрость? Умение рыцаря побеждать в турнирах и на полях сражений не столь тесно связано с рыцарским предназначением, как умение здраво мыслить, рассуждать и управлять своей волей, ибо благодаря уму и расчету было выиграно куда больше сражений, чем благодаря скоплению народа, амуниции или рыцарской отваге, («Книга о рыцарском ордене, ч. 4, и. 8», пер. В.Е. Багно; характерно, что в ностальгическом идеале Р. Льюля «мудрость» названа впереди «мужества» [см. Льюль 2016, 243]).
По-видимому, сложившуюся ситуацию можно объяснить не только тем, что средневековый литературный узус не позволяет сделать mesura формальной, те. словесно выраженной характеристикой эпического героя, хотя она вполне бы подошла той функции правителя, которую выполняет Сид во второй половине поэмы.
Таким образом, можно утверждать, что мудрость Сида проистекает прежде всего из плутовства и хитроумия, характерного для героя-трикстера, и все эпические роли и функции Сида Кампеадора, которые складываются в испанской эпической традиции до конца XIII в. (хитроумный воин; советчик; властитель), последовательно связывают мудрость Сида не с его разумными «экономическими» стратегиями и рассудительностью нрава, а с хитроумием при принятии решений.
Список литературы Мудрость Сида: рассудительность или хитроумие?
- Льюль Р. Книга о рыцарском ордене / пер. В.Е. Багно // Льюль Р. О любящем и возлюбленном. СПб., 2016. С. 71-132.
- Акимова М.В., Шапир М.И.. Борис Исаакович Ярхо и стратегия "точного литературоведения" // Ярхо Б.И. Методология точного литературоведения: избранные труды по теории литературы. М., 2006. С. vii-xxxii.
- Boura C.M. Heroic Poetry. London, 1952.
- Chronica Naierensis. Corpus Cristianorum. Continuatio Mediaevalis. LXXI A. Chronica Hispana Saeculi XII. Pars II / Juan A. Estévez Sola (ed.). Turnhout, 1995.
- La Estoria de España de Alfonso X. Estudio y edición de la Versión crítica desde Fruela II hasta la muerte de Fernando II / M. de la Campa Gutiérrez (ed.). Málaga, 2009.
- Cirot G. Une chronique léonaise inedited // Bulletin Hispanique. 1909. Vol. 11. P. 259-282.
- Cantar de mio Cid / A. Montaner (ed.). Barcelona, 1993.
- Deyermond A. El "Cantar de mio Cid" y la épica medieval española. Barcelona, 1987.
- Deyermond A.D., Chaplin M. Folk-Motifs in the Medieval Spanish Epic // Philological Quarterly. 1972. № 51. P. 36-53.
- Duggan J.J. The "Cantar de mio Cid": Poetic Creation in Its Economical and Social Contexts. Cambridge, 1989.
- López Estrada F. Panorama crítico sobre el Poema del Cid. Madrid, 1982.
- Gargano, А. L'universo sociale della Castiglia nella prima parte del Cantar de Mio Cid // Мedioevo romanzo. 1980. Vol. VII. Р. 201-246.
- Hart T.R. Characterization and plot structure in the Poema de Mio Cid // Mio Cid Studies. London, 1977. P. 63-72.
- Lacarra Ducay M.J. La cuentística medieval en España: los orígenes. Zaragoza, 1979.
- Menéndez Pidal R. Poesía juglaresca y orígenes de las literaturas romanicas. Madrid, 1957.
- Montaner Frutos A. El Cantar de Mio Cid // Cantar de Mio Cid / A. Montaner (ed.). Madrid; Barcelona, 2011. P. 256-560.
- Rico Fr. Un canto de frontera: "La gesta de mio Cid de Bivar" // Cantar de mio Cid / A. Montaner (ed.). Barcelona, 1993. P. xi-xliii.
- Salvador Miguel N. Reflexiones sobre el episodio de Rachel y Vidas en el Cantar de Mio Cid // Revista de Filologia Espanola. 1977. Vol. 59. № 1-4. P. 183-224.
- Schafler N. Sapientia et fortitudo en el Cantar de mio Cid // Hispania. 1977. Vol. 60. P. 44-50.
- Ubieto Arteta A. Historia de Aragón: Literatura medieval I. Zaragoza, 1981.