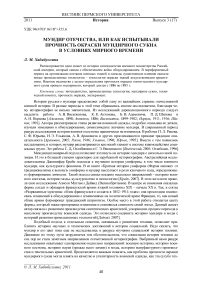Мундир отечества, или как испытывали прочность окраски мундирного сукна в условиях мирного времени
Автор: Хабибуллина Луиза Мансуровна
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Социальные аспекты военной истории
Статья в выпуске: 3 (17), 2011 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается один сюжет из истории интендантства военного министерства Российской империи, который связан с обеспечением войск обмундированием. В пореформенный период на организацию поставок военных тканей и одежды существенное влияние оказали новые промышленные технологии - технологии окраски тканей искусственными красителями. Военное ведомство с целью определения прочности окраски темно-зеленого мундирного сукна провело эксперимент, который длился с 1886 по 1895 г.
Интендантство, промышленные технологии, мундирное сукно, технический комитет, прочность окраски, эксперимент
Короткий адрес: https://sciup.org/147203866
IDR: 147203866 | УДК: 94(470)"16/18"+355.6
Текст научной статьи Мундир отечества, или как испытывали прочность окраски мундирного сукна в условиях мирного времени
История русского мундира представляет собой одну из важнейших страниц отечественной военной истории. В разные периоды к этой теме обращались многие исследователи, благодаря чему историография ее весьма значительна. Из исследований дореволюционного периода следует выделить работы А. В. Висковатова, К. К. Антонова, Б. В. Адамовича, П. Д. Шипова и А. Н. Норцова [ Адамович , 1898; Антонов , 1886; Висковатов , 1899–1902; Норцов , 1911, 1916; Шипов , 1901]. Авторы рассматривали этапы развития воинской одежды, подробно описывая ее детали, изучали изменения в обмундировании, символическое значение мундира. В современный период ракурс исследования истории военного костюма практически не изменился. В работах П. Л. Ракова, С. Ф. Юрьева, И. Э. Ульянова, А. В. Арановича и других прослеживаются прежние традиции опи-сательности [ Аранович , 2005; Раков , 1946; Ульянов , 1996; Юрьев , 1995]. Вместе с тем появились исследования, в которых мундир рассматривается как некий элемент в системе взаимодействия социальных групп. Это работы С. Д. Охлябинина и Г. Э. Введенского [ Введенский , 2005; Охлябинин , 1996].
Междисциплинарный подход позволяет взглянуть на историю мундира с несколько иной позиции. И это в большей степени характерно для зарубежной историографии. Австралийская исследовательница Дженнифер Крейк подошла к изучению истории униформы, в том числе военного мундира, как культурного феномена. В ее книге «Краткая история униформы (Форма напоказ: от традиционализма к вызову)» униформа и мундир выступают в роли ключевого кода, определяющего формирование личности. Такой подход связал воедино несколько направлений – историю военного костюма, историю моды, культурологию и психологию [ Крейк , 2007]. В этом же ключе провела свое исследование Алисон Маттьюз Дейвид (Великобритания). В центре ее внимания оказалась форма солдат и офицеров французской армии второй половины XIX – начала XX в. Так, в статье «Разряженные мужчины: облик французского солдата в 1852–1914 годах» она проследила взаимосвязь изменений в обмундировании с изменениями на политической арене Франции, то, как новый облик армии формировал гражданский патриотизм. Особое место в этой работе отводится цвету формы, который также претерпевал изменения и становился символом своей эпохи. Данный аспект автор связала с развитием производства синтетических красителей, ускоривших процесс перехода к массовому производству воинской одежды. Это позволило соединить историю мундира и моды с историей развития промышленных технологий [ Дейвид , 2007].
Подобный подход к отдельным сюжетам, связанным с развитием техники, позволяет приблизить историю научных и технических достижений к истории социальной. Надо сказать, что мундир и его цвет пока еще не исследовались в ракурсе изучения социальной истории техники. Движение по этому пути затрудняется тем обстоятельством, что социальная история техники до сих пор не стала заметным направлением отечественной историографии. Выбранный нами ракурс исследования охватывает одновременно несколько направлений: военную историю, историю военного костюма, историю науки (прежде всего химии) и моды, историю мануфактурного производства и текстильных красителей. Представляется важным показать, как проблема прочности окраски мундирного сукна могла влиять на качество и утилитарность воинской одежды, как эта сугубо тех-
ническая составляющая приобретала совершенно иной оттенок – социокультурный, когда речь заходила о внешней красоте мундира.
Российская империя была страной милитаризированной, и нужды военного ведомства всегда стояли на первом месте, что и неудивительно для страны, фактически постоянно с кем-то воевавшей. Причем армия должна была не только хорошо воевать, но и красиво выглядеть, что казалось бы взаимоисключающим. Ведь в условиях реальной войны трудно сохранить в порядке все элементы, может быть, и красивой, но неудобной формы, предназначенной скорее для парадов, чем для боевых действий.
Характерен, возможно, и апокрифичный рассказ о том, как император Александр I, принимая в декабре 1812 г. парад армии-победительницы в оборванных и облезлых шинелях с прострелянными и прожженными киверами, воскликнул: «Война испортила мою армию», на что М. И. Кутузов ответил: «Зато повоевали славно, Ваше Величество».
Российские императоры придавали большое значение именно внешней красоте мундира. Каждое новое царствование отмечалось каким-либо изменением в покрое и цвете воинской одежды, даже несмотря на то, что подобные перемены были весьма ощутимы для казны. П. А. Зайончковский пришел к выводу, что самодержцам армия представлялась как некая стройная и красивая масса, «лихо марширующая на Царицыном лугу (Марсово поле) в Петербурге» [ Зайонч-ковский , 1973, с. 31]. Военный министр Д. А. Милютин в своем дневнике указывал на чрезмерную увлеченность Александра II переменами в обмундировании: «…опять перемены в мундирах и опять новые комбинации цветов на погонах и воротниках, столь же нелогичных, как и прежде» [ Милютин , 1947, с. 146]. Синдром «украшательства» был присущ большинству российских самодержцев, а в XIX столетии особенно. Ведь то была эпоха парадов и смотров. Смотры войск были многофункциональны в своем практическом и символическом значении. В этих условиях необходимая красочность действия могла быть достигнута только за счет великолепия мундиров.
Цвет мундира российской армии второй половины XIX – начала XX в. определялся рядом разновеликих и разновекторных составляющих – традициями, данью военной и общей моде, техническими возможностями текстильной промышленности, потребностями управления войсками. Основой для передачи служебной информации с помощью цвета была одежда, мундир. Цвет выступал необходимым элементом мундира, посредством которого достигалась передача информации о войсковой принадлежности и прочих воинских отличиях.
В середине XIX в. военное дело претерпело ряд существенных изменений, имеющих прямое отношение к ситуации в области мундирного цвета. Во многом это было вызвано изменениями в вооружении. Как заметил К. К. Антонов, военная одежда и вооружение тесно связаны между собой и имеют свою интересную историю, которая шла рука об руку с историей цивилизации человечества. «Усовершенствование смертоносного оружия влекло за собой изменение в тактике и в одежде воина» [ Антонов , 1886, с. 1]. До второй половины XIX в. воевали в основном в вертикальном положении, контакт с землей был ограничен и солдату не было нужды передвигаться по-пластунски. Дальнобойные винтовки и разрывные снаряды во второй половине XIX столетия сначала прижали пехоту к земле, а потом заставили ее в эту землю буквально зарываться – в траншеи и блиндажи. В этих условиях требовалась одежда, удобная для физического труда, не стеснявшая движения в ограниченном пространстве, немаркая, нелиняющая, легко сохнущая. Таким образом, парадная сторона военного дела уступила свои позиции практичности. На эту ситуацию повлияло также и значительное увеличение численности армии. Актуальным стал вопрос об удешевлении обмундирования, а также о создании мобилизационных запасов. Это заставило пересмотреть многие представления о характере мундира.
Начало 80-х гг. XIX в. в России ознаменовалось новым царствованием и серьезными переменами в деятельности военного министерства. Александр III не любил военного дела, был равнодушен к смотрам и парадам, и «вопреки здравому смыслу он сократил средства, отпускаемые на армию» [ Зайончковский , 1973, с. 40]. Назначенный на должность военного министра П. С. Ванновский, отличавшийся от своего предшественника консервативными взглядами, взялся за реализацию новой программы. Было проведено преобразование в обмундировании войск в результате упразднения декоративных элементов мундиров и изменений в их покрое. Так появились на свет мундиры нового образца, получившие в солдатской среде название «кондукторских».
Однако упрощение воинской одежды отнюдь не означало полного отказа от эстетики. Она должна была оставаться красивой, но при этом быть практичной и дешевой. В любом случае на качество и красоту военной одежды было обращено особое внимание, и, как казалось бы сейчас, второстепенные вещи решались на самом высоком уровне.
Все мужские представители дома Романовых с детства носили военную форму. Конечно, она отличалась от формы простых солдат и шилась на заказ, но и мундир рядового солдата должен был быть красив и качественен и не должен был облезть после первого похода. Поэтому вопросы, как и чем красить ткань мундира, решались если уж не на уровне императора, то на уровне военного министра точно, и, как показывают документы, так было даже в конце XIX в., когда военная форма упростилась и стала более удобной и практичной.
Для изготовления воинской одежды требовались ткани особого качества, не имеющие ничего общего с рыночным текстильным товаром. Разумеется, и сырье для изготовления таких тканей тоже требовалось соответствующее. Все это отражалось на качестве одежды и ее боеспособности. Не последнее место среди критериев качества отводилось прочности окраски тканей.
Во второй половине XIX в. текстильные фабрики России в производстве цветных тканей перешли на новые искусственные красители. В этот период и в начале XX в. совершенствовались источники сырья для получения синтетических красок и их производства. Анилинокрасочная промышленность (во второй половине XIX – начале XX в. так именовали отрасль химической промышленности, которая занималась производством искусственных красителей) ориентировалась на текстильную отрасль, предлагая всевозможные красители. Несмотря на это, ткани для войск на фабриках продолжали окрашивать растительными красителями. Так, сукно приоритетного для российской армии темно-зеленого цвета и в начале 80-х гг. XIX в. окрашивали сандалом (желтым и синим) и индиго.
Интендантство проводило прием тканей и предметов обмундирования от поставщиков в соответствии с существовавшими требованиями. В отношении сукна темно-зеленого цвета были разработаны образцы и описания, которые проходили процедуру утверждения императором. В описаниях наряду с другими условиями утверждалась и окраска сукна. Фабриканты-поставщики должны были неукоснительно следовать всем требованиям, какие-либо инициативы в этом случае не допускались. Поэтому переход на новый способ окраски военных тканей был несколько затруднителен.
Выписки из журналов заседаний технического комитета Главного интендантского управления (данные выписки входят в состав дела № 77 «Об исследовании сукон», хранящегося в ф. 499 – Главное интендантское управление, оп. 13 – технический комитет Главного интендантского управления Российского государственного военно-исторического архива) позволяют рассмотреть детали одного эксперимента, проходившего с 1886 по 1895 г., связанного с испытанием прочности окраски темно-зеленого сукна новым красителем. Проводился он по инициативе военного министра, а все мероприятия легли на плечи технического комитета. В обязанности этого подразделения входило изучение способов окраски военных тканей, проведение испытаний предметов обмундирования, отслеживание качества окрашенных тканей и пр.
Проблема качества окраски мундирного сукна в темно-зеленый цвет оказалась в центре внимания интендантства не только из-за изменившихся условий производства текстильной продукции. В 1882 г. в Москве проходила Всероссийская промышленно-художественная выставка. Военный отдел выставки посетил министр, генерал Ванновский, который не преминул заметить, что «запод-ряжаемое» интендантством на довольствие войск темно-зеленое неворсованное сукно не удовлетворительно по окраске, что оно линяет1. Действительно, окрашенное сандалом сукно не сохраняло цвет при носке, так как подвергалось воздействию множества внешних факторов. Такое сукно «после некоторого времени от действия света, влаги, воздуха и пота принимает рыжеватый оттенок, вследствие чего мундиры солдатские являются на вид грязными и неряшливыми»2. Тогда же выяснилось, что на выставке имеются образцы сукна новой окраски, произведенного на фабрике Ивана Машковского, стоимостью 2 руб. 50 коп. за аршин, что на 25–30 коп. было выше обычной запод-рядной стоимости сукна. Новая окраска получалась другим способом окрашивания – кубовым. В этом случае также использовался растительный краситель, только не сандал, а индиго. Образец сукна был доставлен военному министру управляющим делами технического комитета (в 80-е гг. XIX в. эту должность занимал Леонид Аполлонович Верховцов), который подчеркнул, что «вопрос о прочности окраски темно-зеленого неворсованного сукна действительно вопрос серьезный и за- служивает полного внимания»3.
Распоряжением министра было положено начало работе по исследованию способов окраски темно-зеленого неворсованного сукна. В ходе работы интендантству и, в частности, техническому комитету приходилось полагаться на собственные силы, а также привлекать специалистов по технологии окраски тканей и фабрикантов-поставщиков. Для более подробного изучения данного вопроса комитет в 1882 г. принял решение приступить к исследованию окраски сукна, применяемой в иностранных армиях.
В интендантстве заинтересовались способом окраски сукна индиго. Более того, ведомство инициировало проведение опытов с целью определения прочности такой окраски. Опытной площадкой выступили две фабрики-поставщики: Товарищество Купавинской суконной мануфактуры братьев Бабкиных и Клинцовская фабрика Ивана Машковского. Предполагалось не только подробно исследовать прочность окраски, но и заготовить определенное количество сукна для практического испытания в войсках. Фабрикантам помимо изготовления образцов требовалось заявить свои крайние цены, так как заказ на изготовление был возможен лишь в том случае, если цены на сукно окажутся не слишком высокими. Очевидно, что финансовая составляющая волновала чиновников не меньше, чем проблема качества ткани. Глава военного министерства считал, что разрешение проблемы недостаточной прочности темно-зеленой окраски сукна «зависит не от невозможности изготовления сукна более прочной окраски, а от цен на оное»4.
Таким образом, интендантство должно было одновременно решить две задачи: определить наиболее подходящий способ окрашивания и удержать расходы в допустимых пределах. Решением первой задачи занялся технический комитет.
Образцы темно-зеленого сукна, представленные фабрикантами, были исследованы в лаборатории комитета 25 января 1883 г. В «Ведомости технического исследования сукон, поставленных Клинцовским фабрикантом Ив. Машковским 14 января 1883 г.» записано, что в ткани обнаружены искусственные примеси – так называемый кноп (кноп – измельченные остатки искусственного сукна. Кнопирование сукна применялось на фабриках для придания эффекта прочности, а также для маскировки так называемых просветов; сукно приобретало гладкую поверхность и с виду имело равномерную окраску. При носке частицы кнопа отслаивались от ткани и придавали изделию испорченный вид, проверить качество такого сукна можно было только в лабораторных условиях. – Л. Х. ), в результате чего сукно было возвращено фабриканту, и он выбыл из состава участников эксперимента. В ведомости исследования сукна фабрики братьев Бабкиных засвидетельствовано однообразное прокрашивание. Однако сукно оказалось на 25–30 копеек дороже цены за сукно, окрашенное сандалом в полотне, и на 40 копеек дороже при окраске в шерсти.
В рассматриваемый период средняя годовая потребность в темно-зеленом неворсованном сукне составляла 2 млн. аршин, а средняя цена на такое сукно была 1 р. 60 коп. за аршин. Увеличение же стоимости сукна на 20 и 40 коп. повышало годовые расходы интендантства на 400–500 тыс. руб. Поэтому вопрос о применении данной окраски сразу же утратил свою актуальность. До испытания сукна в войсках дело так и не дошло.
Технический комитет обратился к исследованию способов окраски искусственными красителями. Ответственным за проведение этой работы был назначен техник канцелярии комитета Рафаил Михайлович Сендзюк. В начале 1886 г. в лаборатории комитета им было проведено исследование способа окраски сукна новым пигментом под названием церулеин (появился на рынке красителей примерно в середине 80-х гг. XIX в.), который окрашивал ткань в темно-зеленый цвет и близкие к нему оттенки. Исследование показало, что окраска сукна «получается весьма прочная, причем изменение цвета от различных окислителей, а равно и при испытании такого сукна действием на него света в течение месяцев (с 1 февраля по 1 декабря 1886 г.), производит весьма незначительное и не в коричневый или рыжеватый оттенок, а в зеленый же, но только несколько светлее первоначального цвета, т.е. сукно это при носке будет зеленеть»5. Итак, датой начала эксперимента по исследованию прочной окраски сукна новым красителем можно считать 1886 г.
Р. М. Сендзюк провел сравнительный анализ церулеиновой и сандаловой окраски. В конечном счете церулеиновая окраска успешно прошла все испытания, цвет ткани практически не подвергся изменению. Помимо этого к преимуществам нового способа прибавлялась простота самого процесса окрашивания. Тут же возник вопрос о прочности цвета в процессе носки – не будет ли ткань выцветать? В отношении другого вопроса – финансового – комитет исходил из расчета, что стоимость окраски церулеином не должна превышать стоимость сандаловой окраски, которая равнялась 1 руб. 90 коп. На начальной стадии эксперимента вопрос о стоимости окраски оставался открытым.
На первый взгляд способ новой прочной темно-зеленой окраски неворсованного сукна найден. Но на данном этапе это было только предположение, основанное на результате лабораторного исследования. Требовалось определить качество окраски на практике, в войсках. Комитет вынес заключение: «окраску эту следует признать заслуживающей полного внимания и дальнейшего исследования»6. Фабрикантам братьям Бабкиным было предложено изготовить половинки сукна, окрашенного в полотне, и определить «удачно ли достигается окраска сукна в темно-зеленый цвет посредством церулеина, какие приемы для сего употребляются, что стоит в продаже пуд этого пигмента и что будет стоить 1 аршин окрашенного таким способом темно-зеленого неворсованного сукна»7. С этого момента эксперимент начинает набирать обороты.
Для наблюдения за ходом эксперимента технический комитет направил на фабрику Р. М. Сендзюка. В рапорте от 8 января 1887 г. он сообщает, что крашение церулеином затруднений не представляет. «В результате окраски получился цвет, близко подходящий к цвету офицерского мундирного темно-зеленого сукна (так называемого «штиглицовского цвета» – мундирного темнозеленого сукна фабрики Штиглица). Церулеин оказался удобным для получения разнообразных оттенков зеленого цвета, а церулеиновая окраска, как дополняет техник, «судя по отзывам технических журналов и произведенным мной испытаниям значительно прочна цвета практикующейся окраски темно-зеленого неворсованного сукна»8. Проанализировав результаты испытаний, Сен-дзюк приходит к такому выводу: «в носке церулеиновый темно-зеленый цвет будет хорошо противостоять выцветанию и если будет изменяться, то в направлении первоначального цвета, т.е. делаться несколько светлее»9.
О точной стоимости окраски в рапорте не говорится. Как выяснилось, определить это оказалось сложно, так как в красильной ванне красили то по одному, то по три куска сукна, главным образом для получения одинаковых оттенков. Церулеин был приобретен братьями Бабкиными в Москве «из двух контор, торгующих красильными пигментами. Разница в цене была в 20 руб. на пуд»10. «Во всяком случае, при цене меньшей из двух (4 р. 50 к. за фунт) церулеиновая окраска сукна в настоящее время является слишком дорогой. Следует однако ожидать, что цена эта значительно уменьшится, т.к. пигмент этот еще новый, а при значительном требовании производство его может развиться далее в России и дать продукт по цене значительно меньшей», – резюмирует Сен-дзюк11. Главное внимание, по его мнению, необходимо сосредоточить на определении прочности окраски при носке сукна.
На заседании комитета в начале февраля 1887 г. состоялось обсуждение церулеинового вопроса. Как оказалось, в то же самое время «сукно церулеиновой окраски применено в Вюртенберг-ской армии, а также производятся опыты применения этого сукна в Прусской армии»12. В некоторой степени прояснилась ситуация в отношении стоимости окраски. При заготовлении сукна в большом количестве цена красителя могла снизиться до 2 руб. за фунт. Но, судя по резолюции заседания комитета, эта цена все равно не вписывалась в финансовый регламент интендантства и в конечном счете была признана дорогой для казны. Чтобы выяснить, насколько сукно способно противостоять выцветанию при носке, было принято решение провести опыт заготовления определенного количества ткани и затем испытать ее в одной из частей войск Петербургского гарнизона.
Интендантство предложило братьям Бабкиным изготовить 2 тыс. аршин сукна, особо указав на то, что цвет его должен соответствовать утвержденному образцу. Но когда в Московской приемной комиссии принимали готовую партию сукна, обнаружилось, что оно плохо прокрашено. Это подтвердила и экспертиза, проведенная техническим комитетом. Было вынесено заключение о недопущении ткани к приему. Правление Товарищества братьев Бабкиных в лице директора Тихомирова со своей стороны сообщило, что «сукно церулеиновой окраски, предъявленное ныне к сдаче Товариществом, сделать лучше оно не находит возможным»13.
И все же вопрос решился положительно. По всей видимости, интендантство стремилось довести начатый эксперимент до завершения и отчитаться перед руководством в самые ближайшие сроки. Было проведено повторное исследование сукна, которое показало, что «..по снятии с него ворса до обнаружения нитей, обложенное место хотя и изменяет оттенок цвета, но остается темно-зеленым»14.
Принимая во внимание тот факт, что это была первая партия сукна, окрашенного церулеином, а также учитывая реальные возможности фабрики, члены технического комитета приняли решение допустить сукно к приему.
Для испытания темно-зеленого сукна церулеиновой окраски начальником штаба Петербургского военного округа были определены следующие воинские подразделения: лейб-гвардии Преображенский, Измайловский и Павловский полки, а также кадровый батальон лейб-гвардии Резервного пехотного полка. Каждый полк должен был изготовить по 100 мундиров и шаровар и затем испытать их в носке. В общей сложности на шитье мундиров и шаровар для четырех полков понадобилось 450 аршин 15 вершков. Петербургский окружной интендант 2 января 1888 г. уведомил технический комитет о прибытии ткани к месту назначения.
Руководство полков должно было проинформировать комитет о начале подготовки к эксперименту. Кадровый батальон лейб-гвардии Резервного пехотного полка сообщил, что к раскрою сукна приступят в мае 1888 г. В лейб-гвардии Измайловском полку эту процедуру назначили на сентябрь 1888 г. А лейб-гвардии Преображенский и Павловский полки определили датой постройки мундиров и шаровар октябрь 1888 г.
Из каждого полка в комитет были отправлены списки нижних чинов, которым в качестве эксперимента было выдано обмундирование по сроку 1889 г. В соответствии с установленными правилами мундиры полагалось носить в течение двух сроков, т.е. 2 года, в то время как шароварам отпускался только один срок, т.е. 1 год.
Лейб-гвардии Павловский полк приступил к носке шаровар и мундиров в первый срок в январе 1889 г., лейб-гвардии Преображенский и Измайловский полки – в апреле этого же года. Интересная ситуация сложилась в лейб-гвардии Измайловском полку. По решению полкового начальства опытная одежда должна была использоваться только по особым случаям, что в разы увеличивало сроки проведения эксперимента в этом подразделении. Командир полка пишет: «Мундиры, полагающиеся на два года, будут состоять в 1-м сроке 1889 и 1890 года и потребуются в носку только на Высочайшие смотры до 5 раз в год, во 2-м сроке 1891 и 1892 года с употреблением в носку на смотры и учения до 15 раз в год и в 3-м сроке 1893 и 1894 года с постоянной ноской на все службы. Следовательно, результат прочности в носке этих мундиров может быть окончательно определен только по истечении 1894 года. Сообразно изложенного порядка, шаровары, отпускаемые на 1 год, будут состоять в 1-м сроке 1889 год, во 2-м сроке 1890 год и в 3-м сроке 1891 год, а по прошествии последнего может быть определена прочность»15.
Л. А. Верховцов в письме от 5 февраля 1890 г. поручил Р. М. Сендзюку осмотреть мундиры и шаровары в полках, а также «собрать сведения сколько времени (или сколько раз) они были в носке и сравнить их в отношении сохранения цвета с мундирами и шароварами, построенными из темнозеленого неворсованного сукна обыкновенной окраски, и затем осмотр этот производить периодически по мере надобности»16.
В рапорте от 14 февраля 1890 г. Р. М. Сендзюк информирует свое руководство о том, что построенные из сукна церулеиновой окраски мундиры и шаровары будут выданы нижним чинам в постоянную носку не ранее двух лет. «В настоящее время вещи эти находятся в цейхгаузах и будут выдаваемы в продолжение ближайших двух лет весьма ограниченное число раз, только на смотры. Результат носки сукна церулеиновой окраски, поэтому может получиться не ранее трех лет», – заключает Сендзюк17.
Пока длился данный эксперимент, технический комитет проводил работу по исследованию других способов окраски сукна искусственными красителями. Одним из главных критериев выбора приоритетного способа окраски была дешевизна.
20 мая 1894 г. глава комитета потребовал от Р. М. Сендзюка выяснить, как проходит испытание обмундирования в полках. В рапорте от 21 мая 1894 г. он пишет, что со времени изготовления и выдачи полкам сукна церулеиновой окраски техника производства красильных пигментов так быстро и так сильно ушла вперед, что «церулеиновая окраска, бывшая в свое время одной из более желательных по прочности, в настоящее время для темно-зеленого сукна потеряла интерес»18.
Очевидно, что для интендантства затянувшийся на несколько лет эксперимент был уже не так важен, как на первоначальном этапе. Способ окраски церулеином оказался непригодным для казенного мундирного сукна. Наиболее весомыми аргументами не в пользу этого способа являлись дороговизна и сугубо техническая невозможность полного прокрашивания сукна в полотне.
Р. М. Сендзюк, основываясь на результатах исследования качества окраски сукна другими красителями, пришел к выводу, что церулеиновая окраска «изменяется в носке более». Определить результаты эксперимента в полках удалось не сразу, так как войска в тот момент находились в лагере. Итоговый отчет предполагалось составить осенью, по возвращении полков.
О том, как прошло испытание мундиров и шаровар в войсках, комитет проинформировали командиры полков. В течение октября-ноября 1894 г. в ведомство направлялись рапорты и разного рода уведомления. Неординарная ситуация сложилась в кадровом батальоне лейб-гвардии Резервного пехотного полка. Командир полка в письме от 4 октября 1894 г. сообщает о проведенном испытании мундиров и шаровар и подчеркивает, что «отличить их по наружному виду не представляется возможности, что и мешает выделить их из общей массы. За неизвестностью какими знаками эти мундиры с шароварами отличались от других, я не могу доставить заключения просимое коми-тетом»19. На указание комитета о наличии на испытуемых предметах особого клейма «опыт» командир полка ответил: «Несмотря на все предпринятые мною меры к выделению из общей массы мундиров с шароварами темно-зеленого неворсованного сукна церулеиновой окраски с клеймом «опыт», меры эти остались безуспешны»20.
Командир лейб-гвардии Преображенского полка в письме от 6 октября 1894 г. представил следующие данные: «Сукно церулеиновой окраски оказалось прочнее и не линяет, почему и одежда из этого сукна несравненно чище, чем из казенного сукна обыкновенной окраски»21. Руководство лейб-гвардии Измайловского полка письмом от 17 октября 1894 г. доводило до сведения комитета, что «обмундирование отличалось от обыкновенного особенной жесткостью и зеленым цветом, через что обмундирование не особенно старое кажется уже сильно поношенным, хотя прочность материала от этой окраски не уменьшается»22. В свою очередь в письме командира лейб-гвардии Павловского полка от 20 октября 1894 г. говорится: «Мундиры эти, хотя и испытывались в течение 6 лет, но вследствие выдающегося цвета, как в 1-м, так и во 2-м сроке в носку употреблялись относительно менее других. В 3-м же сроке они употреблялись в носку наравне с прочими мундирами и в течение 2 лет настолько заносились, что вид их значительно уступает мундирам того же срока, построенным из обыкновенного темно-зеленого неворсованного сукна, из чего можно заключить, что церулеиновая окраска не имеет достаточной прочности»23.
В общем заключении, составленном Р. М. Сендзюком, указывается, что различные отзывы об окраске связаны с тем, что «во время изготовления сукна еще не был известен способ получения полного прокраса толстых сукон»24. Упомянул он и тот факт, что изначально «изготовленное на фабрике бр. Бабкиных сукно церулеиновой окраски не все было одинакового цвета»25. Вместе с тем техник отметил весьма важный показатель прочности церулеиновой окраски. В частности, он пишет, что цвет сукна не изменился от действия пота подмышками, «что обыкновенно бывает с мундирами хромпиковой окраски»26.
В выписке из журнала технического комитета № 53 от 5 июня 1895 г. представлены данные об итогах эксперимента. Комитет пришел к выводу, что «произведенный опыт носки обмундирования не дал определенных результатов относительно сравнительной прочности такой окраски против окраски обыкновенной (хромпиково-сандальной)»27. Были высказаны мнения по поводу использования новых, более стойких, красителей, которые в этот период имелись на рынке. В отношении мундиров и шаровар церулеиновой окраски, прошедших испытание в войсках, комитет распорядился оставить их в воинских частях по принадлежности. Тем самым эксперимент, начавшийся в 1886 г., был завершен.
Можно предположить, что в интендантстве заранее подвели итог данному эксперименту. Не дожидаясь результатов испытаний в войсках, технический комитет отдает приоритет в прочности окраски не церулеину, а другим красителям. Изменение внимания к эксперименту объясняется тем, что интендантство не приостановило исследование других способов окраски сукна в темнозеленый цвет. Так, 8 апреля 1894 г. в военное министерство поступило предложение от фабрики красок «Мейстер, Люциус и Брюнинг» (филиал германской фирмы в Москве) рассмотреть образец темно-зеленого сукна, окрашенного новым способом, с использованием прочных красителей. Одним из них в тот период считался хромотроп по цене 1 руб. 10 коп. за фунт. Иными словами, военное ведомство могло рассчитывать на более выгодные условия промышленников и экономию казенных средств. В определенном смысле этот факт свидетельствовал не в пользу решения проблемы качества окраски. Пока интендантство было озабочено поиском дешевых способов окраски, армия продолжала носить обмундирование из темно-зеленого сукна сандаловой окраски.
Почему интендантство обратило внимание на качество окраски темно-зеленого сукна именно в этот период, ответить сложно. В условиях перехода текстильных фабрик на новые виды красителей военному ведомству было непросто ориентироваться в многообразии их наименований и определять подходящие по качеству для окраски военной одежды. Мы склоняемся к мнению, что под влиянием изменений в технологии окраски и текстильном производстве военное ведомство вынуждено было признать несовершенство заготавливаемого темно-зеленого сукна и начать пересмотр этапов заготовления тканей. Промышленные технологии со второй половины XIX в. поставили интендантство перед фактом необходимости учета реалий эпохи и перехода на новый уровень взаимодействия с промышленными кругами. Хотя, как следует из слов П. С. Ванновского, ведомство все еще пыталось контролировать промышленников, устанавливая «свои» цены на продукцию и тем самым сдерживая процесс перехода к использованию новых технологий окраски.
Эксперимент по испытанию прочности окраски темно-зеленого неворсованного сукна церу-леином нельзя считать неудавшимся и безрезультатным. Сообщения командиров полков относительно качества окраски в процессе носки мундиров и шаровар подтвердили результаты лабораторных исследований: данная окраска превосходила по прочности окраску сандалом. Очевидным становилось и то, что искусственные красители придавали одежде гораздо лучший внешний вид, обеспечивая при этом стойкость цвета. Вместе с тем видно, что на судьбу эксперимента в большей степени повлиял ценовой критерий, чем технический.
Конечно, военная реформа Д. А. Милютина изменила все бытие армии: менялись главные принципы ее комплектования, изменилась и форма, которая для гвардейских офицеров, особенно тех, кто не принимал участия в военных действиях, казалась слишком «мужицкой». Но одна из главных целей реформ сохранилась: русская армия в своих мундирах традиционного зеленого цвета должна была выглядеть эффектно даже тогда, когда на первое место становилась их практичность.
Список литературы Мундир отечества, или как испытывали прочность окраски мундирного сукна в условиях мирного времени
- Адамович П. Д. О формах одежды. Варшава, 1898.
- Антонов К. К. Метаморфоза военной одежды. СПб., 1886.
- Аранович А. В. Русский военный костюм 1907-1917. СПб., 2005.
- Введенский Г. Э. Пять веков русского военного мундира. СПб., 2005.
- Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. СПб., 1899-1902.
- Дейвид А. М. Разряженные мужчины: облик французского солдата в 1852-1914 годах//Теория моды: одежда, тело, культура. 2007. № 5.
- Зайончковский П. А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX-XX столетий. М., 1973.
- Крейк Д. Краткая история униформы (Форма напоказ: от традиционализма к вызову)/пер. с англ. И. Красильщикова. М., 2007.
- Милютин Д. А. Дневник. 1873-1875. М., 1947.
- Норцов А. Н. Значение военного мундира как символа и некоторые тамбовские военные факты. Тамбов, 1911.
- Норцов А. Н. Эволюция мундира и знамени русских войск в XVIII-XIX столетиях. Тамбов, 1916.
- Охлябинин С. Д. Из истории российского мундира. М., 1996.
- Раков П. Л. Русская военная форма. Л., 1946.
- Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 499. Оп. 13. Д. 77.
- Ульянов И. Э. Регулярная пехота 1801-1855. М., 1996.
- Шипов П. Д. Русская военная одежда. СПб., 1901.
- Юрьев С. Ф. С чем в бой ходили и что на себе носили (словарь-справочник). М., 1995.