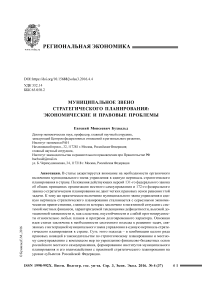Муниципальное звено стратегического планирования: экономические и правовые проблемы
Автор: Бухвальд Евгений Моисеевич
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu
Рубрика: Региональная экономика
Статья в выпуске: 4 (37), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье акцентируется внимание на необходимости органичного включения муниципального звена управления в единую вертикаль стратегического планирования в стране. Положения действующих версий 131-го федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления и 172-го федерального закона о стратегическом планировании не дают четких правовых основ решения этой задачи. К тому же практическое включение муниципального звена управления в единую вертикаль стратегического планирования сталкивается с серьезными экономическими препятствиями, главное из которых заключено в негативной ситуации с системой местных финансов, характеризуемой тенденциями дефицитности, высокой дотационной зависимости и, как следствие, неустойчивости и слабой прогнозируемости относительно любых планов и программ долговременного характера. Основная идея статьи заключена в необходимости системного подхода к решению задач, связанных с интеграцией муниципального звена управления в единую вертикаль стратегического планирования в стране. Суть этого подхода - в комбинации целого ряда правовых новаций в законодательстве по стратегическому планированию и местному самоуправлению с комплексом мер по укреплению финансово-бюджетных основ российского местного самоуправления, формированию институтов муниципального планирования и его взаимодействия с практикой стратегического планирования на уровне субъектов Российской Федерации.
Стратегическое планирование, местное самоуправление, законодательное обеспечение, муниципальные программы, местные финансы, межбюджетные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/14971196
IDR: 14971196 | УДК: 332.14 | DOI: 10.15688/jvolsu3.2016.4.4
Текст научной статьи Муниципальное звено стратегического планирования: экономические и правовые проблемы
DOI:
Единая вертикаль как основа эффективности стратегического планирования
В наших предшествующих публикациях [2] мы уже отмечали, что эффективное функционирование системы стратегического планирования возможно только при условии ее функционирования в виде единой вертикали властно-управленческих взаимодействий на единой правовой и методологической основе и при согласовании планов долговременных действия публичной власти и частного бизнеса на основе практики государственно-частного (ГЧП) и муниципально-частного (МЧП) партнерства. Сказанное в полной мере касается и становления основ стратегического планирования в системе местного самоуправления, где подобная практика в наибольшей мере соприкасается с самыми насущными нуждами населения и социально-экономического развития территорий в целом. В данной статье нам хотелось бы остановиться на том, какие нерешенные проблемы являются сегодня препятствием на пути к реальному утверждению практики стратегического планирования в системе российского местного самоуправления.
На данный момент весь ход разработки документов, реализующих федеральный закон о стратегическом планировании [10], показал, что решение этой задачи значительно сложнее, чем это предполагалось изначально. Это вынудило законодателя принять поправки в 172-й ФЗ [9] относительно переноса сроков подготовки базовых документов стратегического планирования на два года. В этой связи сформировались две позиции, которые, по нашему мнению, не только не корректны, но и не продуктивны с точки зрения реализации перехода к системе стратегического планирования в стране на всех уровнях управления.
Первая точка зрения, в частности, просматривается в пояснительной записке к упомянутому 210-му ФЗ [5]. Она состоит в том, что главной, если не единственной, причиной переноса срока подготовки ключевых документов стратегического планирования (как отраслевого, так и пространственного характера) является сложная экономическая ситуация в стране, серьезные проблемы всех уровней ее бюджетной системы. Это ситуация, когда реальная прогнозируемость и, скажем так, долговременная планируемость хозяйственных и социальных процессов на федеральном и субфедеральном уровнях пока недостаточно развиты. Вторая точка зрения, которую нам также хотелось бы оспорить, состоит в том, что все проблемы практического запуска стратегического планирования на субфедеральном уровне, особенно в муниципальном звене управления, связаны в основном с частичными недоработками в 172-м ФЗ, после устранения которых все эти проблемы и препятствия автоматически исчезнут.
Обе позиции имеют под собой определенные основания. Действительно, общеэкономическая и финансово-бюджетная ситуация в стране и ее регионах в настоящее время содержит в себе элемент непредсказуемости и, в силу этого, мало располагает к принятию любого рода долговременных планов и программ. Вопрос о возможности выхода на положительные значения экономической динамики в стране в 2016 г. все еще остается открытым. По различным прогнозам, в 2017 г. прирост ВВП в России может составить от 0,9 % до 1,7 % и, возможно, уже более 2 % в 2018 году. Однако главная проблема не в конкретных цифрах этих прогнозов (на таком уровне они все равно во многом подвержены статистической погрешности). Наиболее значимо то, что ключевые параметры этих и иных прогнозов в основном привязаны к двум факторам: изменению цен на нефть и перспективам снятия с России экономических санкций. Поскольку и то, и другое находится за пределами нашего прямого влияния, всякий прогноз, а вместе с ним и любые планы на более-менее долговременную перспективу во многом остаются «гаданием на кофейной гуще».
Не умаляют, а добавляют проблем и очевидные пробелы 172-го ФЗ, в частности, его несбалансированность по вертикали. Как мы уже отмечали в предшествующей публикации, первоначальные версии 172-го ФЗ на стадии законопроекта в основном регулировали практику стратегического планирования в федеральном звене управления. В окончательном варианте закона в нем уже была более полно представлена идея вертикали такого планирования, включая и роль субфедерального (то есть регионального и муниципального) звена управления. Именно по этой причине из названия законопроекта было изъято первоначально имевшееся в нем определение «государственное стратегическое планирование», поскольку муниципальное звено управления, которое ныне по закону также является полноправным участником такого планирования, к органам государственной власти, согласно Конституции РФ, не относится [3].
Однако при этом обозначились две новые проблемы. Одна из них, более формального характера, заключена в том, что после названной выше корректировки наименование закона перестало соответствовать его содержанию. Согласно наименованию закона он должен описывать и регулировать практику стратегического планирования в экономике страны в целом. Однако все, что представлено в тексте закона, относится только к публичным субъектам стратегического планирования (органам государственной власти и местного самоуправления). Между тем в современной экономике не менее значимыми субъектами такого планирования выступают и частные хозяйствующие субъекты, прежде всего, крупные корпорации. Даже если просто обратиться к кругу проводимых научных исследований – как в отечественной, так и в зарубежной науке – мы увидим, что проблема стратегического планирования на уровне крупных корпораций, отдельных фирм и т. д. представлена в них куда более обширно и детально, чем вопросы стратегического планирования в системе публичного управления.
Перспективы хозяйственной и инвестиционной деятельности этой группы субъектов стратегического планирования оказывают существенное влияние на дальнейшее развитие целых регионов. А на муниципальном уров- не аналогичную значимость могут иметь также перспективы деятельности отделений, филиалов и иных территориально обособленных подразделений крупных производственных структур. Без определенного согласования двух начал или источников стратегического планирования крайне сложно сформировать достоверное видение социально-экономического развития территории. Этот посыл принципиально важен для практики стратегического планирования в моногородах, в муниципальных образованиях, где действуют различные федеральные и региональные институты развития и др. Таким образом, эффективное стратегическое планирование на всех уровнях управления – от федерального до местного – возможно лишь при условии того, что оно учитывает и включает в себя стратегические планы, если не всех хозяйствующих субъектов, то хотя бы тех, которые играют наиболее существенную роль в социально-экономическом развитии данных территорий.
Вторая проблема в том, что, формально распространив регулятивное «поле» 172-го ФЗ на всю вертикаль стратегического планирования, законодатель не смог обеспечить ее достаточную сбалансированность. Наибольшая детализация норм закона так и осталась за федеральным уровнем управления. Стра-тегирование в региональном звене управления представлено в законе с определенными пробелами [4], а обращение к уровню муниципального управления, скорее всего, на данный момент имеет просто ритуальный и «опционный» характер. По сути, закон в этом смысле как бы представляет собой пирамиду, повернутую вверх основанием. Исправить ситуацию можно, но не только путем более детальной проработки в законе процедур и системы документов на различных уровнях муниципального управления, но и за счет отражения в документе принципиальной специфики самого процесса стратегического планирования на этом уровне.
Приведенная ниже таблица 1 характеризует современное состояние местного самоуправления в Российской Федерации в разрезе различных типов муниципальных образований.
Между тем стратегическое планирование как функция публичной власти началось в
Таблица 1
Число муниципальных образований в Российской Федерации на 1 января 2016 г. (ед.)
|
Муниципальные образования по типам |
Всего |
|||||||
|
Муниципальные районы |
Городские округа |
Внутригородские районы |
Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) в городах федерального значения |
Поселения |
||||
|
С внутригородским делением |
Всего |
|||||||
|
Городские |
Сельские |
Всего |
||||||
|
1 788 |
3 |
563 |
19 |
267 |
1 592 |
18 177 |
19 769 |
22 406 |
Источник. Данные Росстата. URL: publications/catalog/doc_1244553308453.
стране в 1990-е гг. именно с муниципального звена управления. И до принятия соответствующего федерального закона подобная практика широко охватила крупнейшие города России, а также муниципальные районы [11]. Однако практика показала, что эффективно работающих стратегических документов оказалось мало. Какие проблемы характеризовали эти пилотные документы по территориальному стратегическому планированию?
Во-первых, правовой статус стратегий не был четко определен, в результате чего стратегии не являлись документами, обязательными к исполнению. Они так и оставались разработками информационно-аналитического и – в отдельных случаях – прогнозного характера. Стратегии могли лишь служить основой для разработки муниципальных программ, позволяющих ставить и достигать долгосрочные приоритеты социально-экономического развития территорий.
Во-вторых, стратегии муниципалитетов даже в пределах одного субъекта Федерации методически разнились и практически не соотносились по глубине планирования, по кругу объектов планирования и используемых показателей и др. Это сужало возможности использования стратегического планирования как инструмента межмуниципального сотрудничества, проектного управления и финансирования. Кроме того, подобная ситуация не позволяла обеспечить полную согласованность муниципальных стратегий с программно-концептуальными документами по социально-экономическому развитию субъекта Федерации в целом.
В нынешних условиях стратегическому планированию в системе местного самоуправления необходимо выйти на качественно но- вый уровень, прежде всего, с точки зрения четкого правового позиционирования подобных планов в системе руководящих документов муниципального управления. Это также уровень устойчивой ресурсной и институциональной обеспеченности, согласованности со всей совокупностью документов стратегического планирования, так или иначе затрагивающих развитие данного муниципального образования. Можно сказать, что в настоящее время полномасштабное утверждение практики стратегирования в муниципальном звене является необходимым слагаемым объективного процесса децентрализации управления наряду с децентрализацией полномочий и обеспечивающих реализацию этих полномочий экономических ресурсов.
На словах муниципальный уровень управления представлен в новом законе как равноправный участник системы стратегического планирования. Так, в материалах 172-го ФЗ мы находим указание на такие важные документы, как:
– стратегия социально-экономического развития муниципального образования (документ, определяющий цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период);
– прогноз социально-экономического развития муниципального образования (документ, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и ожидаемых результатах социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период);
– муниципальная программа (документ, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающий решение задач социальноэкономического развития муниципального образования).
Статья 6 172-го ФЗ фиксирует полномочия местного самоуправления в сфере стратегического планирования, к которым относятся:
– определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социальноэкономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и ее субъектов;
– разработка, рассмотрение, утверждение и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;
– мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных органами местного самоуправления;
– иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.
Однако в целом изложенная в 172-м ФЗ схема подключения муниципального звена управления к системе стратегического планирования довольно пространная. Так, пункт 2 статьи 39 172-го ФЗ определяет, что по решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться и реализовываться в муниципальных районах и городских округах такие документы, как стратегия социально-экономического развития муниципального образования и план мероприятий по реализации этой стратегии. Но что значит «могут»? Кто будет определять: «могут» они или «не могут»? И вообще, если можно не делать, стоит ли себя утруждать, особенно если учесть, что чаще всего эта работа требует привлечения внешних экспертов и существенных затрат из местных бюджетов? Как в целом может осуществляться стратегиро-вание пространственного развития субъекта Федерации, если, скажем, половина его муниципальных образований (на уровне муниципальный район – городской округ) осилит составление собственных стратегических планов, а другая половина – не осилит или вообще сочтет эту работу нецелесообразной?
Кроме того, принятие 172-го закона сразу обозначило коллизию двух законодательных актов: данного закона и федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления [8]. В частности, хорошо заметно то, что 172-й ФЗ обозначает полномочия органов местного самоуправления по вопросам стратегического планирования отлично от того круга «корреспондирующих» полномочий, которые ныне отражены в 131-м ФЗ по местному самоуправлению. В последнем содержится указание на полномочия муниципалитетов по разработке и реализации генеральных планов поселений (городских округов), схем территориального планирования (все это ныне можно рассматривать только как фрагмент или особый вариант системы стратегического планирования на местном уровне).
Также в 131-м ФЗ в настоящее время имеется (пункт 6 статьи 17) указание на то, что органы местного самоуправления поселений, районов и городских округов обладают полномочием по принятию и организации выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Оптимальным решением было бы согласование этих законодательных документов изначально – уже на стадии принятия 172-го ФЗ путем внесения в соответствующий закон и согласующих поправок в 131-й ФЗ по местному самоуправлению. Насколько нам известно, такие согласующие поправки в два названных закона готовятся в настоящее время, хотя в целом статус стратегического планирования на муниципальном уровне они в полной мере так и не проясняют, поскольку вопрос требует законодательных новаций.
Это связано с тем, что здесь не ясно то, как надо трактовать полномочия муниципалитетов по вопросам местного значения: как безусловную обязанность, за неисполнение которой можно и взыскать, или только как право, которым можно и не воспользоваться. Сегодня практика муниципального управления склоняется, скорее, ко второму варианту. Хорошо известно, что тысячи поселенческих муниципалитетов из почти 40 закрепленных за ними полномочий реально исполняют (финансируют) не более десятка и никакой ответственности за это не наступает.
Однако главная проблема состоит в том, что ожидаемые и объективно необходимые дополнения в 172-й ФЗ должны не только в правовом контексте конкретизировать содержание, основные требования и документы стратегического планирования на муниципальном уровне, но и отразить ту специфику, которой закономерно характеризуется данный уровень социально-экономического стратегирования, а именно: сложности с экономическим, институциональным и кадровым обеспечением стратегического планирования; важность согласования со стратегическими планами субъектов Федерации; присущий местному самоуправлению баланс публичной власти и начал гражданского общества.
Муниципальное стратегирование: необходимость системного подхода
На наш взгляд, проблемы практического запуска стратегического планирования на региональном и главным образом на местном уровнях имеют системный характер, не устранимый лишь за счет поправок и дополнений в 172-й ФЗ. Соответственно, без преодоления всего комплекса экономических, правовых и институциональных препятствий к социальноэкономическому стратегированию в муниципалитетах России это звено стратегического планирования не сможет обрести достаточной результативности, даже при условии стабилизации и улучшения социально-экономической ситуации в стране.
Это связано и с тем, что на муниципальном уровне позитивные ожидания от реализации системы стратегического планирования пока наталкиваются на ряд ограничений. Главные из них – ресурсные, бюджетные ограничители. Модель стратегического планирования уместна и продуктивна только тогда, когда преобладающее место в управлении социально-экономическим развитием территории занимают именно стратегии развития. Если это управление (как это имеет место сегодня в большинстве муниципалитетов России) преимущественно строится на «гипотезе элементарного выживания», всякое стратегическое планирование не только не продуктивно, но и обременительно.
Например, по оценке Председателя Комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления В. Кидяева (в Думе VI созыва) в настоящее время российскому местному самоуправлению, по разным оценкам, не хватает от 1,5 до 2 трлн руб. для полного исполнения (финансирования) возложенных на него полномочий по вопросам местного значения. К сожалению, за 10 лет осуществления так называемой муниципальной реформы ситуация в сфере местных финансов какого-либо существенного изменения в лучшую сторону не показала.
Мониторинг местных бюджетов за 2013 г., проведенный Минфином России, показал, что трансфертную зависимость менее 10 % имело 5,1 % всех муниципальных образований, а доля муниципальных образований, не получавших ни трансферты (без субвенций), ни налоговые доходы по дополнительным нормативам, составила всего 1,3 %. Аналогичный мониторинг за 2015 г. строился уже по несколько иной схеме в виде распределения муниципальных образований по степени их финансовой самостоятельности (см. табл. 2).
Приведенные в таблице 2 итоги мониторинга за 2015 г. показывают, что только около 5 % муниципальных образований в стране могли обходиться без дотаций и замещающих их дополнительных нормативов отчислений от налогов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Федерации. Дотационность менее 5 % имели всего 15,5 % муниципальных образований России. Дотационность свыше 50 % имели 35,8 % муниципальных образований, в том числе 39,2 % сельских поселений. Формально наибольшую степень дотационности имеют муниципальные образования – внутригородские районы (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). Однако создание данного типа муниципальных образований было предпринято совсем недавно. Как показывают данные таблицы 1, на начало 2016 г. такое деление имело только 3 города России, которые образовали у себя 19 внутригородских муниципальных образований. Таким образом, сегодня подобные муниципалитеты находятся в стадии становления, особенно учитывая то, что источники доходов их бюджетов не гарантированы бюджетным законодательством, а находятся в пределах полномочий муниципалитетов тех городов, в пределах которых они образованы. При такой неустойчивости и не-
Таблица 2
Доля дотаций, в том числе замененных дополнительными нормативами отчислений, в общем объеме собственных доходов местных бюджетов
|
Доля дотаций |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
Всего |
|
Менее 5 % |
23,1 |
8,0 |
41,9 |
13,1 |
0,0 |
0,0 |
68,8 |
15,5 |
|
Муниципальные образования, не получающие дотации, в том числе замененных дополнительными нормативами отчислений |
7,4 |
2,0 |
18,6 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
68,4 |
5,2 |
|
от 5 до 20 % |
27,1 |
14,9 |
24,9 |
12,9 |
100,0 |
0,0 |
1,8 |
14,2 |
|
от 20 до 50 % |
38,7 |
45,2 |
21,1 |
34,8 |
0,0 |
14,3 |
13,6 |
34,5 |
|
Более 50 % |
11,1 |
31,9 |
12,1 |
39,2 |
0,0 |
85,7 |
15,8 |
35,8 |
Примечание. I – городские округа; II – муниципальные районы; III – городские поселения; IV – сельские поселения; V – городские округа с внутригородским делением; VI – внутригородские районы; VII – внутригородские муниципальные образования городов федерального значения.
Источник. Данные мониторинга Минфина России. URL: monitoring_results/Monitoring_local/results/#.
предсказуемости ситуации в сфере местных финансов реализация стратегирования в муниципальном звене управления остается труднодостижимой.
Очевидно, что без неких резервных финансовых источников (фондов) в большинстве муниципальных образований стратегическое планирование просто нереализуемо: иначе стратегический план придется подвергать постоянным корректировкам, особенно по его инвестиционным параметрам, а такой план, по сути, уже не представляет собой документ «рабочего» характера. Как отмечалось в одном из документов Государственной думы РФ, «для эффективной плановой работы муниципалитетов, для формирования перспективных стратегий своего развития муниципальные образования должны иметь средства не только на текущие расходы, но и на формирование в бюджетах муниципалитетов резерва – бюджетов развития, составляющих 10–20 % доходов местных бюджетов. Для этого необходимо решать вопрос о закреплении за местными бюджетами дополнительных налоговых доходов, на развитие налоговой базы которых могут оказывать реальное влияние органы местного самоуправления» [6]. Мнение обоснованно и высказано не отдельным экспертом или работником муниципального управления, а Комитетом Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, то есть в рамках высшего законодательного органа страны, способного принять любой закон. Почему же эти разумные инициативы до сих пор не осуществлены?
Еще одна проблема связана с избыточным универсализмом многих ключевых положений 172-го ФЗ. Даже по отношению к экономически различающимся регионам России предлагаемый законом универсализм норм и процедур этого уровня стратегического планирования видится достаточно проблематичным. Что уж говорить о российских муниципалитетах, еще более дифференцированных по своему статусу и кругу располагаемых (тем более реально доступных) полномочий: по территории и населению, по инфраструктурной обеспеченности; по экономическому и налоговому потенциалу и, как следствие, по степени их бюджетной обеспеченности и дотационной зависимости.
Но дело не только в огромных количественных разрывах между муниципалитетами России финансово-экономического и иного характера, но и в глубоких различиях качественного, институционального плана. В частности, уже неоднократно ставился вопрос о необходимости выделения, в том числе с точки зрения реализуемой практики стратегического планирования, особой группы российских муниципалитетов, где локализуются различные федеральные и региональные институты развития. Условно говоря, группа промышленно-инновационных муниципальных образований, которые следует перевести на особые принципы организации местного самоуправления, формирования местных бюджетов и, конечно, видов и процедур осуществления практики стратегического планирования.
Речь идет о муниципалитетах, способных внести непосредственный вклад в решение задач инновационной модернизации российской экономики. Это – муниципалитеты, которые реально способны обеспечить свое прямое участие в поддержке промышленноинновационной деятельности и по отношению к которым соответствующие меры налогово-бюджетного стимулирования могут иметь экономически и социально значимый эффект. При этом надо учесть, что в соответствии с пунктом 4 статьи 16-2 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1995 предусмотренная законом поддержка инновационной деятельности «может осуществляться органами местного самоуправления». В эту группу должны попасть муниципалитеты, где располагаются федеральные наукограды; федеральные и региональные особые экономические зоны; промышленные парки и индустриальные округа, территории (зоны) опережающего развития и другие территории с особым статусом ведения экономической деятельности. Теперь эту систему полномочий, а также обеспечивающие их экономические ресурсы и стимулы необходимо закрепить через особые процедуры стратегического планирования для таких типов муниципальных образований (например, через обязательное согласование муниципальных стратегий со стратегиями деятельности входящих в них различных институтов развития).
Конечно, к представленной в 172-м ФЗ модели реализации стратегического планирования на муниципальном уровне есть и другие вопросы. Так, не ясно, на основе каких аргументов из предлагаемой системы стратегического планирования изначально оказались исключены поселенческие муниципалитеты (статья 39 172-го ФЗ). В настоящее время делаются попытки скорректировать эту позицию, распространив право готовить документы стратегического планирования на все виды поселений. Однако, как уже было сказано выше, право – это только право, а не обязанность. В итоге может получиться так, что право будет предоставлено, но им никто не воспользуется. Конечно, подавляющему большинству этих муниципалитетов стратегическое планирование в полном объеме «не по плечу».
По нашему мнению, стратегическое планирование в соответствии с нормами 172-го ФЗ должно быть обязательным только для городских округов и муниципальных районов. Поселениям стоит предложить в виде опциона либо некую упрощенную модель стратегического плана, либо возможность ограничиться более простым вариантом прежних «комплексных планов» развития, к которым нет столь жестких требований. Кроме того, должно быть дано законодательное закрепление обязательного участия поселений в стратегическом планировании на уровне муниципальных районов.
Муниципальное стратегирование как стратегирование гражданского общества
Существует еще одна особенность, которая характеризует специфику стратегического планирования в муниципальном звене управления. Как известно, местное самоуправление по своей социальной и правовой природе представляет собой некий симбиоз публичной власти и гражданского общества. Чем «ниже» опускается практика стратегического планирования, тем больше оно соприкасается с повседневными нуждами российских граждан и тем в большей мере эффективность этого планирования становится зависимой от того, насколько эти нужды непосредственно проецируются на принимаемые плановые документы. Более того, мы глубоко убеждены, что стратегический план всякого муниципального образования обязательно должен включать в себя специальный раздел, посвященный долговременной программе действий по развитию начал гражданского общества и всех форм непосредственного народовластия, в том числе при решении стратегических вопросов социально-экономического развития территорий.
Приходится признать, что 172-й ФЗ в своем универсализме ничего не говорит об этой особенности стратегического планирова- ния в муниципальном звене управления. Формально в законе (статья 8) имеется указание на необходимость создания условий, обеспечивающих вовлечение граждан и хозяйствующих субъектов в процесс стратегического планирования. Но каковы эти условия, через какие институты и практические механизмы должно реализовываться это участие и, главное, в чем его особенности в муниципальном звене управления, где это вовлечение часто играет решающую роль, закон, к сожалению, умалчивает.
Конечно, современное местное самоуправление, занимая важное место в системе публичного управления, публичных финансов и публичной собственности, не может функционировать вне регулятивных положений, установленных государственным законодателем, в том числе по процедурам стратегического планирования. Однако в практике муниципального развития эти регулятивные положения должны не оттеснять, а естественным образом как бы обрамлять определенные законом формы общественной инициативы в сфере организации и функционирования местного самоуправления как института гражданского общества. По нашему мнению, отсутствие соответствующих позиций в 172-м ФЗ по стратегическому планированию нельзя объяснить не чем иным, как общим трендом явного огосударствления нашего местного самоуправления. Подобное огосударствление – крайне сложный экономический и социальнополитический феномен, имеющий многообразную природу и формы проявления [1].
В частности, огосударствление «де-юре» вытекает из воззрений так называемой государственной теории местного самоуправления, когда установленные законом регулятивные рамки в отношении местного самоуправления являются избыточными; когда они уже не стимулируют, а сковывают (например, через минимум разрешенных полномочий и инструментов прямого народовластия) инициативу и возможности местных сообществ по решению экономических, социальных и иных проблем соответствующих территорий. По сути, в этом случае правовое регулирование местного самоуправления как бы подавляет в нем начала гражданского общества.
Огосударствление «де-факто» имеет место, когда формально установленные законом широкие возможности муниципалитетов на деле во многом являются профанацией вследствие того, что в большинстве случаев муниципальные власти оказываются экономически необеспеченными, полностью зависимыми от вспомоществований из государственных бюджетов. Вполне естественно то, что в этих условиях руководители муниципалитетов в своей деятельности в большей степени (что убедительно показывает российская практика) ориентируются не на мнение «снизу», а на позицию вышестоящих органов государственной власти.
Мы полагаем, что реальное местное самоуправление характеризуется, в частности тем, что в практике его повседневной деятельности наличествует и практически реализуется четкая правовая фиксация круга вопросов развития муниципального образования, решение которых обеспечивается только прямым волеизъявлением граждан через ту или иную форму непосредственной демократии. Другим важным признаком выступает то, что в деятельности органов местного самоуправления обеспечивается активное, сознательное участие граждан в общественном самоуправлении; получают четкую правовую базу понятия инициативы и ответственности граждан как членов общины за социально-экономическое состояние и развитие территории.
Но главное, что сдерживает развитие начал гражданского общества в деятельности российского местного самоуправления, – малозначительность роли самого населения в практическом осуществлении и контроле этой деятельности. Формально в 131-м ФЗ представлен целый ряд институтов «непосредственного народовластия» или «прямой демократии», как раз отличающих местное самоуправление граждан от обычных представительных органов власти на местах. Это изложено в главе 5 131-го ФЗ «Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления». Закон предусматривает здесь два типа «прямой демократии»: «непосредственное осуществление населением местного самоуправления» и «участие населения в осуществлении местного самоуправления». К последнему от- носится и участие населения в реализации функций стратегического планирования.
По нашему мнению, усиление значения муниципального звена управления в решении приоритетных хозяйственных и социальных задач страны на основе методов стратегического планирования требует более широкого использования непосредственных форм народовластия, постоянного повышения активности и ответственности граждан за устойчивое социальное и экономическое развитие территорий. Это, в свою очередь, предполагает не только формальную фиксацию в федеральном законодательстве возможных форм «непосредственного осуществления населением местного самоуправления» и «участия населения в осуществлении местного самоуправления», но и системы мер по стимулированию максимально широкого использования этих демократических процедур в повседневной практике муниципального управления. Такое стимулирование представляется необходимым, особенно с учетом того, что население большинства регионов страны не располагает долговременно сложившимися традициями или общинным менталитетом, предполагающим как нечто само собой разумеющееся постоянное участие (в том числе финансовое – через механизм самообложения граждан) в решении практических вопросов развития своего поселения.
Сказанное позволяет сделать ряд выводов, касающихся утверждения практики стратегического планирования в системе российского местного самоуправления. Прежде всего, необходимо преодолеть экономическую беспомощность российских муниципалитетов, которая на местах ни для кого не является секретом и на данный момент выступает едва ли не доминирующим фактором, дестимулирующим участие населения в различных прямых формах народовластия. Далее, законодательно закрепленные формы непосредственного народовластия на местах (сходы и собрания граждан, местные референдумы и др.) должны быть не просто постулированы. Федеральные законы, законы субъектов Федерации и уставы муниципальных образований должны четко указывать на широкий круг вопросов, при разрешении которых использование этих форм народовластия должно считаться обязательным. В данный список должны войти вопросы стратегирования развития муниципальных образований, развития имущественных и земельных отношений, заключение наиболее важных соглашений в сфере муниципально-частного партнерства и др. Необходимо также, на наш взгляд, включение в критерии оценки эффективности деятельности органов муниципального управления и показателей их работы с местными сообществами в социально-экономической сфере с использованием различных форм прямого народовластия.
Резюмируя, следует отметить следующее. В принятой версии 172-го ФЗ перечислено много документов стратегического планирования. Но нет одного из наиболее важных, а именно – государственной стратегии развития местного самоуправления в Российской Федерации на среднесрочный период, необходимость которой была зафиксирована в итоговом документе Всероссийского съезда муниципальных образований в ноябре 2013 года [7]. Речь идет о стратегии, которая бы не просто устраняла те недочеты, которые были допущены на начальной стадии муниципальной реформы, но и интегрировала бы цели и направления этой реформы в русло общегосударственных стратегических приоритетов, обеспечивала органичное включение муниципального звена управления в вертикаль стратегического планирования социально-экономического развития страны и ее территорий. На основе этой стратегии, полагаем мы, станет возможной разработка полной новой редакции Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Эта редакция, в частности, должна содержать в себе специальную главу, регулирующую все необходимые предпосылки и механизмы участия муниципального звена управления – во всем разнообразии его составляющих – в реализации возможностей и преимуществ стратегического планирования.
Список литературы Муниципальное звено стратегического планирования: экономические и правовые проблемы
- Бухвальд, Е. М. Как усилить гражданские начала в российском местном самоуправлении?/Е. М. Бухвальд, О. Н. Валентик//ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. -2016. -№ 2. -С. 7-17.
- Бухвальд, Е. М. Стратегическое планирование в России: «Отложить нельзя реализовать»/Е. М. Бухвальд//Региональная экономика. Юг России. -2016. -№ 2. -С. 4-6.
- Еремеева, Л. Комплекс полноценности: Стратегическое планирование -это модно или необходимо?/Л. Еремеева//Муниципальная власть. -2001. -№ 3. -C. 61-65.
- Лебедева, Н. А. Закон принят, вопросы остаются/Н. А. Лебедева//Регион: экономика и социология. -2015. -№ 1. -C. 305-318.
- Пояснительная записка к законопроекту № 143912-6 «О государственном стратегическом планировании». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=143912-6&02. -Загл. с экрана.
- Практика применения законодательства о местном самоуправлении в разъяснениях Комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. -М., 2015. -С. 24.
- Тимченко, В. С. Эксперты МСУ: необходимо актуализировать стратегию развития местного самоуправления в России/В. С. Тимченко//Муниципалитет. -2015. -№ 1. -C. 4-8.
- Федеральный закон от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». -Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации"». -Доступ из информ.-правового портала «ГАРАНТ».
- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». -Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Яговкина, В. А. Особенности разработки и принятия муниципальных документов стратегического планирования/В. А. Яговкина//Практика муниципального управления. -2015. -№ 2. -C. 27-33.