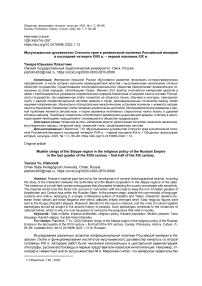Мусульманское духовенство степного края в религиозной политике российской империи в последней четверти xviii В. - первой половине xix в
Автор: Плахотник Тамара Юрьевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
Имперское прошлое России обусловило развитие нескольких историографических направлений, в числе которых изучение взаимодействия властей с мусульманским населением степных областей государства. Существование поликонфессионального общества предполагает внимательное отношение ко всем народам, населяющим страну. Именно этот фактор учитывался имперским центром в связи с необходимостью удержания нехристианских народов Казахстана и Средней Азии в составе Российского государства. На современном этапе, несмотря на общность языка, обычаев и культуры, принадлежность к единой конфессиональной системе казахов и татар, межнациональные отношения между этими нациями напряженные. Изначально отрицательные межэтнические установки возникли с момента направления в Киргизские (Казахские) степи татарских религиозных деятелей. Исследовательское внимание к данной проблеме является актуальным, и корни взаимных негативных стереотипов нужно искать в древней истории народов. Подобные стереотипы способствуют разжиганию национальной вражды, поэтому в настоящее время необходимо преодолевать сложившиеся в обществе предрассудки.
Татарские муллы, имперские власти, религиозная политика, казахское население, мусульманские народы, татарский язык, казахская степь, среднеазиатские ханства
Короткий адрес: https://sciup.org/149138915
IDR: 149138915 | УДК: 94(574)+297 | DOI: 10.24158/fik.2022.1.13
Текст научной статьи Мусульманское духовенство степного края в религиозной политике российской империи в последней четверти xviii В. - первой половине xix в
Омский государственный педагогический университет, Омск, Россия, ,
,
навязывало киргизам ислам, думая, что мусульманство сможет составить переходный мост к христианству (1901). Особое внимание в работах советского периода уделялось вопросам исламского образования, институтов ислама, в которых отражалась политика разрушения и ликвидации конфессиональной составляющей духовно-нравственного воспитания в мусульманской среде.
В постсоветский период появилась необходимость в исламоведческих исследованиях. Именно тогда на повестку дня был поставлен вопрос об определении вектора дальнейшего развития ислама в России. Государственно-религиозные отношения анализируются в работах Д.Ю. Арапова и Р.А. Набиева. Первый приходит к выводу, что на протяжении всего имперского периода политика по отношению к мусульманам была противоречивой (Арапов, 1981). Идеальной модели регулирования данной сферы государство не создало.
Процесс территориального расширения государства сопровождался не только приобретением новых земель, но и попытками установления отношений с инородным и неправославным населением окраин. В этот период наблюдалась активизация восточного направления политики, соответственно возникала необходимость урегулирования взаимоотношений с мусульманскими народами. Для этого требовалось сформировать национально-религиозную политику, позволявшую обеспечить мирное сосуществование в многонациональном государстве и сохранение подданства.
Период царствования Екатерины II главным образом был связан с пониманием необходимости изменения политического и социального курса по отношению к носителям мусульманского вероучения. Данная тенденция нашла отражение в имперском законодательстве: большая часть законодательных актов того времени определяла и регулировала порядок назначения на должность и правовой статус мусульманских духовных лиц.
Особенное значение, на наш взгляд, имел именной указ от 28 января 1783 г. «О дозволении подданным магометанского закона избирать самим у себя ахунов»: «Мы приемлем за благо представление ваше о неудобности выписывать им ахунов из Бухары или другой чужой земли и желаем, чтобы они сами у себя таковых ахунов избирали и поставляли»1. Анализ документа позволяет судить о внимании государства к традиции приглашения мулл из среднеазиатских ханств. Власть была обеспокоена возрастающим влиянием мулл на степное население, видя в них препятствие для превращения казахов в имперских подданных. Соответственно, необходимо было взять под контроль пропаганду ислама, придав ей российскую направленность. Такая цель предполагала удержание под постоянным контролем как процедуры назначения на духовные должности верных и преданных людей, так и деятельности таких мулл (Ногманов, 2006).
Также необходимо выделить еще два указа о назначениях: от 27 ноября 1785 г. «О снабжении разных родов киргизских муллами» и от 21 апреля 1787 г. «О доставлении киргиз-кайсакам в случившихся между ними распрях и жалобах скорого и справедливого удовлетворения, и о снабжении их потребным числом мулл»: «Снабжение разных родов киргизских муллами немалую пользу в делах наших принести может; почему вы и старайтесь определить оных, истребовав из казанских татар людей надежных, дав им потребные наставления к удержанию киргизцев в верности к нам, и к удалению их от набегов и хищничества в границах наших»2. Православное духовенство не могло иметь влияния в киргизском социуме, в связи с этим правительство сделало ставку на татарских подданных империи. Эта же мысль подчеркивается в указе 1787 г.: «Стараться снабдить их потребным числом мулл из людей достойных известного поведения и в верности испытанных, каковых можно иметь из Казанской губернии»3. Отправляя казанских татар в Киргизские (Казахские) степи, власть решала стратегические задачи, используя в качестве верных агентов нехристианских подданных. Содержание обозначенных указов позволяет говорить об особом значении татарских священников в имперской политике.
Появление еще одного указа от 22 сентября 1788 г. «Об определении мулл и прочих духовных чинов мусульманского закона и об учреждении в Уфе духовного собрания для заведования всеми духовными чинами того закона, в России пребывающими» и создание Оренбургского магометанского духовного собрания вошли в число мер, принимаемых для закрепления мусульман в составе имперского общества, духовного воспитания новых подданных: «И вследствие того, учредить в Уфе Духовное собрание Магометанского закона, которое будет иметь в ведом- стве своем все духовные чины этого закона в разных губерниях пребывающих, исключая Таврическую область»1. С этого момента началась активная политика властей по продвижению мусульманского духовенства, преимущественно из Казанской губернии, в Киргизскую (Казахскую) степь. Создавая названное учреждение во главе с муфтием, правительство прежде всего ставило цель укрепления власти на местах, подчинения жизни, быта, образования казахского населения надзору мусульманского духовенства, которое, в свою очередь, подчинялось русской администрации в лице генерал-губернатора.
Необходимо отметить следующие документы, регламентирующие выборы и назначение на должность мусульманских священников. Это указ от 17 августа 1793 г. «О выборе мулл в учрежденное в Оренбурге Духовного магометанского собрания», где говорится о том, что «мусульманское духовенство через каждые три года должны переменяемы быть новыми»2. Кроме того, в законе от 23 января 1794 г. о выборе и назначении мулл подчеркивается доступность должности в зависимости от компетентности в мусульманских законах: «Чтобы Муллы и прочие духовные чины Магометанского закона… определялись не иначе, как по учинении им надлежащего испытания и с утверждениями Наместнического Правления»3. Таким образом, прослеживается строгая государственная регламентация религиозной жизни мусульманского населения Киргизской степи.
В целях поддержания верности режиму магометанскому духовенству выплачивалось высокое жалование. Об этом свидетельствует указ «Об определении мулл и прочих духовных чинов…»: муфтию назначалось жалование по 1 500 р. в год, муллам – по 120 р.4 Также они были освобождены от податей, о чем свидетельствует указ от 13 августа 1790 г. «О дозволении муфтиям покупать земли у башкирцев»5.
Историческая обстановка требовала подобных действий со стороны властей. Вхождение Младшего и Среднего казахских жузов в состав России предполагалось еще Петром I. Однако какой-либо стратегии по отношению к казахам власти долгое время выработать не могли. Возможно, сказалось отсутствие достаточной информации и подготовленных специалистов для реализации государственных целей. Не были учтены, например, частные столкновения между знатными родами, влияние ханов на их подданных имперскими чиновниками было преувеличено. Как стало понятно позднее, местная знать чаще всего имела формальное положение. Таким образом, ставка на использование знати для организации порядка в степи себя не оправдала. Известны случаи, когда ханы становились жертвами нападений подданных и нуждались в защите российских казаков. Попытки налаживания связей с казахской элитой предпринимались еще с конца 70-х гг. XVIII в. Тем не менее колониальные власти больше нуждались в деятельности мулл татарского происхождения, которые должны были стать посредниками в формировании и развитии отношений со степным социумом.
Появилась особая группа имперских служащих – указные муллы (выдержавшие испытание в Оренбургском муфтиате и утвержденные российской администрацией), выходцы из Казанской губернии. Есть основания говорить о том, что их появление стало успешным мероприятием властей. Существовали факторы, способствовавшие усилению влияния таких людей: близость казахского и татарского языков, знание обычаев, менталитета казахов, принадлежность к одной религии. Подобный вариант посредничества между правительством и местным населением обеспечивал больший эффект, чем сотрудничество казахской знатью. Можно выделить несколько направлений деятельности указных мулл: религиозная служба, обучение казахских детей грамоте, реализация функции арбитра в разрешении споров между казахскими родами, а также между казахским и русским населением, содействие освобождению захваченных в плен, сбор сведений о положении в Степи (Горбунова, 2008).
Большое значение имела не только деятельность татарских мулл, но и татарский язык, используемый в официальных материалах наряду с русским: «Для производства дел султан имеет письмоводителя, знающего русский и татарский языки»1. В Уставе о сибирских киргизах 1822 г. зафиксировано, что окружной приказ имеет свою канцелярию, переводчиков и толмачей2. Владение татарским языком с точки зрения имперских властей выступало социальным лифтом для татар, поскольку они становились государственными служащими в качестве переводчиков, толмачей письмоводителей. По мнению члена Западно-Сибирского отдела Русского географического общества П. Золотова, они подбирались «со строгой осмотрительностью, основанной не столько на книжном знании, сколько на способностях, ловкости, благонадежности избираемого»3. Можно полагать, что татары внесли огромный вклад в развитие взаимоотношений Киргизской (Казахской) степи с Российской империей. Татары в качестве толмачей и переводчиков участвовали во всех переговорах казахских ханов, султанов и старшин с региональной администрацией. Более того, как представители русской власти они неоднократно выезжали в Киргизские (Казахские) степи и разрешали конфликтные ситуации, давали наставления.
Деятельность муллы и работа переводчика легко совмещались, главным условием была компетентность человека, занимающего соответствующую должность. К перечисленным функциям мусульманского духовенства добавлялась и купеческая деятельность. Современник этих событий, исследователь А. Красовский отмечал: «Ежели есть возможность заняться торговлею, мулла, конечно, ею займется и охотно сбросит с себя белую чалму, символ учености, потому что звание муллы у киргизов менее почетно, нежели звание купца, да и всякий торгующий татарин к своему собрату в белой чалме относится как к человеку бедному, более презрительно» (1868). Как указывает А. Красовский, заниматься лишь одним видом деятельности было невозможно в связи с дефицитом средств для полноценного существования. Таким образом, обязанности мусульманского духовенства не ограничивались только религиозными функциями, они идеологически воздействовали на киргизское (казахское) население в духе взаимодействия с империей, к тому же параллельно занимали и другие должности.
В указе от 13 мая 1830 г. отмечается: «Чтобы высшее Магометанское Духовное Начальство не оставляло принимать возможных от оного зависящих мер ко внушению Магометанам о благотворной цели Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета для них самих»4. Таким образом, имперская власть через мусульманское духовенство пыталась внушить доверие верующих к российским порядкам. В связи с этим духовные лица подвергались жесткому отбору и контролю.
Анализ источников показывает, что правительство нуждалось в степном регионе. Киргизская степь могла бы соединить Российскую империю с другими среднеазиатскими ханствами, что, в свою очередь, позволило бы администрации активно осуществлять на данной территории колониальную политику, которая положительно сказалась бы на экономическом развитии государства.
Степное мусульманское духовенство было активным участником политической жизни в регионе Киргизских (Казахских) степей, так как в условиях действия казахского обычного права муллы должны были передавать правительственные распоряжения и разъяснять их смысл. В связи с тем что у местного населения не было своей письменности, татарский язык использовался в официальных материалах наряду с русским, что стало еще одним средством укрепления влияния мулл на жителей степных областей.
Список литературы Мусульманское духовенство степного края в религиозной политике российской империи в последней четверти xviii В. - первой половине xix в
- Арапов Д.Ю. Бухарское ханство в русской востоковедческой историографии. М., 1981. 128 с.
- Горбунова С.В. Государственная регламентация религиозной жизни казахов в Российской империи // Вестник Нижневартовского государственного гуманитарного университета. 2008. № 1. С. 35-41.
- Красовский Н.И. Область сибирских киргизов. Историческое введение, географическое описание области, жители. СПб., 1868. 428 с.
- Миропиев М.А. О положении русских инородцев. СПб., 1901. 517 с.
- Ногманов А.И. Татары среднего Поволжья и Приуралья в религиозной политике Екатерины II (по материалам законодательства) // Вестник Чувашского университета. 2006. № 6. С. 86-92.