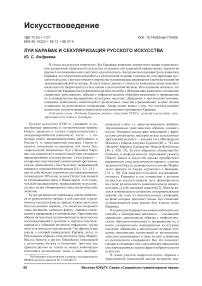Музеи советского Севастополя: трансформации прошлого во имя будущего
Автор: Сибиряков Игорь Вячеславович
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4 т.17, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается широкий круг вопросов, связанных с созданием и становлением музеев г. Севастополь. На основе разнообразных исторических источников проанализированы те изменения, которые произошли в работе наиболее известных музеев Севастополя в довоенный и послевоенный период. Особое внимание в статье уделено системе управления севастопольскими музеями, особенностям формирования экспозиций и той роли, которую играли эти музеи в реализации политики памяти советского государства на различных этапах его истории.
Историческая память, музеи, образ, политика памяти, севастополь
Короткий адрес: https://sciup.org/147151209
IDR: 147151209 | УДК: 94(477.75) | DOI: 10.14529/ssh170408
Текст научной статьи Музеи советского Севастополя: трансформации прошлого во имя будущего
Русское искусство XVIII в. усваивает художественные принципы и стилистические приемы Нового времени в тесном соприкосновении с западноевропейской живописью, часто — с помощью самих западноевропейцев, работавших в России (т. н. представителей россики). Одним из видных иноземцев-художников той эпохи был «марсельский живописец» Луи (Людовик) Кара-вак, чье творчество в значительной мере следовало нарождающейся эстетике рококо. Стиль рококо — изощренно-чувственный, пропитанный эротизмом, подчас граничащим с бесстыдством, выражающий игровые и гедонистические начала [14, с. 12—21] — сам по себе обладал огромным секуляризационным потенциалом. В России, по воле Петра I шагнувшей из Средневековья сразу в Новое время, этот стиль, чуждый традиционному православному искусству, служил целям обмирщения и имел воспитательное значение.
Культура рококо не стремилась совсем избавиться от религиозного начала: в ней светское и религиозное сосуществовали, правда, второе настолько было подчинено первому, что зачастую сохраняло лишь внешнюю, видимую форму, лишаясь содержания и превращаясь в номинальное. Христианские образы на полотнах художников выступали частью костюмированного зрелища и нередко контаминировали с образами античной мифологии, служа цели эстетического наслаждения. Так, французская школа, к которой принадлежал Каравак, вслед за Ренессансом образно отождествляла Деву Марию, Иисуса Христа и других библейских персонажей с античными богами и богинями. Эротизм как принцип рококо не только не мешал живописцам воплощать религиозные темы, а даже наоборот привлекал к ним, т.к. давал возможность добавить традиционным христианским образам «пикантности». Внешнее целомудрие персонажей у французских рокайльных мастеров не всегда исключает эротический подтекст — возьмем хоть «Молящуюся Мадонну» Шарля-Антуана Куапеля [40, с. 76] или «Встречу Марии и Елизаветы» Никола Флейгельса [40, с. 426; 53]. За счет образного сближения библейских и мифологических персонажей сюжеты Нового Завета в искусстве рококо приобретают выраженную сенсуалистическую окраску: «подчас маленького Иисуса, резвящегося на коленях Марии, легко принять за Амура, играющего с Венерой» [14, с. 18]. Как показало отдельное исследование, личность Каравака и его отношение к религии полностью соответствовали духу формируемого им стиля: религиозность живописца имела поверхностный, сугубо внешний характер [2]. Мастер являлся номинальным католиком, воспринимающим церковь как одну из многочисленных декораций, на фоне которых протекает жизнь. Без сомнения, художественный язык рококо был языком души Каравака.
В творчестве Каравака мы можем наблюдать все способы к обмирщению живописи — соединение священных христианских образов с мифологическими образами-символами и превращение их в некое универсальное внецерковное культурное наследие, обращение к эротическим мотивам, очищение живописных композиций от религиозных смыслов («размывание» и даже полное устранение их религиозного содержания). Все это позволяет говорить о Караваке как о крупнейшем проводнике секуляризационных идей в сфере изобразительного искусства.
В плане синтеза мифологических образов с христианской символикой весьма интересен пор- трет царевича Петра Петровича в виде Купидона («Петенька-Шишечка»), написанный Караваком в 1716 г. Эта работа дошла до нас в нескольких копиях, выполненных русскими художниками второй половины XVIII — середины XIX вв. К кисти же самого Каравака предположительно относят портрет царевича из собрания Государственной Третьяковской галереи [11, с. 544; 24]. Помимо него существовал еще один оригинальный вариант, находившийся в Императорском Эрмитаже, от которого, к сожалению, сохранилось лишь краткое описание: «Поясное изображение обнаженного дитяти, над головою которого в сиянии начальные слова Христова имени латинским алфавитом (I. H. S.)» [42, с. 35—36]. В каталоге П. Н. Петрова говорится, что это именно то изображение царевича, которое кн. А. Д. Меншиковым было послано Петру I из Петербурга в Голландию в январе 1717 г. [42, с. 36]. Если это так, то данный портрет представлял собой первую живописную работу Каравака в России и содержал первоначальный вариант трактовки образа малолетнего сына Петра I. В «Росписи всем делам», составленной собственноручно Караваком в ноябре 1723 г., «портрет блаженныя памяти цесаревича Петра Петровича, который отдан светлейшему князю», значится первым в списке под 1716 г. [45, л. 7]. Обратим внимание на то, что иконография этого варианта (назовем его «вариантом с символикой Христа») отличается от последующих, т. к. ребенок в нем был изображен по пояс. Упоминание же об аббревиатуре IHS, на наш взгляд, дает ключ к пониманию этого и всех последующих вариантов композиции портрета: живописец подчеркивает, что пустивший стрелу Купидон, этот беззаботный малыш, есть все же наследник российского престола, будущий монарх христианского государства, находящийся под покровительством Всевышнего. Вербальный символ IНS издавна использовался в европейской живописи для обозначения Христа Спасителя. Он представляет собой сочетание первых трех букв греческого написания имени «Иисус» или одну из зашифрованных фраз, выражающих идею Божественного покровительства, — «Iesus Hominum Salvator» («Иисус — Спаситель человечества»), либо «In Hoc Signo» («Сим победиши», т. е. адресованную Константину Великому фразу, появившуюся вместе со знаком креста на небесах во время битвы с Максенцием) [3, с. 108]. Отметим, что буквы IHS, вписанные в круг, были атрибутом Игнатия Лойолы и Бернардина Сиенского и воспринимались как эмблема иезуитов [3, с. 108].
На портрете Петра Петровича из ГТГ над головой царевича мы видим изображение солнечного диска с ликом, от которого исходит золотое сияние. Эту же деталь обнаруживаем и в более поздних вариантах — копии 1772 г. работы Г. Д. Молчанова (ГРМ) [37], копии неизвестного русского живописца первой половины XIX в. из собрания Государственного Эрмитажа [39], а также копии Н. Тютрюмова середины XIX в. (ГРМ) [51]. Портрет кисти Молчанова представляет собой фрагментарную (поколенную) копию с оригинала Каравака — здесь нет атрибутов императорской власти, как в варианте ГТГ (короны и ордена св. Андрея Первозванного), зато солнечный диск гораздо крупнее. Эрмитажная копия и копия Тютрюмова отличаются тем, что обнаженное тело царевича задрапировано легкой прозрачной тканью1, а солнечный лик несколько уменьшен в размерах. Ни в одном из известных сейчас вариантов портрета Петра Петровича нет аббревиатуры IHS, однако, если принять «вариант с символикой Христа» в качестве наиболее раннего, то можно предположить, что солнечный лик представляет ему замену и несет (хотя бы отчасти) тот же смысл. Возможно, лик в солнечном сиянии (обратим внимание и на то, что он изображается с шапкой вьющихся волос) одновременно обозначает и «златокудрого Феба», и Христа Спасителя, выступая примером характерной для искусства рокайля контаминации античных и христианских образов. Вспомним, что Аполлон еще в искусстве Возрождения воспринимался как прообраз «Бога света» Христа [3, с. 24].
Портретный жанр, внедряемый Караваком в России, как никакой другой способствовал антиклерикализации культуры. В частности, изображение Караваком царских детей и внуков, потенциальных наследников российского престола, в облике античных языческих персонажей представляет собой опыт нового прочтения сакральной фигуры правителя на языке, лишенном средневековых церковных понятий. Аллегория античного божества в данном случае выступает средством частичной «дехристианизации» портретируемых, но при этом дает возможность сохранить за ними ореол «божественности» и дистанцировать их от простых смертных. Царь и его дети в русском сознании традиционно ассоциировались с «земными богами», т. е. их власть и сущность (харизма) выступали отражением власти и сущности самого христианского Бога [52, с. 143]. Парсуна как жанр изобразительного искусства на Руси наиболее адекватно позволяла выразить божественный характер земных владык. Каравак в своих портретах попытался передать ту же идею, однако новыми для русской живописи средствами. Обратимся к изображению детей печально известного царевича Алексея — парному портрету великого князя Петра Алексеевича (будущего императора Петра II) и его сестры Натальи Алексеевны [21]. На этом полотне, «наряжая» отпрысков царского дома в костюмы Аполлона и Дианы, создавая сценическую композицию, живописец стремится к устранению видимого христианского содержания образов2. Этот прием, характерный для западноевропейского искусства (вспомним «Аллегорический портрет семьи Людовика XIV» Жана Нокре, представляющий королевское семейство олимпийскими богами [41]), проистекает из иного, в отличие от Византии и Руси, характера сакрализации западноевропейских монархов. В странах Западной Европы, где пережитки языческого поклонения правителю оказались более сильными, монарх «воспринимался как источник благополучия, в частности, считалось, что прикосновение к нему способно исцелять от болезней или обеспечивать плодородие» [52, с. 122]. Образы Дианы и Аполлона как подателей конкретных земных благ этому пониманию более чем соответствовали, но в то же время их использование не исключало христианского подтекста, ведь Диана (Артемида) и Аполлон с ренессансных времен иконографически сближались с Девой Марией и Христом [3, с. 24— 25]. Таким образом, мифологизация персонажей не знаменовала собой полный отказ от христианской концепции и совсем не означала возвращение к языческим понятиям (как и параметры религиозности Каравака не свидетельствовали о его разрыве с церковью). Мифологизация давала возможность взглянуть на портретируемого по-новому, раскрыть его земную суть, максимально театрализовать изображаемые сцены и придать им игровой, светский характер. Использование античной символики и мифологических сцен в самых разных сферах культуры Петровской России определенно означало усиление в ней светской составляющей [56, с. 44]. В какой-то степени оно способствовало разрыву русской живописи с иконописной манерой изображения человека1.
Мифологизация персонажей, безусловно, преследовала множество целей, при этом оставаясь важным средством обмирщения духовной жизни. Так, портретная живопись рококо стремилась придать моделям «соблазнительный облик», часто путем демонстрации их «прелестей» [4, с. 196], и отсылка зрителя к мифологическим образам оправдывала изображение наготы. Использование иноземными художниками, в том числе и Караваком, «ипостаси мифологического персонажа» снимало с них запрет на показ обнаженного тела, который до XVIII столетия был глубоко чужд русской художественной традиции и ментальности [55, с. 154]. Каравак знаменит первым «ню» в России — портретом восьмилетней цесаревны Елизаветы Петровны, которую художник изобразил полностью обнаженной с формами взрослой девушки [22; 25]. В этой работе «мастер прибегает к пикантному контрасту детской невинности и соблазнительной округлости форм» [35, с. 152]. Несмотря на то, что эта довольно интимная композиция не предназначалась для широкого обозрения, она оставила заметный след в истории рус-
1 В странах Запада уже в эпоху Возрождения античная мифология утратила религиозное значение и превратилась в набор универсальных культурных кодов.
ской живописи: «маленькую Венеру» неоднократно копировали (обратим внимание на то, что это делали иноземные живописцы) [7]. Одна из вольных копий, выполненная Георгом-Христофором Гроотом в 1748—1749 гг. для царского собрания (художник состоял его смотрителем [32, с. 200]), обнаруживает еще более откровенную манеру: «дщерь Петрова» предстает повзрослевшей и уже не в образе Венеры, а в виде богини Флоры, с более пышными формами, оставляющими впечатление «грубоватой чувственности» [13; 31, с. 164]. Если подобная «соблазнительность» и чувственность уже давно не противоречила официальной религиозности западных стран (с эпохи Ренессанса многие живописцы писали библейских персонажей для своих церквей в весьма чувственной манере — Еву, Вирсавию, Марию Магдалину и др.), то православным зрителям она казалась неприличной, а в применении к сакральным образам — кощунственной. «Как смертоносного яда бегай воззрения на чужую красоту» [46, с. 63], — поучал православных св. Димитрий Ростовский, и многие в эпоху Петра (причем не только ревнители старины) осуждали «блудолюбие» иноземцев, их изобразительное и театральное искусство, «танцы и скрыпицы», демонстрирующие нравственную распущенность [54, с. 168].
Сдержанный эротизм присущ и парному портрету царевен Анны Петровны и Елизаветы Петровны, написанному Караваком в 1717 г. [23]. Девятилетняя Анна и ее восьмилетняя сестра здесь представлены в образах древнеримской богини Флоры — грудь у каждой из «богинь» приоткрывается в результате движения складок одежды, однако живописец не достигает при этом необходимой естественности. Считается, что в этой работе (как и в ряде других портретов царских детей) художник пытался сочетать рокайльную грациозность и фривольность с изображением величественности моделей, что заставляло его прибегать к средствам классицистической живописи [15, с. 118; 55, с. 153]. В любом случае, этот портрет несет в себе эстетику чувственных наслаждений, незнакомую русским живописцам допетровских времен.
Впрочем, Каравак стремился быть универсальным живописцем, и далеко не все написанные им портреты являются аллегорическими. Каравак ориентировался на вкус и требования царственных заказчиков: при Петре он был преимущественно «домашним художником», а в Аннинское время прославился как мастер парадного коронационного портрета [16, с. 160]. Однако более всего sensualité рококо, свойственная ряду произведений Каравака, отвечала нравственным требованиям императрицы Елизаветы и ее двора. По характеру духовных запросов Елизавета и Каравак в чем-то были схожи: их роднила способность сочетать легкомыслие светских наслаждений с показным благочестием, внешним соблюдением требований религии и даже с видимым религиозным усердием. Такой дуализм являлся чертой «галантного века» — например, его проявления обнаруживаем в творчестве величайшего мастера рококо Ж.-Б. Грёза (1725—1805). Пользовавшийся славой моралиста, Грёз был лицемером и лицедеем одновременно, тонко маскировавшим порок [14, с. 187—189]. А. Н. Бенуа повторил меткое замечание Гонкуров о том, что французский художник изображал «невинность Парижа XVIII в.», невинность, «легкую на сдачу и очень близкую к падению», и сделал вывод: «Грёз и умиляется-то чистотой девушки, чтобы еще острее гутировать ее падение» [5, с. 381]. Однако это не мешало Грёзу считаться мастером «нравственной живописи» и ассоциироваться с христианским проповедником1 [4, с. 201]. Каравак, конечно, не столь тонок, как Грёз, но его «Елизавета Петровна в детстве» демонстрирует то же желание сочетать невинность и добродетель с физической чувственностью. Кара-вак писал портрет маленькой Венеры-Елизаветы, и это не мешало ему быть церковным старостой у французов-католиков.
Все вышесказанное — вполне в духе Елизаветы Петровны, натуры страстной, женщины, в которой не было «ни кусочка монашеского тела» [14, с. 277], но которая искренне верила в Бога и с чувственными наслаждениями перемежала походы на богомолье. Поневоле возникает вопрос: не был ли Каравак одним из «воспитателей» Елизаветы, ведь с нежного возраста она имела возможность наблюдать себя изображенной в виде соблазнительной Венеры и отождествлять себя с ней? Не испытывала ли Елизавета, уже будучи императрицей, благодарность к художнику именно за его вклад в формирование пленительного образа «Афродиты на троне»? Обратим внимание на то, что Каравак, при всей его «рокайльности», как раз именно при Елизавете, способной более других его понять и оценить, «оказался почти не у дел» [18, с. 47]. Парадоксально, но в качестве мастера прихотливого стиля Каравак в елизаветинскую эпоху не был востребован. Художник специализировался на парадных портретах, причем его искусство встречало критику, но императрица его не увольняла и исправно платила жалованье. Причина такого двойственного положения в том, что Каравак, за долгие годы приучивший русский двор к языку рокайля и способствовавший формированию спроса на вещи, выраженные этим языком, не имел достаточного дарования, чтобы удовлетворить этот спрос, значительно возросший. О выраженной потребности в легкой живописи, отражающей «настроения целой эпохи русского двора и императрицы, предававшихся развлечениям и наслаждениям жизни» [28, с. 110], свидетельствуют приглашение в Петербург известного королевского живописца Луи Токке, а также переговоры о возможном приезде Франсуа Буше, заочно избранного членом петербургской Академии художеств [14, с. 277—278; 28, с. 110].
В контексте развития секуляризационных тенденций весьма интересно церковное творчество Каравака, считавшего возможным заниматься православной культовой живописью. Его способность к этому роду деятельности признавала сама государыня Елизавета Петровна, несмотря на свою громкую славу защитницы православия от посягательств «иноверцев». Известно, что Каравак принимал участие в оформлении иконостаса церкви Зимнего дворца, а затем вместе с Гроотом писал новые образа и поновлял старые для дворцовой церкви в Царском селе [48, с. 480]. В конце 1741 г. императрица приказала архитектору М. Г. Земцову «сделать в Село Царское достальные иконостасы и писать оные Караваку» [44, с. 65]. В 1747—1748 гг. Каравак написал храмовый образ Рождества Богородицы для придворной церкви того же имени (предшественницы нынешнего Казанского собора в Санкт-Петербурге). Однако в XX столетии эти иконостасы сильно пострадали [44, с. 195] и, насколько можно судить по имеющимся данным, икон караваковского письма в распоряжении исследователей теперь нет. Долгое время кисти Каравака приписывали две иконы местного чина из храма в честь Собора Пресвятой Богородицы (именуемого также Строгановским или Рождественским) в Нижнем Новгороде, однако факт их принадлежности французу затем был опровергнут [38, с. 88]. Установлено, что иконы для Рождественской церкви создал иконописец из вотчин Строгановых Нарынов [34, с. 6—21; 43, с. 28].
Тем не менее сохранились предметы православного декоративно-прикладного искусства, созданные при непосредственном участии Л. Ка-равака. Наибольший интерес представляет собой сень над ракой св. преп. Сергия Радонежского, выполненная по эскизу Каравака в 1737 г. (Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры). Серебряная сень украшена богатым растительным орнаментом, включающим в себя гирлянды цветов, их отдельные изображения и повторяемые цветочные мотивы, стебли растений и листья аканта [27]. Обилие цветов и листьев усиливает декоративность произведения, придает орнаменту свойственную рококо прихотливость, задает столь ценимую в то время криволинейность форм. Обращает на себя внимание использование художником стилизованных плодов ананаса, помещенных над изогнутым карнизом сени. Мотив ананаса несколько раз повторен в декоративном обрамлении гзымза (на свисающем вниз «кружеве»). Этот фрукт не наделялся какой-либо специальной христианской символикой — в XVIII в. он символизировал роскошь, каприз, исполнение прихотей, и Каравак, продумывая декор сени, остановил на нем свой выбор, повинуясь моде на экзотику и пытаясь придать сооружению утонченный вкус. Вообще очевидно, что при проектировании сени художник преследовал исключительно декоративные цели и избегал наполнения данного произведения религиозным содержанием. Прямое участие инославных христиан (католиков и протестантов) в создании предметов православного церковного искусства в XVIII столетии стало обычным явлением, однако иноземцы, как правило, при этом не дистанцировались от содержания создаваемых вещей, а наоборот несли свое понимание религиозных сюжетов [1, с. 91—97]. Каравак, проектируя сень для преподобного, никак не выразил своего отношения к великому русскому святому, будто «забыл» о нем. Живописец совершенно проигнорировал образ преподобного, тему его чудес и подвигов. Думается, что в этом сказалась не только позиция католика, для которого православная святыня не имеет существенного значения, но и убежденность художника в преимуществе языка светской живописи над церковной, сознательное стремление создать исключительно изящный предмет. Каравак не только отказывается от изображения житийных сцен, более чем уместных и часто используемых при оформлении подобных сооружений [33, с. 232—241], но и вообще избегает религиозной символики. Единственное, что указывает на культовое назначение сени — это венчающий ее четырехконечный латинский крест. Зато в избытке художником представлены свидетельства щедрости российской монархини: начальная буква имени императрицы помещена в специальном картуше в верхней части сени, она украшает основание сооружения, также императорский вензель читается на столбах. В клейме поперечной стороны есть текст: «Самодержавнейшая всероссийская императрица Анна Иоанновна, в славу дивного Бога во святых своих, в честь преподобного Сергия Радонежского, славного в России чудотворца, сие его блаженных останков хранилище среброкованным строением по теплейшему своему благоговеинству украсить повелела от мироздания 7245 г., от воплощения Жизнодавца 1737 г.».
Каравак принимал участие в оформлении раки св. Александра Невского для Благовещенской (Александро-Невской) церкви лавры (1747— 1752) — величественного сооружения из серебра, украшенного, в отличие от сени св. преп. Сергия, барельефами на житийные сюжеты1. Правда, в этом случае Каравак выступил наблюдателем и частично исполнителем живописных работ: автором проекта «гробницы» источники называют Г.-Х. Гроота, а автором эскизов для барельефов — Я. Штелина [6, с. 13; 47, с. 78]. Каравак же создал рисунки двух богато украшенных подсвечников и осуществлял контроль над изготовлением ангелов большой пирамиды [6, с. 15]. Рака русского святого — ярчайший образец адаптации художественных средств и образов рококо, светских по своему звучанию и даже в каких-то случаях символизировавших плотское начало, к потребностям православного сакрального искусства. Так, раковины и иные «окаменелости», во множестве украшающие раку, некоторыми современниками могли прямо ассоциироваться с «образцами детородных частей» [14, с. 26].
Помимо выполнения Караваком живописных работ большое значение для дальнейшего становления и укоренения светского искусства в России имел педагогический труд художника. Уже первый контракт, заключенный с Караваком, подразумевал широкое обучение живописному ремеслу «людей русского народу», а в дальнейшем (как минимум с 1724 г.) художник «обязался показывать науку свою четырем человекам ученикам через два года в Питербурхе, а доканчивать в Париже, за что положено ему по 400 руб. за каждого человека» [45, л. 15]. Сам Каравак был очень высокого мнения о своих преподавательских талантах, что следует из его прошения на имя Петра I от 19 апреля 1723 г., где живописец изъявляет готовность служить в будущей императорской академии художеств, «ежели Ваше Императорское Величество соблаговолит учредить здесь, в Санкт-Петербурге, Академию живописного художества, какая учреждена в Париже» [45, л. 1 об.]. Позднее, намереваясь основать в России собственную «академию ремесел», Анна Иоанновна руководителем ее живописного отделения предполагала назначить именно Каравака [49, с. 144; 50, с. 201]. Несмотря на то, что уровень педагогического мастерства Каравака не очень высоко оценивается современными исследователями [36, с. 81], общепризнанным является факт значительного влияния этого художника на становление портретного жанра в России. Каравак «в свое время в области живописи играл выдающуюся роль и оказал сильное влияние на ее развитие, подготовив целую школу учеников» [10, с. 26].
К ученикам Каравака с некоторой долей условности можно отнести живописцев И. Я. Вишнякова, М. А. Захарова, А. П. Антропова, а также менее известных И. Л. Милюкова и М. Белякова. Все они были «прикреплены для обучения науке» к Караваку и «состояли при нем» для выполнения разных работ [10, с. 31—32; 36, с. 190, 206, 218]. Вместе с тем они испытывали влияние и других иноземных мастеров, а также своих талантливых соотечественников — предшественников и современников (например, Антропов учился у П. Ротари и А. Матвеева, Вишняков — у А. Матвеева и В. Грузинцова [28, с. 109—111]). Рассмотрим проблему преемственности светской живописи и художественных принципов рококо на примере творчества самого известного ученика Каравака И. Я. Вишнякова.
Очевидно, что творения Каравака и Вишнякова обладают общими стилистическими признаками. Мастер значительно развил «некоторую склонность писать персоны», какую имел «бывший в Адмиралтействе малярный подмастерье Иван Вишняков» [10, с. 31]. Француз научил русского живописца создавать изысканные композиции, уделяя внимание деталям туалета, привил вкус к аксессуарам и галантным мелочам. Вишнякову нравилась «декоративная роскошь парадных костюмов его эпохи, их театральность и праздничность» [19, с. 110]. Являясь учеником Каравака, он «одним из первых русских художников уловил мотивы европейского стиля с его жеманностью и ажурностью» [29, с. 545]. Тем не менее в творчестве Вишнякова оказались живы традиции мастеров Оружейной палаты, сохранялись черты парсуны с ее приверженностью к «статуарной пластике, статичности позы, к звучной гамме больших локальных пятен, некоторой плоскостности пространства» [20, с. 42]. Русский художник оказался несравненно более лиричен. Эти черты стилистики Вишнякова отмечают в целом ряде его полотен, в том числе в «Портрете Сарры-Элеоноры Фермор» (ок. 1750 г.), представляющем вершину его творчества [14, с. 279]. Интересно, что и сам Каравак «во второй половине своего земного существования усвоил многие черты старой русской живописи» [20, с. 42] — возможно, при посредничестве учеников.
Вишняков гораздо более своего наставника стремился проникнуть в психологию портретируемых, в его работах (как и в работах Антропова) меньше декоративности, караваковской игривости и кокет-ства1. Картины Вишнякова не несут в себе и той доли эротизма, которую пытался привить русскому портрету Каравак: «лица на портретах он пишет всегда целомудренно-строго» [20, с. 43]. Абсолютно права Т. В. Ильина, усмотревшая в схематизме и плоскостном характере изображения Вишняковым тела «отзвуки средневекового взгляда на тело как “вместилище греха и соблазна”» [19, с. 110]. Эротический подтекст при внешнем соблюдении «приличий», столь свойственный живописи рококо и определяющий ее внецерковный характер, оказался мало выраженным в портретных композициях, принадлежащих кисти русских мастеров. Характерно, что в России даже во второй половине XVIII в., когда рокайль уже стал привычным явлением, морализаторство Грёза и ему подобных не встречало повсеместного признания и сочувствия. В недостаточно секуляризованном русском обществе оно могло ассоциироваться с пороком: «Удивительно, но при всем том, что живопись Грёза принималась в высшей степени благосклонно в России, современный французский жанр воспринимался все-таки с большим опасением. В нем видели неуместную вольность, которая была чужда настоящей добродетели» [12, с. 116]. Русская живопись значительно отставала в воспроизведении чувственных образов, откровенно прельщающих зрителя [26, с. 138].
Творческие связи между Караваком и русскими живописцами показывают, что процесс обмирщения изобразительного искусства в России XVIII в. обладал собственной спецификой. Имея эндогенно-экзогенную природу, в своем формальном выражении (с точки зрения распространения отдельных жанров, композиционного построения картин, выборе тем, аллегорических сюжетов, отдельных художественных приемов) секуляризация отечественного искусства более зависела от творческих усилий иноземных мастеров, нежели своих доморощенных, однако внутреннее ее содержание определялось сложной духовной работой русских художников по усвоению западноевропейского материала. Эта работа демонстрирует неготовность безоговорочно принять ряд принципов живописи рококо — ее необузданный гедонизм, чрезмерную чувственность, подвижную и манерную игривость, сосредоточенность на передаче внешнего в ущерб внутреннему. Тем не менее Каравак сыграл одну из ключевых ролей в десакрализации русского искусства, приучении художника и зрителя к наготе модели, адаптации средств светской живописи к передаче сакральных смыслов. В частности, его заслуга в том, что живопись на религиозные темы перестает в России восприниматься только в качестве «богословия в красках», она становится способом выражения художественных идей и эстетических потребностей, напрямую не связанных с богослужением и церковной жизнью. Последнее демонстрирует учебно-аттестационная практика Каравака: экзаменуемым он давал задание не только писать портреты, но и картины на религиозные темы, не отличая их от картин «исторических», тем самым намеренно лишая ореола святости и недоступности для ума и кисти простого художника. Так, в 1727 г. Каравак «свидетельствовал» возвратившегося из Амстердама Андрея Матвеева и «задал ему нарисовать рисунок из его вымысла, историчный, а именно: ангел изводит апостола Петра из темницы» [30, с. 30]. Заметим, что аттестация русских художников в первой половине XVIII в. во многом зависела от Каравака [36, с. 55], и будущие мастера через систему караваковских оценок неизбежно становились причастными к его мышлению, к пониманию того, что хорошо в живописи, а что плохо.
Творческая натура Каравака была достаточно цельной и непротиворечивой: его живописные работы и реальная жизнь, в том числе и религиозная, не демонстрируют раздвоенности, они дополняют друг друга и диалектически обусловливают. Светский человек по своим духовно-нравственным и эстетическим запросам, Каравак следовал принципу светскости и в своих произведениях, в том числе предназначенных для православного церковного обихода. Возможно, эта непротиворечивость свидетельствует об ограниченности Каравака как художника, однако она помогла ясно обозначить новый ориентир для развития русской живописи. В портретах кисти Каравака, а также в предметах декоративно-прикладного искусства, созданных для украшения православных храмов при его участии, светское начало безусловно преобладает над религиозным, подчиняет или растворяет религиозное в себе. Эстетика рокайля становилась адекватной моральным и иным социальным качествам Каравака — работая в ее русле, мастер мог задействовать весь спектр средств к обмирщению художественной сферы, предлагаемых французским и вообще западноевропейским искусством. Природу секулярного начала в работах художника логичнее всего связывать со становлением во Франции стиля рококо, который был проявлением далеко зашедшей антиклерикализации западного общества.
Не обладая выдающимся дарованием, Каравак, тем не менее, своей живописью, педагогической работой и аттестационной деятельностью, а также (что немаловажно) своими социальными качествами значительно ускорил процессы обмирщения русской культуры. Благодаря Караваку и другим иноземным мастерам религиозное мировоззрение переставало быть преобладающей и тем более единственной формой выражения духовного творчества в России. В свою очередь, секуляризация русского искусства становилась средством его включения в общеевропейскую традицию, и заслуга Каравака в этом деле бесспорна. Укоренение портрета в России в качестве ведущего жанра светского изобразительного искусства невозможно представить без наставнической роли французского художника, хотя его русские последователи воспринимали далеко не все стилевые приемы учителя.
К середине XVIII в. при русском дворе особое значение приобретает эстетика чувственных наслаждений, первым проводником которой выступил Каравак. «Девушки, почти дети, уже мечтали о любовных утехах, создавали себе сладкий мир грез», «вся жизнь превратилась в театральную декорацию и все разыгрывали роли актеров и актрис, не замечая как иногда грубо сшиты их платья, как картонны декорации и как путает суфлер» [9, с. 11—12], — так исследователи характеризуют придворную атмосферу в России XVIII столетия, сформировавшуюся, в том числе, благодаря мифологическим портретам Каравака, его декоративным работам («палатным уборам», плафонам, картонам для шпалер и т. д.). Значение Каравака в большей степени определяется его дидактической ролью, ибо «школа Каравака и является той первой “иностранной академией”, которая прививает русским мастерам иноземные вкусы и понятия» [8, с. 109]. Подчеркнем — понятия, далекие от глубокой религиозности.
Творческий путь Каравака не исключал обращения к религиозным темам и не был полностью отделен от религиозной жизни мастера, однако сама эта жизнь представляла собой внешнее следование христианским нормам и обрядам без сильного религиозного чувства. Так и в творчестве Каравака художественное лишь номинально оказывается связанным с религиозным. В своей живописи Ка-равак был свободен от религиозного мистицизма и церковных канонов, и эта свобода напрямую вытекала из его социального опыта. В связи с этим следует обратить внимание на незамеченное исследователями обстоятельство: своим успехом придворного живописца Каравак был обязан не только способности добиваться поразительного сходства в изображениях людей — успех художника не в последнюю очередь был вызван его полной личной тождественностью «галантному веку». Далеко не все западноевропейцы, трудившиеся в России, так органично вписывались в светский уклад жизни и с такой полнотой соответствовали потребностям и вкусам жадного до светских наслаждений двора Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Русское общество само по себе еще не было способно генерировать адекватные модернизационным процессам эстетические идеи, оно не обладало выраженным секулярным сознанием, и для успешной модернизации ему нужны были наставники. Каравак как художник и как религиозный тип удачно подходил на роль наставника, он как никто другой был способен стать проводником новой европейской эстетики в России. Личность и творчество Каравака прекрасно отражали дух времени, и в этом их главное значение для развития русской культуры XVIII в.
Список литературы Музеи советского Севастополя: трансформации прошлого во имя будущего
- Акимченков, В. В. В борьбе за советский патриотизм: Севастопольское музейное объединение (1928-1940)/В. В. Акимченков. -М.; Симферополь: Антиква, 2015. -244 с.
- Акимченков, В. В. К истории военно-исторического музея Севастополя в конце 20-х -30-е гг. ХХ века/В. В. Акимченков//Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Исторические науки». -2013. -Т. 26 (65). -№ 2. -С. 3-14.
- Алтанбаева, Е. Б. Марш энтузиастов: Севастополь в 1920-1930 гг./Е. Б. Алтанбаева. -Севастополь: Телескоп, 2008. -384 с.
- Бойцова, Е. Е. Музейное строительство в Севастополе в 1920-е годы/Е. Е. Бойцова, М. В. Онучина. -Севастополь: Рибэст, 2011. -116 с.
- Военно-исторический музей Черноморского флота . -URL://http://sc.mil.ru/social/culture/museums/more.htm?id = 11175@morfOrgCulture (дата обращения 4 августа 2017 г.)
- ГАГС. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 944.
- ГАГС. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 946.
- ГАГС. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 1046.
- ГАГС. Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 1189.
- ГАГС. Ф. Р-183, Оп. 1. Д. 1224.
- ГАГС.Ф. Р-567. Оп. 4. Д. 1.
- Гриневич, К. Э. За новый музей: Херсонесский музей, как первый опыт приложения марксистских идей в музейном строительстве/К. Э. Гриневич. -Севастополь: Государственный Херсонесский музей, 1928. -16 с.
- Гриневич, К. Э. Панорама обороны Севастополя: /К. Э. Гриневич. -Севастополь, 1926. -14 с.
- Грицкевич, В. П. История музейного дела в новейший период (1918-2000)/В. П. Грицкевич. -СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2009. -152 с.
- Жуков, Ю. Н. Становление и деятельность советских органов охраны памятников истории и культуры. 1917-1920 гг./Ю. Н. Жуков. -М.: Наука, 1989. -301 с.
- Клавдиев, С. М. Русские панорамы. Оборона Севастополя. Бородинская битва/С. М. Клавдиев. -М.: Советская Россия, 1972. -136 с.
- Кочергин, П. Потомству в пример/П. Кочергин//Слава Севастополя. -1959. -22 нояб.
- Краткий очерк истории Херсонесского музея -URL: http://chersonesos.org/?p=museum_ hist#a8 (дата обращения 4 августа 2017 г.)
- Кузина, Г. А. Государственная политика в области музейного дела в 1917-1941 гг./Г. А. Кузина//Музей и власть: сб. науч. тр. -М.: Москва, 1991. С. 96-172.
- Малаховский, Н. Легендарный штурм/Н. Малаховский//Слава Севастополя. -1959. -22 нояб.
- Никитина, И. В. Издательская деятельность музея героической обороны и освобождения Севастополя/И. В. Никитина//Культура народов Причерноморья -2006. -№ 81. -С. 71-79.
- Паудяль, Н. Ю. Динамика социальных функций исторических музеев России, 1921-1934 гг.: дис.. канд. филос. наук/Н. Ю. Паудяль -М., 2001. -123 c.
- Равикович, Д. А. Формирование государственной музейной сети (1917 -первая половина 1960-х гг.)/Д. А. Равикович. -М.: б. и., 1988. -151 с.
- Репков, Л. Г. Сапун-гора: путеводитель/Л. Г. Репков, М. П. Авраменко, Е. М. Игумнова. -Симферополь: Таврия, 1974. -72 с.
- Россейкин, Б. М. «Панорама «Оборона Севастополя» /Б. М. Россейкин//Крымовед: сайт. -URL:http://www.krimoved-library.ru/books/panorama-oborona-sevastopolya2. html (дата обращения 4 августа 2017 г.)
- Сдобнякова, Э. Панорама «Оборона Севастополя» открыта/Э. Сдобнякова//Севастопольская правда. -1954. -17 окт.
- Севастополю 200 лет. 1783-1983: сб. документов и материалов. -Киев: Наукова думка, 1983. -416 с.
- Терновский, Г. В. Диорама. Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г./Г. В. Терновский. -Симферополь: Крымиздат, 1960. -28 с.
- Терновский, Г. В. Памятник народного подвига/Г. В. Терновский. -Симферополь: Крымиздат, 1956. -180 с.
- Тимофеев, А. Панорама «Оборона Севастополя»/А. Тимофеев. -Известия. -1954. -15 окт.
- Шавшин, В. Г. Бастионы Севастополя: путеводитель/В. Г. Шавшин -Симферополь: Таврия, 1989. -112 с.
- Шебек, Н. В. Панорама обороны Севастополя 1854-1855 гг.: очерк-путеводитель/Н. В. Шебек. -Симферополь: Крым, 1968. -96 с. и др.