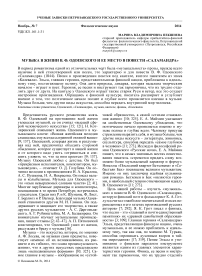Музыка в жизни В. Ф. Одоевского и ее место в повести «Саламандра»
Автор: Пекшиева Марина Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (144), 2014 года.
Бесплатный доступ
В период романтизма одной из отличительных черт была «музыкальность» прозы, прежде всего наличие в ней стихотворений или песен, это характерно и для повести В. Ф. Одоевского «Саламандра» (1844). Песни в произведении поются под кантеле, взятого писателем из эпоса «Калевала». Эльса, главная героиня, представительница финской нации, приближена к идеальному типу, постигающему истину. Она дитя природы, дикарка, которая наделена творческим началом - играет и поет. Героиня, ее песни и инструмент так гармоничны, что их трудно отделить друг от друга. На кантеле у Одоевского играет также старик Руси и ветер, все это создает настроение произведения. Обращаясь к финской культуре, писатель расширяет и углубляет мнение о том, что поэтическое начало полнее и глубже всего проявляется именно в музыке. Музыка больше, чем другие виды искусства, способна передать внутренний мир человека.
Романтизм, одоевский, "саламандра", музыка, кантеле, финны, "калевала"
Короткий адрес: https://sciup.org/14750749
IDR: 14750749 | УДК: 821.161.1-31
Текст научной статьи Музыка в жизни В. Ф. Одоевского и ее место в повести «Саламандра»
Представитель русского романтизма князь В. Ф. Одоевский на протяжении всей жизни увлекался музыкой, ее он считал «высшей сферой человеческого искусства» [15; 121]. Н. Кот-ляревский описывает жизнь Одоевского в музыкальном ключе: «Всякая житейская мелодия слышалась ему всегда сыгранной октавой выше» [9; 137]. Одоевский, созерцая жизнь и раздумывая над ней, предпочитал обходить стороной обыденное, которое существует в нашей жизни и от которого надо уметь «отрешиться и спешить уловить то, что за ним кроется» [9; 137]. Музыку Одоевский любил с детства. Он был «прекрасным исполнителем, композитором, музыковедом», – отмечает О. Д. Голубева. Он сочинял мелодии к произведениям И. А. Крылова, А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова. Он писал вальсы и колыбельные. Музыка для Одоевского – это «язык невыразимых словами чувств» [2; 41]. Многие зарубежные дирижеры и композиторы, посещавшие в то время Петербург, встречались с писателем. Среди них Р. и К. Шуманы, Ф. Лист, Г. Берлиоз и Р. Вагнер. Благодаря музыке Одоевский становится другом М. И. Глинки. Он поддерживает и защищает его творчество, а также других русских музыкантов – А. С. Даргомыжского, А. Г. Рубинштейна, М. А. Балакирева. Он внимательно изучает музыкальные произведения, пишет отзывы [2; 42–47]. А. П. Пятковский констатировал, что Одоевский ушел из жизни, рассуждая в бреду о музыке [16].
Музыка – это искусство, которое, по мнению А. Ф. Лосева, не называя сами предметы, повествует «именно об их возникновении, их расцвете и их гибели», это «сама процессуальность жизни», что в других искусствах представлено лишь «неподвижными формами» [10; 325]. Самое главное в музыке – изображение не «устой чивой образности», а самой «стихии становления жизни» [10; 325]. Е. А. Маймин указывает на свойственные Одоевскому убеждения, что поэтическое начало проявляется именно в музыке полнее и глубже всего. Человеку присуще стремление выразить себя, и музыка больше, чем другие виды искусств – литература, живопись, скульптура, способна передать «самое глубокое в человеке» [11; 273]. Исследуя философский роман Одоевского «Русские ночи», Е. А. Маймин пишет, что в самых значимых местах повествования писатель «стремится придать слову возможно более музыкальный характер и форму». Новеллы «Последний квартет Бетховена» и «Себастьян Бах» посвящены великим музыкантам. Именно «в них заключена идейная кульминация романа». Бетховен и Бах «являются героями, в наибольшей степени отвечающими идеалу В. Одоевского» [11; 273].
Цель нашей работы – изучить «музыкальное» в повести В. Ф. Одоевского «Саламандра», которую финский поэт и фольклорист К. А. Гот-лунд считал «наиболее значительной из всех переведенных в его газетах произведений русских авторов» [7; 292]. Я. К. Грот писал о финнах, что песня – это «главный и почти единственный памятник» их «древней самобытной образованности» [3; 109]. Главная героиня «Саламандры» Эльса, представляющая финскую нацию, очень музыкальна, и ее можно приблизить к идеальному типу, так как она, по мнению М. Турьян, способна «проникать духовным взором в тайны мироздания» [17; 319]. Пение Эльсы и упоминание о финском народном инструменте являются одним из главных элементов характеристики героини. Финка, ее песни и инструмент так гармоничны, что их трудно отделить друг от друга. Все вкупе и составляет финский характер, передает колорит северного народа. Н. А. Янчук пишет, что Одоевский считал важным заниматься «записыванием древних напевов с голосов народа», которые должны сохраниться «в глухих, захолустных местах в слухе народном в их исконном, самобытном виде» [19; 12]. А. Ф. Кони также отмечал, что для Одоевского музыка – это не только удовольствие или отрасль серьезных знаний, это также «средство для сохранения ярких признаков народности», когда человек становится способен перейти от «ощущений повседневной житейской прозы, вызываемых видимым и осязательным, в область невидимого, возвышенного и вечного» [8; 94].
Истории героинь Одоевского – Эльсы в «Саламандре» и Магдалины в «Себастьяне Бахе» – связаны с музыкой. У жены Баха Магдалины через сорок лет «пробудилась при родных звуках» [15; 128] ее итальянская кровь, она вспомнила песни своей матери. Эльса, находясь в Петербурге, не может забыть своей родины. Она «скована во всех движениях, не смеет поднять головы, не смеет пошевелиться, едва смеет курнычать свои печальные финские напевы»:
Плачет девушка в долине, Плачет – только вполовину, Вполовину веселится, Пеньем вечер сокращает До заката, в ожиданье, Что найдет она супруга, Что жених ее обнимет [14; 282].
В доме Зверева у Эльсы не было с собой музыкального инструмента, она вспоминала, как Вяйнемёйнен «из щучьих ребер сделал себе кан-телу, как не знал, откуда взять колки и волос на струны, и в забытьи напевала:
Подари мне дар, девица! С головы один дай локон, Пять волос мне поднеси ты, Дай шестой еще вдобавок, Чтоб у арфы были струны, Чтобы звуки получило Вечно юное веселье [14; 282].
Кантеле и сампо – два удивительных предмета, которые присутствуют в «Калевале», сампо одно, кантеле два. По мнению Лённрота, сампо должно было обеспечить материальное благосостояние, кантеле – символ духовного умиротворения. Они как будто являются двумя половинками одного целого [20; 65]. У Одоевского «Сампо ушло в землю и заплыло камнем, а на земле осталась только кантела» [14; 248]. Финские исследователи повествуют, что в звучании кантеле есть уникальная, таинственная мощь, внутренняя сила, которая заставляет скалы рушиться, вселенную дрожать, природу слушать, а слушателей плакать от радости – большего прославления искусства на финском языке не создано [20; 12].
В начале повести при описании места обитания финской семьи мы замечаем на стене «канте-лу, народный финский инструмент, похожий на лежачую арфу с волосяными струнами, – вот все, чем украшалось бедное жилище рыболова» [14; 246]. Кантеле еще не издает звука, но, видимо, по Одоевскому, не может не украсить избушку. В своих дорожных заметках Элиас Лённрот отмечает, что кантеле можно было найти на стене в каждом доме [21; 97]. Примечательно, что в музыкальном словаре А. Гарраса, который в свое время исправил и дополнил Одоевский, мы встречаемся с подобным определением кантеле: «финский струнный инструмент, род лежачей арфы или гуслей» [6; 68]. У кантеле в истории культуры ни с чем не сравнимая сила. Вяйня-мёйнен и его инструмент стали известны 200 лет назад, после чего воплотились в образы многих письменных и художественных произведений искусства [20; 15]. Именно «Калевала» сделала кантеле на веки вечные национальным инструментом Финляндии. До сих пор кантеле Вяйня-мёйнена – символ финского идентитета [20; 59].
В «Саламандре» первым рождает звук кантеле ветер: «Ветер свистал в волоковое окно, некрепко припертое, иногда пробегал по струнам кантелы, и струны печально, нестройно звучали…» [14; 246]. Благодаря появившемуся звуку писатель погружает нас в атмосферу суровой природы и придает определенный настрой своей повести. В цитате как будто есть музыкальная интонация, сцепляющая звуки с чувствами.
В. М. Жирмунский пишет, что иногда в прозе, «как и в свободном стихе, наличествуют признаки ритмической организации» [4; 103], что кажется уместным рассмотреть и у Одоевского. Читая об игре ветра на кантеле, мы чувствуем определенный ритм или музыку. Обычно для поэта важно не только значение слова, но и звук. Часто звучание «аккомпанирует основному значению, выраженному в словах текста» [5; 90]. «Ветер свистал в волоковое окно, некрепко припертое…»: несколько раз повторяются звуки «в», «э», «о», «к-р», «п-р», «с-т-р». Благодаря им мы слышим ветер, который цепляет, как будто пальцами, струны. В. Е. Холшевников замечает, что в прозе, в отличие от стихотворной речи, все эти явления ощущаются не настолько сильно, они не упорядочены и не организованы. Ритмической прозой практически невозможно написать целое произведение, она появляется лишь «в наиболее эмоциональных частях текста» [18; 5–6] и более распространена в романтической литературе XIX века [4; 108].
-
Н. Я. Берковский пишет, что романтики создают образ героя через лирику и музыку. «Персонажам романтиков достаточно сыграть музыку, свою или чужую, чтобы дать знать о себе, кто они такие» [1; 55]. После ветра финский инструмент попадает в руки старика Руси. Под звуки кантеле он любил рассказывать финские
истории. «Помнишь, дедушка, об рождестве, ты, подыгрывая на кантеле, распевал нам об нашей земле и о том, как о ней спорят калевы с пахио-лами…» [14; 247], – говорит Эльса.
Известно, что романтики полемически относились к литературе, описывающей характеры. Они считали, что характеры «стесняют личность, ставят ей пределы, приводят ее к некоему отвердению» [1; 55]. Для той эпохи важен характер вместе с душой. В душе – возможности человека, в характере – его действительность. Музыка раскрывает характер главной героини произведения Эльсы и ее связь со своим народом. Находясь дома, в своей деревушке, финка выходила на дорогу, «перебирала пальцами по кантеле, пела старинные песни о финском сокровище Сампо и приплясывала» [14; 261]. М. Ту-рьян отмечает, что чухонке понятен язык древних, потому что у нее максимально сохранились элементы первобытного сознания [17; 320].
По Е. М. Мелетинскому, психика человека использует мифы и обряды «главным образом в плане приспособления индивида к социуму», миф гармонизирует отношения человека с «природным окружением» [12; 170]. А. В. Мешко считает, что миф в свое время «определял мировоззренческую модель мира и место человека в нем», а чтобы поддерживать свои представления о мире, о нормах жизни людей, человеку нужен был ритуал, «реактуализирующий эти представления и парадигмы поведения» [13; 508]. Музыке и музыкальным инструментам отводится в ритуале важная роль. Воспринимая звук, человек познает мир, а его воспроизведение дает возможность в ритуальных действиях «реализовать мифологизированное представление о мирозданье» [13; 508]. Можно выделить два назначения музыкального инструмента в мифе: игра нужна для восстановления гармонии в мире и согласия в людях; второе – игра является защитой от враждебных сил [13; 510]. Когда Эльса дома, игра дополняет гармонию, в Петербурге в доме Зверева у нее нет с собой инструмента, она бессознательно защищает себя песней. Необходимо уяснить следующее: существуют понятия «музыкальный» и «анти-музыкальный» мир. Об этом говорит Берковский, когда пишет о творчестве Э. Т. А. Гофмана, в котором Одоевский видел гениального изобретателя чудесного. Гофман под музыкальной стихией подразумевает «слитность и целостность мировой жизни», «в музыке оглашается тайна, скрытая в недрах космоса» [1; 478]. Музыка – это песня природы: деревьев, зверей, воды, камней, цветов. «Природа сама себя как бы положила на музыку, а вот общественные и политические отношения людей музыке враждебны» [1; 479]. «Цивилизация антимузыкальна» [1; 490], для нее важны стандарты, она не спасение, природа же, как музыка, это вечное самообновление.
Героиня «Саламандры» Эльса – дитя природы, дикарка, которая не воспринимает цивилизованный мир, поэтому ее Одоевский наделяет творческим началом: она поет, играет на музыкальном инструменте, она подобна калевальской плакучей березе, из которой Вяйнемёйнен потом сделает кантеле, чтобы вновь появилась в мире музыка. Якко не способен слышать музыку, он «сподвижник Петра I», его сознание «отравлено трихинами буржуазной цивилизации», он лишь жаждет «приумножить свои богатства» [17; 317]. Он не берет в руки кантеле, не поет родных песен.
Сам писатель придавал большое значение музыке в общественной жизни. В своем дневнике он упоминает о разговоре с императрицей, в котором сообщается, что музыка – это «мощное нравственное и умиротворяющее средство», она отвлекает от политических событий [2; 43]. Известно, что особым образом Одоевский относился к вокальной музыке и органу. От А. Ф. Кони мы узнаем, что он изобрел новый инструмент – энгармонический клавесин и сам любил играть на органе [8; 95]. Музыка для Одоевского выше искусства, она неземное создание, она вводит человеческую душу в мир божественный, в ней «человек забывает о бурях земного странствования» [19; 8].
Таким образом, музыка у Одоевского воплощается в повести в песнях и игре на музыкальном инструменте. Она раскрывает характер героев, передает их настроение. Кантеле – уникальный музыкальный инструмент, на котором Одоевский дает поиграть даже ветру. Благодаря такого рода описаниям мы можем говорить о ритмичности, проявляющейся в «Саламандре». Музыка – это также ритуал, который помогает забыть проблемы и восстанавливает гармонию. Она по сути своей ближе к природе, чем к цивилизации. Музыку можно сравнить именно с жизнью, так как она, в отличие от других видов искусства, может быть представлена лишь в процессе.
С. 100–148.
Список литературы Музыка в жизни В. Ф. Одоевского и ее место в повести «Саламандра»
- Берковский Н. Я.Романтизм в Германии. Л.: Худож. лит., 1973. 568 с.
- Голубева О. Д. В. Ф. Одоевский. СПб., 1995. 192 с.
- Грот Я. К. О финнах и народной поэзии//Труды Я. К. Грота. Из скандинавского и финского мира. СПб., 1898. С. 100-148.
- Жирмунский В. М.О ритмической прозе//Русская литература. 1966. № 4. С. 103-114.
- Журавлев А. П.Звук и смысл: Кн. для внеклассного чтения (ѴШ-Х кл.). М.: Просвещение, 1981. 160 с.
- Карманный музыкальный словарь. Музыкальная терминология А. Гарраса, исправленная и умноженная В. Ф. Одоевским и др. М.: Музыкальный сектор, 1930. 133 с.
- Карху Э. Г. Финляндская литература и Россия, 1800-1850. Таллинн, 1962. 343 с.
- Кони А. Ф.Князь Владимир Фёдорович Одоевский//Собрание сочинений. Т 6. М.: Юрид. лит., 1968. С. 76-105.
- Котляревский Н.Старинные портреты. СПб., 1907. 457 с.
- Лосев А. Ф.Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991. 525 с.
- Маймин Е. А.Владимир Одоевский и его роман «Русские ночи»//Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л.: Наука, 1975. C. 247-273.
- Мелетинский Е. М.Поэтика мифа. М.: Наука, 1976. 408 с.
- Мешко А. В. Музыкальные инструменты в мифологии. Особенности формирования образа кантеле в карелофинском эпосе//«Калевала» в контексте региональной и мировой культуры. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010. С. 508-517.
- Одоевский В. Ф.Повести и рассказы. М., 1988. 382 с.
- Одоевский В. Ф.Русские ночи. Л.: Наука, 1975. 327 с.
- Пятковский А. П. Князь В. Ф. Одоевский//Из истории нашего литературного и общественного развития. СПб., 1889. С. 302-303.
- Турьян М.Странная моя судьба. М.: Книга, 1991. 398 с.
- Холшевников В. Е.Основы стиховедения. Русское стихосложение. Л.: ЛГУ, 1972. 75 с.
- Янчук Н. А.Князь В. Ф. Одоевский и его значение в истории русской церковной и народной музыки. М., 1906. 19 с.
- Jalkanen P., Laitinen H., Tenhunen A. L. Kantele. SKS, Helsinki, 2010. 512 s.
- Turunen A. Kalevalan sanat ja niiden taustat. Lappeenranta: Karjalan kirjapaino OY, 1979. 416 s.