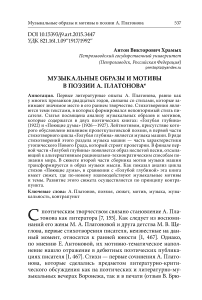Музыкальные образы и мотивы в поэзии А. Платонова
Автор: Храмых Антон Викторович
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.13, 2015 года.
Бесплатный доступ
Первые литературные опыты Платонова, равно как у многих прозаиков двадцатых годов, связаны со стихами, которые занимают значимое место в его раннем творчестве. Стихотворения являются теми текстами, в которых формировался неповторимый стиль писателя. Статья посвящена анализу музыкальных образов и мотивов, которые содержатся в двух поэтических книгах: «Голубая глубина» (1922) и «Поющие думы» (1926-1927). Лейтмотивом, присутствие которого обусловлено влиянием пролеткультовской поэзии, в первой части стихотворного цикла «Голубая глубина» является музыка машин. В ряде стихотворений этого раздела музыка машин - часть характеристики утопического Нового Града, который строят пролетарии. В финале первой части «Голубой глубины» появляется образ неспетой песни, отсылающий к альтернативным рационально-технократическим способам познания мира. В сюжете второй части сборника мотив музыки машин трансформируется в образ музыки мысли. Как показал анализ цикла стихов «Поющие думы», в сравнении с «Голубой глубиной» эта книга имеет сюжет, где по-новому взаимодействуют музыкальные мотивы и темы. Развитие этого сюжета осуществляется по принципу контрапункта.
А. платонов, раннее творчество а. платонова, поэзия, мотив, сюжет, музыкальность
Короткий адрес: https://sciup.org/14748948
IDR: 14748948 | DOI: 10.15393/j9.art.2015.3447
Текст научной статьи Музыкальные образы и мотивы в поэзии А. Платонова
C поэтическим творчеством связано становление А. Платонова как литератора [7, 155]. Как следует из воспоминаний его жены М. А. Платоновой и друга детства М. В. Щеглова, первые стихотворения писателя, неизвестные на данный момент, относятся к ранней юности [1, 467]. Однако, по мнению Е. Антоновой, их мотивно-тематическое наполнение нашло отражение в дебютных поэтических публикациях писателя [1, 467]. Стихи — первые сочинения А. Платонова, которые сделались предметом литературно-критического обсуждения как на поэтических и литературно-музыкальных вечерах Воронежа, так и в печати (отзыв В. Брю- сова на первую поэтическую книгу Платонова «Голубая глубина» [3], статья В. Келлера «Андрей Платонов», представленная в первом номере журнала «Зори» за 1922 год [5] и др.). Значительное число стихотворений А. Платонова (85) написано с 1918 по 1922 год и лишь около 10 — с 1923 по 1926 год. Опыты в области стихосложения во многом определили уникальный художественный язык Платонова, насыщенный поэтическими приемами [19, 227], [20, 31—36].
Большая часть стихотворений воронежского периода представлена в двух поэтических книгах: книге стихов «Голубая глубина», опубликованной в 1922 году, и неопубликованном стихотворном сборнике «Поющие думы» (1926— 1927). Предмет анализа в данной статье — музыкальные образы и мотивы этих циклов. Наша задача состоит в том, чтобы проследить реализацию музыкальных мотивов в отдельных стихотворениях и в строении данных циклов.
Первую часть «Голубой глубины» предваряет предисловие редактора, где выделены несколько значимых тем, образов и мотивов, которые разрабатываются в цикле. Автор предисловия отмечает следующее: «У Платонова, молодого гиганта, познавшего коллектив, машину, производство, но не порвавшего еще с деревней <…> два перепева: фабричного гудка, потной работы <…> коллективного творчества, мощи Нового Града, с одной стороны, и поля, степи голубой глубины, ржаных колосьев, “Мани с Усмани” и большой дороги со странником Фомой — с другой» [9, 5]. «Эти два главных мотива резко разграничивают поэзию Платонова», — резюмирует редактор [9, 3]. Такого рода наблюдения, пусть и поверхностно, но характеризуют содержание первой и третьей частей сборника, которые посвящены, соответственно, пролетарско-индустриальной тематике, а также пейзажным зарисовкам и описанию сельской жизни. Второе утверждение более спорно: вряд ли можно говорить о жестком разделении этих тем в поэтике данного цикла, где уже намечается сложное мотивное строение, свойственное более зрелым сочинениям писателя.
В заключительной части вступления автор предисловия так говорит о молодом писателе: «Его поэзия — поэзия борь- бы, огромного, внутреннего напряжения, постоянной активности. Борьба, действие — главный, уже созревший, выношенный Платоновым мотив» [9, 5]. Колоссальное внутреннее напряжение свойственно духовной активности А. Платонова как таковой; что же касается мотива борьбы, то ситуация противостояния революционного пролетариата природе, старому миру и вселенной в целом представлена преимущественно в первой части сборника.
Финальные строки предисловия представляют собой пассаж, в котором зафиксирована взаимосвязь творческой деятельности А. Платонова с его работой в качестве изобретателя и инженера: «И сейчас Платонов на практике творит свою “песню” — песню о победе молодого человечества над старухой природой: он изобрел простейшую, но усовершенствованную гидрофикационную турбину» [9, 5]. Примечателен и факт метафорического употребления лексемы «песня», отсылающий к пролеткультовской семантике музыкальной темы в первой части «Голубой глубины».
В этой части «Голубой глубины» музыка машин — часть структуры образа Нового Града, утопического локуса, который создается силами революционного пролетариата. Примечательно, что в воронежской прозе А. Платонова образ города нередко имеет музыкальную характеристику («Заметки» (1921), «В звездной пустыне» (1921), «Рассказ о многих интересных вещах» (1923), «Родоначальники нации» (1927), «Рассказ не состоящего больше во жлобах» (1923)). В последнем из перечисленных рассказов есть следующие строки: «Стоят дома, несоразмерные с человеком. Идет человек, крутит тростью и лопочет неведомо что. Играет где-то жалостная музыка. Жутко и чудно нам. Далеко остались матери и сестры — жалко их стало, зря дома не любили их как следует» 1 .
«Голубую глубину» открывает стихотворение «Гудок» (1919), написанное под влиянием сочинения А. К. Гастева «Гудки» (1913). «Гудок» Платонова, как и указанное стихотворение в прозе Гастева, посвящен теме революционного преобразования мира: «Мы — гудок, кипящий мощью, / Пеной белою котлов, / Мы прорвемся на дороги, / На далекие пути, / <…> Мы рванемся на вершины / Прокаленным острием! / Брешь пробьем в слоях вселенной, / Землю бросим в горн!» (360). Музыка машин — один из лейтмотивов пролеткультовской поэзии. Противопоставленная уходящему миру и его нетрудовой эстетике, она стала символом прорыва в чаемое грядущее. Обозначенная семантика музыкального мотива близка исполнению производственной темы в двух произведениях музыкального авангарда: экспериментальном сочинении композитора А. Авраамова «Симфония гудков» (1918) и оркестровой пьесе А. Онеггера «Пасифик 231» (1923), где в стилистике конструктивизма изображено движение одноименного паровоза.
Музыка машин является лейтмотивом и первого раздела «Голубой глубины». Музыкально-производственная тематика получает развитие в стихотворении «Вселенной»: «Отдайся сегодня, вселенная, / Зацветай, голубая весна, / Твоя первая песня весенняя / В раскаленных машинах слышна» (402). В данном стихотворении образ весны, как и в стихах М. Герасимова, А. Самобытника, приобретает символический характер и отражает отказ певцов новой цивилизации от естественного цикла времен года. Мотив слушания обозначает стремление лирического героя познать «невесту-тайну» и актуализирует в подтексте одну из главных сюжетных линий «Голубой глубины» — лейтмотив тайны. Общая для пролетарской эстетики поэтизация машин получает у Платонова специфическую разработку: людям не дано услышать музыку вселенной, ведь они воспринимают ее через посредника — машину, которая вместе с тем отчуждает людей от мира.
В стихотворении «К звездным товарищам» мотив пения — часть яркой характеристики пролетарского мироздания (1920): «Мир стал громок и запел в машине, / Бесконечность меряет великий машинист. / Где луна одна веками стынет — / Наших сверл могучих ураганный свист» (402). Пространственная характеристика приобретает глобальный характер: вся земля предстает одной большой машиной, «городом в сверкающем железе». Новый космос обретает в машине свое звуковое выражение.
Н. Малыгина отмечает восприятие ранним Платоновым «некоторых положений эстетической концепции А. Богданова и А. Гастева, идей анонимности, машинизма, отождествления искусства с техническим творчеством» [12, 72]. В «Динамо-машине» «живое сердце» машины — источник песни новой жизни: «Из таинственных колодцев / Вверх, на горб, машины с пеньем / Вырываются потоки — там живое сердце бьется» (334). Машина предстает антропоморфным существом: уродливым (горбатым), но всесильным, которое «дышит миллионом волн», в то время как люди — всего лишь придатки этого высшего продукта цивилизации. В этом стихотворении мотив пения представлен как «песнь глубин немых металла», которая звучит «из таинственных колодцев» машины и устремлена «вверх». Он развивает заглавную тему «Голубой глубины» и мифологическую оппозицию: верхнее / нижнее, где «глубина — нижнее — устремление вниз “долу”, а небо — верхнее — устремление ввысь» [4, 493]. В стихотворении «Сгорели пустые пространства» декларируется окончательная победа над смертью и тайной мироздания: «Бессмертные странники странствуют, / Каждый все тайны постиг» (408).
В стихотворении «К звездным товарищам» музыка машин («Мир стал громок и запел в машине…») — часть описания фантастического города-машины, который занимает весь земной шар. Земля предстает космическим кораблем — «птицей электрической»; однако далее образ Нового Города теряет природные характеристики и трансформируется в «милитаристский»: «Город улетающий в сверкающем железе — / Небо прорывающий таран. / Мы проломим двери в голубом навесе / К пролетариям планетных стран» (406).
В стихотворении «Май», написанном по случаю трудового праздника Первого мая: «И в огне восторга поднимаем молот, / Разрушаем горы на своих путях… / По земным пустыням строим Новый Город, / Запоют машины в каменных сетях» (372) — Платонов говорит о музыке машин как о феномене будущего времени, который обозначает конечный этап созидания Нового Города. Выражение «запоют машины в каменных сетях», вызывая ассоциации с певчими птица- ми, помещенными в клетки, вводит лейтмотив покорения природы, тем самым отражает стремление пролетариев победить природу, построив новую цивилизацию.
В стихотворении «Познаны нами тайны вселенной» вновь возникает утопический образ города пролетариев: «Полон восторга пламенный город, — / Люди, машины, цветы… / Каждый сегодня богом быть может, / Солнце над каждым горит» (404). Здесь Новый Город — принадлежность не будущего, а настоящего, и хотя мощь человеческого сознания декларируется как богочеловеческая, музыкальная тема в описании отношений Нового Града с миром оформлена по принципу контрапункта: «Медный гудок заревел над планетой, / Пространства, подъемы нас ждут. / В жизни бессмертной, как в песне неспетой, / Звезды звенят и поют», — фиксируя тем самым трагическую неполноту человеческого знания о мире.
Представленное в стихотворении «Познаны нами тайны вселенной…» мироощущение трагически остро отражено в стихотворении «Судьба» — одном из начальных стихотворений первого раздела «Голубой глубины»: «Музыка на празднике гибелью гремит: / Кинулись товарищи в улицы на бой. / Далеко, за гибелью, спасение летит / С пополам разрубленной, конченной судьбой» (398). Мотив музыки, гремящей гибелью, контрапунктически сочетается с геро-ико-пролетарским пафосом пролеткультовских стихотворений, где пролетариат позиционируется как «Новый мессия». В данном стихотворении музыкальный мотив, приобретя семантику смерти, «разоблачает пролетариат как лжемес-сию: идет разрушение мира, а не его спасение» [17, 356]. Цитированные строки показывают, что «в художественном сознании Платонова постепенно оформляется апокалиптическая картина революционного времени» [17, 356].
Образ неспетой песни делает финал первой части «Голубой глубины» открытым, указывая на необходимость обращения к иным, альтернативным рационально-технократическим способам познания и освоения мира. Один из них — приобщение к сокровенным песням космоса («песням звезд»), через своего рода музыкальный диалог, восходящий к слушанию «мирового оркестра» А. Блока и «песни жизни» А. Белого.
В сюжете второй части сборника отсутствуют индустриальная тема и мотив музыки машин, а на смену коллективному герою, стремившемуся постичь тайну рассудком, приходит лирический герой, который приобщается к ней интуитивно. Предметом изображения становится внутренний мир личности. Этому посвящены первые два произведения второй части: «Из поэмы “Мария”» (1921), «Сердце в эти дни смертельно и тревожно…» (1920).
В центр поэтического сочинения «Из поэмы “Мария”» поставлена проблема взаимосвязи внутреннего мира человека, микрокосма, и мира внешнего, макрокосма, которая разрабатывается посредством музыкальных мотивов. Связующим звеном между «сердца песней вечной» (музыка «внутренняя») и «голубой песней песен» (музыка «небесная») является тема любви, в подтексте которой присутствуют ми-фологически-христианские коннотации. «Небесная» музыка играет определяющую роль в становлении «поющих дум» лирического героя: «Голубая песня песней / Ладит с думою моей» (287).
В стихотворении «Сердце…» музыка мысли становится частью характеристики человека, который может быть интерпретирован как «био-социо-культурное существо» (определение С. Лебедева. — А. Х. ): «И человек задумчиво поет, / Он ждет веками дальнюю звезду, / Себе гнезда он в мире не совьет, / И любит сердце пустоту» (305). Разговор о душе, песнях-думах и сердце человека происходит в «минорных» тонах. Сердце и душа лирического героя — в разладе. Специфика художественного времени в этом стихотворении: «Прежде времени — над миром древний вечер» — отражает динамику художественного времени всего сборника. Если в первой части вектор времени направлен от «проклятого» прошлого, где остались «замолкшие в могилах дети» («Последний шаг»), к светлому будущему, (что было характерно для пролетарской литературы в целом), то в последующих двух частях это прошлое возвращается.
Если в ряде сочинений этого периода интеллектуальная активность человека была направлена, подчас весьма агрессивно, вовне («Дети»): «Оборвем мы вальс тоскующий — / Танец звезд, далеких девушек» (294), — то в стихотворении «Сердце…» изображен процесс музыкально-медитативного погружения индивидуума внутрь себя: «И человек задумчиво поет» (305). Музыкальному мотиву «возвращена» традиционная культурная семантика: пение и музицирование вообще — способы рефлексии.
Музыка машин как смысловая доминанта первой части трансформируется в образ музыки мысли, который ярко представлен в завершении второго раздела — в стихотворении «Когда я думаю, я слышу музыку…» (60). Первый стих воспринимается как парафраз построений немецких романтиков (Гофмана, Новалиса, Тика), утверждавших, что «мыслить звуками — это выше, чем мыслить понятиями» [19, 100]. «Разве не дозволено, разве не возможно мыслить тонами и музицировать словами и мыслями?» — задавался вопросом Л. Тик в «Симфонии» к комедии «Перевернутый мир» (1799) [13, 133].
Тютчевский мотив «поющих дум» («Silentium!», 1830) Платонов выносит в заглавие цикла из пяти стихотворений «Поющие думы». В «Silentium!» Тютчев апеллирует, по мнению Ю. Лотмана, именно к эстетике немецких романтиков [8, 594], которые проводили идею о невозможности адекватного выражения мысли в слове и, соответственно, позиционировали музыку как «совершенное средство познания мира», как искусство, могущее «идеально выразить внутренний мир индивида, не передаваемый понятийным языком логики» [10, 44].
Лирический герой А. Платонова слышит, как «поют далеко голоса», что может быть истолковано и как знак «музыкальности» предметов мыслей лирического «я», и как знак поющего мироздания, к тайнам которого можно приобщиться только посредством слуха, в том числе обратившись вглубь себя, руководствуясь внутренним камертоном. В пользу такой модели гармонизации отношений человека и мира свидетельствует в стихотворении семантика мотива музыки мысли. Если в технократической утопии Платонова «Потомки солнца» (1922) музыка мысли отчуждена от людей — овеществлена, машинизирована: «Земля была превращена в обитель поющих машин, где не стихает музыка мысли, превращенная в вещь» (226), — то здесь музыке человеческой мысли возвращено живое творческое начало. Однако и в стихотворении «Когда я думаю, я слышу музыку…» взаимоотношения человека с жизнью трагически напряжены. Лирический герой предстает «слепым узником», существующим во тьме.
Тема продолжена в стихотворении «Слепой». Отсутствие зрения снимает с жизни покров «очевидного» и обостряет способность индивидуума постигать сокровенное посредством слушания [16, 514], [18, 559]. Именно дар слушать и слышать, таким образом, приобретает характер прорыва к истине и на уровне индивида (лирического героя), и на уровне народного бытия.
В стихотворении «Мужик» проводится мысль о том, что исполнение песен — одно из средств преодоления народом повседневной обыденности: «А заботу скинешь — песню запоешь, / С огорода в подголосок воет кум» (332). Народу — той его части, которая сохранила веру в Бога, — открыта небесная музыка: «Серебряные струны в небесах поют…» («Мальчик», 381) — музыка, от которой отреклись пролетарии-революционеры, внимающие песне машин. Небесной музыке синонимичен по своей семантике такой неотъемлемый компонент народной культуры, как колокольный звон («Русь»), который «в православной традиции воспринимался как глас божий, призывающий в храм на молитву» [6, 149]. Народ, каким рисует его Платонов в «Голубой глубине», может быть «нем» («Дорога»), но обладает способностью слышать; лирический же герой становится его (народа) голосом.
Музыкальные мотивы в «Голубой глубине» развиваются, если сравнивать их с «типовым» музыкальным сюжетом пролеткультовской поэзии, по контрапунктическому принципу ракохода: от музыки машин — к слушанию музыки мира. Таким образом, гносеологическую перспективу в му- зыкальном сюжете «Голубой глубины» Платонова получил мотив слушания, поэтической декларацией которого в классической русской литературе было стихотворение Тютчева «Silentium!». Принцип слушания стал базовым в художественно-философской стратегии Платонова, начиная с его первой книги стихов.
В поэтический сборник «Поющие думы» вошли 40 стихотворений 1918—1926 годов. Сборник имеет «музыкальное» название, которое указывает на наличие музыкального сюжета, а также дает основание предполагать, что структуре книги свойственна «музыкальность». В этом цикле А. Платоновым продолжена разработка темы человека и мира. Как показал анализ, по сравнению с поэтическим сборником «Голубая глубина» (1922), эта книга имеет иной сюжет, в котором по-новому взаимодействуют темы musica mundana (мировая музыка) и musica humana (музыка человеческая).
В «Поющих думах», равно как и в «Голубой глубине», сопряжение тем musica humana и musica mundana являет поэтический конфликт. В первой части стихотворного сборника 1922 года данный конфликт разрешался торжеством человеческой музыки. Ее высшим проявлением сделалась музыка машин, которую Платонов интерпретирует как мировую музыку будущего. В стихах же, обрамляющих, условно, экспозиционную часть «Поющих дум» («В моем сердце песня вечная» и «Вечерние дороги»), отсутствует конфликтное сопряжение тем musica humana и musica mundana. В первом из них лирический герой, познавший любовь, изображен как человек, способный ощутить мировую (божественную) музыку: «Голубая песня песней / Ладит с думою моей» (287). Однако в третьем стихотворении цикла («Среди страны») гармония человека и мира — в прошлом. Лирический герой признает свою неспособность полностью понять музыку природы и мир, который дан в образе незнакомого странника: «Мне незнакомо тихой птицы пенье, / И странен мир — веселый и босой» (290). Мысль о сокровенности природы контрапунктически сочетается с идеей (берущей начало в творче- стве немецких романтиков) о том, что музыка — «выраженный в звуках праязык природы» [10, 48].
В последующих стихотворениях («Мы дума мира темного…», «Богомольцы», «Без сна, без забвенья шуршат в тесноте…») герой — революционное «мы» — апологет нового мира. Его дума-«меч» о создании утопического пролетарского мироздания уже в девятом стихотворении представлена как угрожающая жизни. В сочинении «Мир родимый, я тебя не кину…» появляется образ неспетой «песни песней»: «Песня песней, ты никем не спета, / Оттого не слышу я травы» (297). Этот мотив, отсылающий к переосмысленному пролетарской эстетикой библейскому образу Песни песней («Интернационал» как революционная «песня песней»), констатирует как неосуществленность чаяний, отраженных в «песни песней революций», так и осознание лирическим героем своей невозможности понять даже траву. Трагизм такого положения человека в мире частично снимается в стихотворении «Вечерние дороги», где связующим звеном между музыкой человеческой и пространством горним («Звезды вечером поют над океаном») становится плач: «Песня в поле жалуется долго, // Плачут звездами небесные края» (298).
Темы musica mundana и musica humana получают в сюжете «Поющих дум» принципиально иную разработку. Ситуация, когда музыка человеческая воспринимается как отражение музыки мировой, и при этом человек находится в состоянии гармонии с внешним миром, означена лишь в стихотворении «Когда я думаю, я слышу музыку…», которое в черновиках имело название «Поющие думы» (611). Его лирический герой напоминает романтического героя-музыканта и одновременно относится к типу платоновских персонажей, «чутких к музыке мира» [11, 297]. Одним из проявлений человеческой музыки становятся песни и частушки, исполняемые косноязычными представителями социального дна («Песня», «Мужик» и др.), для которых пение — редкий способ самовыражения. В «деревенских» стихотворениях тему musica mundana являет мотив колокольного звона. Если в стихотворении «Ветхая Русь» церковный звон пред- стает в своей традиционной роли: как голос Бога, способный вывести «добрых дедов» из состояния экзистенциального сна, — то в стихах «По деревням колокола / Проплачут об умершем боге…» этот музыкальный образ указывает на трагичность мироздания, где нет Бога.
О сознательном умерщвлении революционерами «божьей души» говорится в стихотворении «Динамо-машина», где на первый план выходит музыка машин — новое, дисгармоничное по своей сути, воплощение musica humana, создаваемое людьми, которые утратили связь с макрокосмом: «Мы до ночи, мы до смерти — на машине, только с ней» (334) — и устранили из «микрокосма» и душу, и Бога. Героический пафос революционного пролетариата, творца новой музыки машин, снимается в стихотворении «Конец света» (1922), последнем в цикле. Человеческая музыка, подчиняясь музыке машин, приобретает механический характер: «И будет шаг наш песней мерной» (335). Musica mundanа здесь отсутствует, а ее место занимает образ трагически погибающего кричащего мира («Ты слышишь: мир кричит!»). Процесс творения нового мира изображен как умерщвление живого антропоморфного существа, что заставляет вспомнить образ «веселого и босого» мира из стихотворения «Среди страны».
Развитие музыкальных мотивов (от изображения гармоничных отношений человека и мира, когда песня-дума человека «ладит» с музыкой мира, — к его уничтожению, фиксируемому музыкой машин, предвещающей конец света) прямо противоположно тому, как развертывается музыкальная тема в первой книге стихов «Голубая глубина», в которой происходит переход от новой, «машинной» музыки — эмблемы утопического пролетарского мироздания — к вечной музыке космоса, что отсылает к антично-христианской традиции. В «Поющих думах» развитие музыкального сюжета осуществляется по нескольким идущим параллельно и противоречащим друг другу линиям, что можно охарактеризовать как принцип контрапункта [13, 112].
Список литературы Музыкальные образы и мотивы в поэзии А. Платонова
- Антонова Е. Стихотворения. 1918-1927//Платонов А. П. Сочинения. -М.: ИМЛИ РАН, 2004. -Т. I. -Кн. 1 -С. 467-484.
- Антонова Е. О датировке стихотворений книги Платонова «Голубая глубина»//Творчество Андрея Платонова: Исследования и материалы. -Вып. 3. -СПб.: Наука, 2004. -С. 296-321.
- Брюсов В. Среди книг//Печать и революция. -1923. -№ 6. -C. 69-70.
- Ивлев В. «Голубая глубина»: к семантике заглавия//«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. -Вып. 3. -М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2003. -С. 492-500.
- Келлер В. Андрей Платонов//Зори. -1922. -№ 1. -С. 9.
- Корниенко Н. В. Колокольный звон в «Чевенгуре» (некоторые контексты интерпретации и комментария)//Роман «Чевенгур» А. Платонова. Авторская позиция и контексты восприятия. -Воронеж: изд-во ВГУ, 2004. -С. 145-165.
- Ласунский О. Г. Житель родного города: Воронежские годы Андрея Платонова, 1899-1926. -Воронеж: Изд-во ВГУ, 1994. -288 с.
- Лотман Ю. М. Поэтический мир Ф. Тютчева//Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. -СПб.: Искусство-СПб., 1996. -С. 565-594.
- М. Ю. Предисловие//Платонов А. П. Голубая глубина. -Краснодар, 1922. -С. 3-7.
- Магомедова Д. М. «Музыкальное» в литературе//Литературоведческие термины: материалы к словарю. -Коломна, 1999. -Вып. 2. -С. 43-48.
- Малыгина Н. М. Андрей Платонов: поэтика «возвращения». -М.: ТЕИС, 2005. -334 с.
- Малыгина Н. М. Эстетика Андрея Платонова. -Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 1985. -145 с.
- Махов А. Е. Musica literaria: идея словесной музыки в европейской поэтике -М.: Intrada, 2005. -223 с.
- Махов А. Е. Музыкальное в литературе//Литературная энциклопедия терминов и понятий. -М.: Интелвак, 2001. -С. 131-134.
- Соллертинский И. И. Романтизм, его общая и музыкальная эстетика//Соллертинский И. И. Музыкально-исторические этюды. -Л.: Государственное музыкальное издательство, 1963. -С. 99-113.
- Спиридонова И. А. Природа «сокровенного» в творчестве А. Платонова//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. -Вып. 7: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 4. -С. 513-524.
- Спиридонова И. А. Христианские и антихристианские тенденции творчества Андрея Платонова 1910-1920-х годов//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. -Вып. 3: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 1. -С. 348-361.
- Спиридонова И. А. Эпитет «ветхий» в художественном мире А. Платонова (на материале «Чевенгура» и военных рассказов)//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. -Вып. 8: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 5. -С. 538-570.
- Толстая Е. О связи низших уровней с высшими//Толстая Е. Мирпослеконца. Работы о русской литературе XX века. -М.: РГГУ, 2002. -С. 227-393.
- Шубин Л. А. Поиски смысла отдельного и общего существования. Об Андрее Платонове: работы разных лет. -М.: Советский писатель, 1987. -368 с.
- Антонова Е. Стихотворения. 1918-1927//Платонов А. П. Сочинения. -М.: ИМЛИ РАН, 2004. -Т. I. -Кн. 1 -С. 467-484.
- Антонова Е. О датировке стихотворений книги Платонова «Голубая глубина»//Творчество Андрея Платонова: Исследования и материалы. -Вып. 3. -СПб.: Наука, 2004. -С. 296-321.
- Брюсов В. Среди книг//Печать и революция. -1923. -№ 6. -C. 69-70.
- Ивлев В. «Голубая глубина»: к семантике заглавия//«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. -Вып. 3. -М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2003. -С. 492-500.
- Келлер В. Андрей Платонов//Зори. -1922. -№ 1. -С. 9.
- Корниенко Н. В. Колокольный звон в «Чевенгуре» (некоторые контексты интерпретации и комментария)//Роман «Чевенгур» А. Платонова. Авторская позиция и контексты восприятия. -Воронеж: изд-во ВГУ, 2004. -С. 145-165.
- Ласунский О. Г. Житель родного города: Воронежские годы Андрея Платонова, 1899-1926. -Воронеж: Изд-во ВГУ, 1994. -288 с.
- Лотман Ю. М. Поэтический мир Ф. Тютчева//Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. -СПб.: Искусство-СПб., 1996. -С. 565-594.
- М. Ю. Предисловие//Платонов А. П. Голубая глубина. -Краснодар, 1922. -С. 3-7.
- Магомедова Д. М. «Музыкальное» в литературе//Литературоведческие термины: материалы к словарю. -Коломна, 1999. -Вып. 2. -С. 43-48.
- Малыгина Н. М. Андрей Платонов: поэтика «возвращения». -М.: ТЕИС, 2005. -334 с.
- Малыгина Н. М. Эстетика Андрея Платонова. -Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 1985. -145 с.
- Махов А. Е. Musica literaria: идея словесной музыки в европейской поэтике -М.: Intrada, 2005. -223 с.
- Махов А. Е. Музыкальное в литературе//Литературная энциклопедия терминов и понятий. -М.: Интелвак, 2001. -С. 131-134.
- Соллертинский И. И. Романтизм, его общая и музыкальная эстетика//Соллертинский И. И. Музыкально-исторические этюды. -Л.: Государственное музыкальное издательство, 1963. -С. 99-113.
- Спиридонова И. А. Природа «сокровенного» в творчестве А. Платонова//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. -Вып. 7: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 4. -С. 513-524.
- Спиридонова И. А. Христианские и антихристианские тенденции творчества Андрея Платонова 1910-1920-х годов//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. -Вып. 3: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 1. -С. 348-361.
- Спиридонова И. А. Эпитет «ветхий» в художественном мире А. Платонова (на материале «Чевенгура» и военных рассказов)//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. -Вып. 8: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 5. -С. 538-570.
- Толстая Е. О связи низших уровней с высшими//Толстая Е. Мирпослеконца. Работы о русской литературе XX века. -М.: РГГУ, 2002. -С. 227-393.
- Шубин Л. А. Поиски смысла отдельного и общего существования. Об Андрее Платонове: работы разных лет. -М.: Советский писатель, 1987. -368 с.