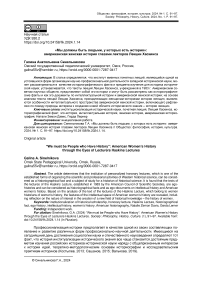«Мы должны быть людьми, у которых есть история»: американская женская история глазами лекторов лекции Хаскинса
Автор: Синельникова Г.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье определяется, что институт именных почетных лекций, являющийся одной из устоявшихся форм организации научно-профессиональной деятельности западной исторической науки, может рассматриваться в качестве историографического факта и предмета изучения для историка исторической науки; устанавливается, что тексты лекций Лекции Хаскинса, учрежденной в 1983 г. Американским советом научных обществ, представляют собой эго-истории и могут быть рассмотрены как историографические факты и как эго-документы по интеллектуальной истории и американской женской истории; на основе анализа текста лекций Лекции Хаскинса, принадлежащих женщинам-историкам истории женщин, выявляются особенности интеллектуального пространства американской женской истории, включающего рефлексию по поводу природы интереса к созданию новой области исторического знания - истории женщин.
Институционализация исторической науки, почетная лекция, лекция хаскинса, историографический факт, эго-история, интеллектуальная история, женская история, американская историография, натали земон дэвис, герда лернер
Короткий адрес: https://sciup.org/149144765
IDR: 149144765 | УДК: 930.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.1.14
Текст научной статьи «Мы должны быть людьми, у которых есть история»: американская женская история глазами лекторов лекции Хаскинса
Омский государственный педагогический университет, Омск, Россия, ,
,
Одной из форм организации научно-профессиональной деятельности, в том числе и историко-профессиональной является практически отсутствующий в отечественной традиции, но хорошо укорененный в западной, институт именных почетных лекций. Достаточно сказать, что некоторые именные почетные лекции имеют более чем столетнюю историю (Лекция Кларка, посвященная темам английской литературы, действует в знаменитом английском Тринити-колледже с 1888 г.), хотя большинство именных почетных лекций (о которых обязательно упоминают в перечне заслуг историка, если он был их приглашенным лектором, наряду со всеми его трудами и должностями) было учреждено во второй половине ХХ в. Наличие именной почетной лекции, а иногда и не одной, в университете или научной ассоциации является признаком «хорошего тона», свидетельствуя как о достижениях, так и об исследовательских претензиях научного учреждения. Так, например, в Чикагском университете на гуманитарном отделении в настоящее время читается несколько именных почетных лекций: Лекция Фредерика Айвза Карпентера утверждена в честь специалиста по литературе Средневековья и Возрождения в 1925 г., Лекция Зигмунда Х. Данцигера-младшего с 1988 г. посвящена классической литературе, понимаемой, правда, достаточно широко (в 1989–1990 гг. ее читала историк Н.З. Дэвис), Лекция Джин и Гарольда Госсеттов по проблемам современной еврейской культуры установлена в 1997 г., Лекция Джун и Гарольда Патинкинов по истории Израиля и др.1 Тема почетной лекции, как правило, определяется родом занятий и достижений ученого, именем которого она названа.
Представляется, что в качестве историографического факта и возможного предмета изучения для историка исторической науки может выступать не только сам институт именных почетных лекций, но и отдельная именная «почетная лекция» (в частности, можно выявить динамику изучения проблемы, определяющей содержание данной серии лекций), а также отдельная прочитанная лекция (как факт интеллектуальной биографии лектора). Учитывая все сложности с определением и соотнесением содержания понятий «историографический факт» и «историографический источник» (Ипполитов, 2013), следует признать, что тексты прочитанных лекций (в любом варианте их фиксации) могут рассматриваться как особый вид историографических источников, очевидно нуждающийся в осмыслении его гносеологического потенциала посредством научной критики, в том числе и научной критики отдельных именных «почетных лекций».
Лекция Хаскинса, учрежденная в 1983 г. Американским советом научных обществ (ACLS)2 в честь первого его председателя Чарльза Гомера Хаскинса (1920–1926), представляет особый интерес для историков исторической науки: всех ее лекторов просят не об обычном изложении взглядов по поводу какой-либо научной проблемы, но предлагают поразмышлять и вспомнить «всю свою жизнь в качестве ученого», акцентировав внимание на мотивах, принятых решениях, удовлетворенностях или неудовлетворенностях своей жизнью познания3. Призванная отдать должное «выдающимся гуманитариям» за их академические заслуги Лекция Хаскинса читается на ежегодном собрании Совета и имеет общее для всех лекций серии название «The Life of Learning», которое лучше перевести как «Жизнь знания», так как лекторы рассказывают не только о своей «жизни познания» (формирование и развитие идейного арсенала, определяющего ход и результаты исследовательской деятельности), но и о своей «жизни образования» (как в качестве обучающегося, так и в качестве обучающего).
Установление Лекции Хаскинса удовлетворило имеющийся в сообществе американских гуманитариев запрос на знакомство с историей научной жизни, написанной исследователем собственноручно и, как следствие, создало механизм производства таких текстов. Любопытно, что в это же время аналогичный интерес обнаруживается во Франции: в 1987 г. был опубликован сборник эссе «Опыты эго-истории», в котором французские историки описывали историю собственной научной жизни. Это позволило известному историку П. Нора, автору идеи и составителю сборника, объявить о рождении эго-истории (как текстов, входящих в предметное поле интеллектуальной истории) и даже о начале ломки классической системы исторического объективизма4. Что касается российской историографии, то при всей неоднозначности определения содержания понятий «эго-история» и «эго-документ» (Зарецкий, 2021: 188–189; Филатова, 2018: 32–33), у исследователей сохраняется устойчивый интерес к научной критике эго-источников, направленный на выявление их гносеологического и информационного потенциала по конкретным проблемам.
В этой связи эго-истории Лекции Хаскинса могут быть рассмотрены и как историографические факты, и как источники по интеллектуальной истории.
В 2023 г. сорок первую лекцию Лекции Хаскинса прочел профессор, директор Центра африканских и афроамериканских исследований Хатчинса при Гарвардском университете Генри Луис Гейтс мл., продолжив список «выдающихся гуманитариев», перечень которых свидетельствует, что подавляющее большинство приглашенных лекторов – историки (кстати, сам Чарльз Гомер Хаскинс был медиевистом), а имена некоторых из них хорошо известны российским ученым: английский социальный историк Лоуренс Стоун (1985), клиометрист Роберт Уильям Фогель (1996), исследователь истории раннего Нового времени Натали Земон Дэвис (1997), историк поздней Античности и раннего Средневековья Питер Браун (2003), профессор интеллектуальной истории Питер Гэй (2004). Очевидно, что представители американских научных сообществ связывали и связывают перспективы развития гуманитарного знания, прежде всего, с исследованиями в области истории (Синельникова, 2022: 34).
Знакомство с проблематикой научных трудов и организационно-преподавательской деятельностью приглашенных лекторов-историков позволяет заметить, что с середины 2000-х гг. появляется определенный тренд в выборе «выдающегося гуманитария», отражающий явно выраженный интерес к жизни историков, специализирующихся на изучении женской/гендерной истории. Так, Н.З. Дэвис (1928–2023) стала первым историком Лекции Хаскинса, в списке достижений которой особо отмечался вклад в развитие женских и гендерных исследований (наряду с вкладом в развитие междисциплинарных исследований и изучением истории еврейства); в 2005 г. лекцию прочла Герда Лернер (1920–2013), выдающийся ученый в области женской истории, автор первого академического курса женской истории, в честь которой Организация американских историков учредила премию за лучшую докторскую диссертацию по истории женщин США; в 2007 г. в качестве лектора была приглашена искусствовед Линда Нохлин (1931–2017), автор нашумевшей статьи «Почему не было великих женщин-художников?», известная также своей деятельностью по продвижению женщин-художников; в 2016 г. лектором стала Синтия Энлоу (1938), в честь которой в 2015 г. «Международный феминистский журнал политики» учредил премию за новаторские феминистские исследования в области международной политики и политической экономии, за вклад в создание более инклюзивного феминистского научного сообщества; в 2019 г. о своей «жизни знания» рассказала Линн Хант (1945) – известный историк Французской революции, исследовавшая, как гендерные и культурные структуры переопределяют жизнь людей; в 2020 г. лекцию прочла Линда Кербер (1940), автор высоко оцененных научным сообществом трудов по интеллектуальной истории женщин Америки, соредактор широко используемой антологии «Женская Америка: перефокусировка прошлого».
С начала 2020-х гг. явно выраженный интерес к достижениям женской/гендерной истории смещается в сторону интереса к исследователям, занятым изучением истории афроамериканцев и африканцев: в 2021 г. лекцию прочла Джоннетта Бетч Коул, антрополог, седьмой президент Национального совета негритянских женщин, первая афроамериканская женщина-президент черных колледжей для женщин; в 2022 г. – Нелл Ирвин Пейнтер, известная своими работами по истории юга Соединенных Штатов XIX в.; в 2023 г. – Генри Луис Гейтс мл. Выявленные предпочтения как минимум свидетельствуют о признании значимости достижений в таких новых областях знания исторической науки, как женская история и история афроамериканцев, а в некотором смысле завершенная совокупность текстов соответствующих лекций позволяет посмотреть на исследовательское поле женской истории с учетом саморефлексии участниц познавательного процесса.
Получив предложение прочесть лекцию, Н.З. Дэвис решила, что у нее появилась реальная возможность осмысления своего «исследовательского стиля» (Davis, 1997: 1). Она начала с описания истории и жизненного уклада родительской буржуазной еврейской семьи и особенностей получения школьного образования еврейской девочкой в предвоенной Америке, подчеркивая, что в это время ей приходилось существовать одновременно в двух жизненных мирах, определяемых конфессией.
В дальнейшем проблема национальной самоидентификации отошла на второй план, уступив место поискам идентификации политической (Davis, 1997: 4), чему немало способствовало увлечение марксистским социализмом, знакомство с которым началось еще во время учебы в колледже. Н.З. Дэвис отмечает, что в колледже у нее не было никакого интереса к курсам, касающимся женщин, и объясняет это тем, что в послевоенные 40-е гг. в ее кругу у женщин и мужчин были одинаковые политические и интеллектуальные интересы, определяемые одинаковыми политическими ценностями: «Если бы я прочитала книгу Мэри Берд «Женщина как сила в истории», когда она только вышла в 1946 г., я бы оценила, как она опиралась на Якоба Буркхардта и других, чтобы показать женщин как исторических и цивилизаторских акторов, но я была бы смущена тем, что она отделяет их от мужчин, в чем я увидела бы историческую фрагментацию» (Davis, 1997: 6).
В 1950-х гг. Н.З. Дэвис, после нескольких лет работы в архивах Франции и фондах американских библиотек, защитила диссертацию «Протестантизм и печатники Лиона», продемонстрировав приверженность социальной истории. В 1960-х гг. она «продолжала использовать социально-исторический подход настолько широко, насколько это было возможно» (Davis, 1997: 11), отметив, что «лучшим примером моей приверженности классической социальной истории стал очерк «Тред-юнион во Франции XVI в.», написанный в 1966 г.» (Davis, 1997: 12).
История женщин оказалась для Н.З. Дэвис важным открытием только в 1970-х гг., хотя с того момента, как в 1951 г. она отложила свой очерк о Кристине Пизанской, у нее хранилась и периодически пополнялась папка, названная «Женщины» (Davis, 1997: 15). «Политика оказалась первой вещью, которая превратила эту разбухшую папку в картотеку», – замечает Н.З. Дэвис. Так, будучи единственной женщиной в собрании мужчин-историков, она испытывала унижение со стороны своих старших коллег, которые, обращаясь к ней, называли «мисс», а не «профессор». Правда, заметила Н.З. Дэвис: «теперь я стала довольно жесткой, закаленной теми годами, когда я была “единственной еврейкой”, и когда я была отверженной сторонницей левых политических взглядов» (Davis, 1997: 16). Подъем к началу 1970-х гг. женского движения в Торонто, в университете которого Н.З. Дэвис была профессором, «повлиял на нас всех».
С интеллектуальной точки зрения для Н.З. Дэвис оказалась важной встреча с Джилл Конуэй, пионером в области новой истории женщин в Соединенных Штатах, благодаря которой она начала понимать, какие богатства для исследователей лежат за переосмыслением роли женщин в историческом прошлом. В 1971 г. они вместе организовали первый курс по истории женщин в Канаде, «Общество и пол в Европе и Америке в раннее Новое время». В этом вновь открывшемся историографическом пространстве «исследовался спектр отношений между женщинами и мужчинами и представления о них в разные эпохи и в различных местах, и переоценивалось значение таких движений, как Реформация или французская революция», предполагалось использование междисциплинарного подхода, так как «проблему гендера невозможно было осмыслить, не охватывая биологию и литературу» (Davis, 1997: 16).
Исследования в области антропологии и истории женщин, начавшиеся в Торонто, достигли расцвета, как замечает Н.З. Дэвис, на шестом году ее работы преподавателем в Калифорнийском университете в Беркли, а потом были продолжены в Принстоне, что было связано, прежде всего, с усилиями по созданию программ по изучению истории женщин. Подготовленную в это время к публикации книгу «Возвращение Мартена Герра» историк оценивала как вариант микроистории, хотя одной из главных, если не самой главной, героиней ее исследования была Бертранда. В Принстоне Н.З. Дэвис увлеклась историей евреев, используя источники автобиографического происхождения, созданные евреями и еврейками, для исследования со студентами в курсе «Общество и пол»: «Я особенно хотела вписать Леоне (венецианский раввин XVII в., автор одной из автобиографий – Г.С.) в европейскую историю и показать, как это изменит представление о прошлом, также как я пыталась это делать в своих исследованиях о женщинах и гендере» (Davis, 1997: 20).
В 1989 г. Н.З. Дэвис приступила к работе над книгой «Дамы на обочине»: «Для начала я хотела взять три фигуры из моего курса “Общество и пол”, и сделать их жизни иллюстрациями диапазона жизни горожанок XVII столетия» (Davis, 1997: 21). Но на достаточно ранней стадии проекта она поняла, что необходимо углубить концептуализацию за счет использования идеи «обочины», но не в духе деконструктивизма Дерриды, а исходя из ее собственной амбивалентности, длящейся всю жизнь, из ее постоянного пребывания между двумя центрами: «Все три эти женщины были на обочинах: религиозных, социальных, географических либо по собственному желанию, либо из-за обстоятельств. Все три превратили эти обочины в пограничье для открытия; все три переопределили их как своего рода центр или, по крайней мере, то место, где они хотели быть» (Davis, 1997: 22).
Идею «обочины» Н.З. Дэвис использует и для «концептуализации» своей жизни знания, своего исследовательского пути: «Обочины и центры моего детства переигрывались снова и снова в различных условиях. Я вписывала в историю рабочих, затем женщин, затем евреев, затем американских индейцев и африканцев, как если бы я вновь и вновь оказывалась вовлечена в какую-то спасательную миссию» (Davis, 1997: 23). Подводя итог, она объясняет, что каждый сдвиг в методе и объекте ее жизни знания вырастал из ее предшествующей интеллектуальной практики и, несмотря на роль случая, был связан с актуальными вопросами, политикой и культурой того периода. Лекцию Н.З. Дэвис завершает словами: «Прошлое – бесконечный источник для интереса и может даже быть источником надежды» (Davis, 1997: 23).
Герда Лернер, в 1939 г. эмигрировавшая в США из Австрии, отмечала, что она меняла культуры и языки, национальность и класс, оставаясь всегда аутсайдером как женщина, еврейка, иммигрантка и радикал, будучи при этом успешным инсайдером как создатель институтов и уважаемый представитель своей профессии. Несмотря на разрывы и трансформации своего академического пути, вызванные внешними событиями, Г. Лернер видела определенную преемственность своей жизни в том, что она всегда продолжала оставаться творческим писателем, сохраняя как всепроникающую озабоченность историческими событиями и ходом истории, так и глубокую приверженность к социальному действию и ответственности за социальную сферу (Lerner, 2005: 1). Она подчеркивала, что всегда старалась преодолеть разрыв между теорией и практикой, между действием и мыслью, найти правильный баланс между жизнью разума и тем, что люди называют «реальной» жизнью – жизнью в социальном контексте (Lerner, 2005: 2). Применительно к академической жизни, Г. Лернер считала необходимым соблюдение баланса между точным определением и теоретической ясностью, с одной стороны, и интересом к личному, конкретному в истории – с другой (Lerner, 2005: 2, 11).
Первая иммигрантка и вторая женщина, занявшая пост президента Организации американских историков, считавшая себя «сторонницей и создательницей новой области – истории женщин», Г. Лернер пришла в академическую жизнь поздно, в возрасте 43 лет поступив в Колумбийский университет. В то время это было единственное место, где ей могли разрешить написать биографию сестер Гримке, единственных женщин-южанок, ставших участниками и лекторами Американского общества борьбы с рабством, в качестве диссертации (Lerner, 2005: 9).
Истоки своего интереса к пониманию места женщин в обществе Г. Лернер видела в детстве: ее мать была в некотором роде феминисткой и представительницей богемы, восставшей против буржуазных норм приличия, выступавшей за сексуальную свободу и экспериментировавшей со всеми видами новаторских на тот момент практик, от вегетарианства до йоги, она была несчастлива в своем браке и восстала против традиционных ролей домохозяйки и матери (Lerner, 2005: 3); еще в Вене ей посчастливилось в течение восьми лет посещать частную реальную гимназию для девочек, которую возглавляла еврейка-директор и в которой работали хорошо образованные, целеустремленные женщины-преподаватели, многие из которых имели ученые степени (Lerner, 2005: 5).
Идейно-теоретическое влияние марксизма сказывается на протяжении всей жизни Г. Лернер: в Оксфорде, во время стажировки 1936 г., она под руководством друга-студента впервые штудирует классиков марксизма (Lerner, 2005: 5); с момента приезда в Америку и до начала академической карьеры она и ее муж, театральный режиссер Карл Лернер, были коммунистами, что выражалось главным образом в участии в массовой деятельности за ядерное разоружение, мир, расовую справедливость и права женщин (Lerner, 2005: 8); начав профессионально заниматься историей, она убеждается, что исторические события всегда были многопричинными, поэтому «марксистская диалектика все больше и больше становится похожа на смирительную рубашку» (Lerner, 2005: 11); написав книгу «Возникновение патриархата» (1986), Г. Лернер поняла, что не частная собственность, как считал Ф. Энгельс, привела к дискриминации по признаку пола и образованию классов, но гендерное угнетение – порабощение женщин – предшествовало классовому угнетению, и это «разрушило последние остатки моей привязанности к марксистской мысли» (Lerner, 2005: 19).
Страстная приверженность женской истории была «основана на моей жизни», – отмечает Г. Лернер, так как никто из ее учителей не разделял интереса к женской истории, единственным исключением был приглашенный профессор Карл Деглер, чей курс социальной истории США включал раздел, посвященный женщинам (Lerner, 2005: 11). Поэтому своим главным наставником как историка Г. Лернер считала Мэри Берд (1876–1958), с которой она никогда не встречалась, но чья книга «Женщина как сила в истории» способствовала формированию ее феминистского сознания (Lerner, 2005: 12).
Пример Мэри Берд и Мириам Холден1 вдохновляли Г. Лернер и на практическую деятельность, направленную на институализацию истории женщин, реальная возможность которой появилась после того, как на съезде Американской исторической ассоциации в 1969 г. 13 женщин-историков организовали Координационный комитет по делам женщин в исторической профессии (CCWHP), сопредседателем которого стали Беренис Кэрролл и Г. Лернер (Lerner, 2005: 13): «Наша программа заключалась в повышении статуса женщин в профессии, противодействии дискриминации и содействии исследованиям и преподаванию истории женщин» (Lerner, 2005: 14). Основными своими достижениями Г. Лернер считала: участие в борьбе за изменение недемократической практики найма историков; основание в 1972 г. магистерской программы по женской истории в колледже Сары Лоуренс (создали модель обучения, которая объединяла лекции, семинары, учебные пособия и презентации студентов, основанные на их индивидуальных исследованиях; создали библиографии и организовали ряд конференций, на которых студенты были частью преподавательской команды); организацию летнего семинара для учителей старших классов, где использовался аналогичный формат, а его образцовая программа стала продвигаться по всей стране американской Исторической ассоциацией; в начале 1970-х годов был инициирован крупный проект по изменению способа классификации архивами и библиотеками первоисточников о женщинах.
Г. Лернер отмечает: «Моя научная и писательская деятельность развивалась одновременно с тем, как я выступала в качестве организатора женщин-историков, администратора аспирантских программ и преподавателя» (Lerner, 2005: 15). В 1967 г. вышла ее книга «Сестры Гримке», а в 1972 г. была опубликована работа «Черные женщины в белой Америке: документальная история», которая, по словам самой Г. Лернер, помогла в становлении новой научной области – истории афроамериканских женщин: «Тот факт, что я занялась этими вопросами задолго до того, как афроамериканские ученые выступили с критикой преобладающего внимания к белым женщинам в феминистской науке, вытекает из моего жизненного опыта – из моих лет жизни в расово смешанном сообществе и из моей организационной работы с чернокожими женщинами» (Lerner, 2005: 16). Благодаря гранту Гуггенхайма, в течение восьми лет Г. Лернер работала над книгой «Возникновение патриархата», пытаясь ответить на самый главный для нее вопрос о происхождении подчиненности женщин (Lerner, 2005: 18–19). В 1993 г. вышло ее исследование «Формирование феминистского сознания», работа над которым привела историка к новому пониманию неоднозначной роли религии в определении положения женщин, а также к пониманию того, что добиваться полноценного участия женщин в интеллектуальном труде человечества нужно путем отмены не только дискриминации, но и ее долгосрочных последствий для мышления и социализации женщин (Lerner, 2005: 20).
Г. Лернер гордилась, что за короткий промежуток в сорок лет женщины-ученые бросили вызов абсурдному предположению о том, что одна половина человечества в лице небольшой элиты подготовленных интеллектуалов мужского пола должна постоянно представлять свою собственную историю прошлого как универсально значимую. Обнаружив ранее игнорируемые источники и научившись новым способам интерпретации, участницы самого захватывающего интеллектуального движения XX в. способствовали демократизации и гуманизации академического знания (Lerner, 2005: 20–21).
Н.З. Дэвис и Г. Лернер принадлежат к первому поколению представленных в Лекции Хаскинса женщин-историков как историков женщин, что определяет некоторую общность их жизни знания в сравнении с последующим поколением исследователей женской истории, к которому можно отнести С. Энлоу, Л. Хант и Л. Кербер. Так, все женщины-историки по своим политическим убеждениям однозначно относятся к левому лагерю, но только для первого поколения характерно увлечение марксизмом (не только как идеологией, но и как исторической теорией) с последующим его изживанием; все историки женщин стремятся к институализации своей области знания в первую очередь за счет разработки образовательных программ, но только «второе» поколение историков активно включается в международное взаимодействие, сотрудничая в профессиональных и феминистских международных организациях (Enloe, 2016: 11, 13, 16, 19). Преемственность поколений, обеспечивающая единство интеллектуального пространства американской женской истории, персонифицируется в фигуре Н.З. Дэвис, значимость жизнедеятельности которой подчеркивается в выступлениях историков «второго» поколения (Hunt, 2019: 10; Kerber, 2020: 20).
Содержание лекций исследователей женской истории свидетельствует: описывая свою профессиональную жизнь, они отчетливо понимали, что она проходит «не только в уединении архивов и оживлении аудиторий, но и в динамичных структурах научных обществ» (Kerber, 2020: 1), и что участие в организации и работе таких научных сообществ является непременным условием утверждения женской истории в исследовательском поле американской историографии. При этом все они, стремясь выявить истоки своего интереса к истории женщин, в конечном итоге приходили к пониманию экзистенциальной природы своих занятий женской историей: «чтобы женщины пользовались уважением коллег, мы также должны быть людьми, у которых есть история» (Kerber, 2020: 14).
Список литературы «Мы должны быть людьми, у которых есть история»: американская женская история глазами лекторов лекции Хаскинса
- Валькова О.А. Гендерная история науки в России. Начало // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. 2019. Т. 46, № 3. С. 544-554. https://doi.org/10.18413/2075-4458-2019-46-3-544-554.
- Зарецкий Ю. Эго-документы советского времени: термины, историография, методология // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2021. № 3 (137). С. 184-199.
- Ипполитов Г.М. Историографический факт и историографический источник как категории исторической науки: непростая диалектика // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15, № 1. С. 184-195.
- Костылев П.Н. Институализация религиоведения в Московском университете в первой половине XX в. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. 2013. № 5 (49). С. 79-95.
- Сашанов В.В. От группы к сектору; неизвестные страницы советского византиноведения (к публикации писем Е.А. Косминского З.В. Удальцовой) // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 24 (379). С. 210-214.
- Синельникова Г.А. Лекция Хаскинса как источник по истории исторической науки: «Жизнь познания» Н. З. Дэвис // Познание и деятельность: от прошлого к настоящему: мат. IV Всерос. науч. конф. Омск, 2022. С. 30-34.
- Филатова Н.М. Подходы к изучению эго-документов в современной исторической науке в свете «лингвистического поворота» // Документ и «документальное» в славянских культурах: между подлинным и мнимым: сб. науч. трудов. М., 2018. С. 24-40. https://doi.Org/10.31168/0402-2.2.
- Davis N.Z. A life of learning: Charles Homer Haskins Lecture for 1997. New York, 1997. No. 39. 26 p.
- Enloe C. A life of learning: Charles Homer Haskins Lecture for 2016. New York, 2016. No. 73. 23 p.
- Hunt L. A life of learning: Charles Homer Haskins Lecture for 2019. New York, 2019. No. 76. 20 p.
- Kerber L.K. A life of learning: Charles Homer Haskins Lecture for 2020. New York, 2020. No. 77. 23 p.
- Lerner G. A life of learning: Charles Homer Haskins Lecture for 2005. New York, 2005. No. 60. 21 p.