Мы знаем только одну-единственную науку – науку истории
Автор: Киселев Александр Федотович
Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday
Рубрика: Трибуна
Статья в выпуске: 11, 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/148320655
IDR: 148320655 | УДК: 93/94
Текст статьи Мы знаем только одну-единственную науку – науку истории
Тысячелетняя Русь. И. Глазунов
Название этой статьи – весьма категоричное заявление двух крупнейших в мировой истории мыслителей.
Как понимать это высказывание? На чем основано утверждение Карла Маркса и Фридриха Энгельса? Попробуем разобраться, правы ли основоположники марксизма?
Очевидно, что каждое поколение приходит в мир, буквально пропитанный и дышащий историей. Мы изучаем и усваиваем те знания, которые накопили люди, жившие до нас. Наслаждаемся искусством, музыкой, литературой, поэзией, архитектурой – плодами трудов давно или недавно ушедших в мир иной людей. Наследуем нормы морали, нравственности, права, сложившиеся до нашего появления на свет. Государственность, общественные устои, поли- тика и в значительной мере идеология – все дано современникам теми, кто жил в прошлом.
Религия, религиозный опыт, святыни, святые, ритуалы и многое другое из духовного мира передано нам по наследству. Воистину прошлое правит настоящим. В этом смысле оно не умерло, а живо. Из сказанного не следует, что новые поколения лишь иждивенцы и их удел рачительно или легкомысленно распорядиться нажитым предками. Напротив, сложившиеся государство, общество, культура – фундамент нашего творчества, усилий по преобразованию мира, развитию того, что было сделано до нас, но в новых условиях и сообразно тому, что мы усвоили из уроков истории. Другими словами, мы историчны по своей природе, мышлению, познанию, духу. Это судьба, и от нее не уйти. Ее следует понять и принять. В этом смысле наука истории – главная.
Все явления в материальном и духовном мире имеют свои истоки, все находится во взаимосвязи и взаимообусловленности. Химик или физик, исследуя те или иные стороны материального мира, вместе с тем изучает их генезис, ибо конечные результаты исследования зависят и от того, насколько ученый приблизился к началу тех процессов, которые изучает. Историзм – непременный инструмент ученого любой специальности: естественнонаучной, гуманитарной, технической. Иначе люди постоянно бы изобретали колесо, мучительно шли к пониманию, что земля круглая и вращается вокруг Солнца и т.д. и т.п.
Самое интересное в мире – человек. Люди – продукт историче-

АЛЕКСАНДР ФЕДОТОВИЧ КИСЕЛЕВ доктор исторических наук, профессор, академик Российской академии образования, член Союза писателей России. Свою педагогическую деятельность начал в Московском педагогическом государственном университете. С должности проректора этого вуза был приглашен заместителем министра образования и науки Российской Федерации. Видный ученый-историк, писатель, организатор образования и учебного книгоиздания. Много сделал для пре
одоления кризиса среднего образования, подъема и обновления российской школы. Сфера научных интересов: педагогика, история, философия. Автор 260 научных трудов
ского развития, когда на определенных этапах возникали расы, народности, нации, формировались основные черты и характер того или иного народа. В нашем подсознании накоплено много от прошлого, что дает о себе знать в переломные, судьбоносные для человека времена, когда внезапно появляются новые силы, образы, мотивы и стимулы к жизни, когда срабатывают инстинкты, о которых мы даже не подозревали. Наша разность, впрочем, как и схожесть индивидов, тоже исторически обусловлена неким всеединством, характерным для материального и нематериального мира. Все имеет свою историю: человек, земля, Вселен-

Так видит истоки Руси Николай Рерих
ная… История представляет собой плотную ткань, разрыв которой ведет к катастрофе.
Об этом следует помнить, особенно сегодня, когда на место старых идей и смыслов не встали новые, когда расшатаны привычные устои бытия, когда политическая жизнь аморфна и театральна. Вместе с социализмом рухнула гуманистическая вера в естественную доброту человека, в социальную справедливость, товарищество и взаимопомощь. Мы живем в эпоху глубочайшего безверия, не зная чему служить, а подлинная история творится верой. Ее необходимо обрести, а вместе с ней осознание целей и задач общественной жизни. Бес- смысленная общественная жизнь обессмысливает и жизнь человека, которая становится пустой или наполняется лжесмыслами, такими как фашизм, национальная исключительность и др. Шаткость, неустойчивость, пустота духовной жизни создают благодатную почву для разгула низменных страстей, «расцвета» псевдокультуры, культа вседозволенности.
Нам следует задуматься почему «благодатные» времена демократизации России сопровождались варваризацией многих сторон ее жизни. Не ошибемся, если скажем, что среди многих причин одно из главных мест занимает разрыв с историческими традициями. Многие крупнейшие мыслители русского зарубежья, беспощадно критикуя Советскую Россию, были более сдержаны в оценке перспектив развития ее культуры. Оптимизм вызывало то обстоятельство, что большевики, не имея собственной культуры, неизбежно будут вынуждены опираться на достижения культуры дворянской России, что в конечном итоге и случилось. Преемственность в значительной мере обеспечила успехи советской литературы, киноискусства, живописи, театральной и музыкальной культуры, которые восхищали и восхищают не только соотечественников, но и миллионы людей за рубежом.
Сегодня дела обстоят иначе. Нередко можно услышать голоса о культурной деградации страны. Одна из главных причин – очередная попытка вестернизации России в идеологии, культуре, мировоззрении ее граждан. Подобная политика принесет лишь потерю времени, ресурсов, возможностей, а самое главное – дезориентацию в жизненных смыслах наших сограждан.
История не только и даже не столько наука о прошлом. Как полагал выдающийся русский философ С.Л. Франк, история в значи-
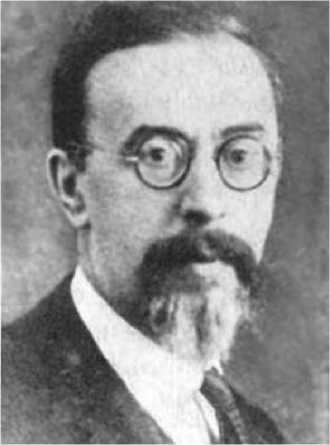
Семен Людвигович Франк тельной мере представляет собой сверхвременное единство, вмещающее разные исторические эпохи и народы. Семен Людвигович писал, что если утверждать, что прошлое есть череда сменяющихся разнородных эпох, то история не сможет помочь осознать настоящее и останется объектом праздного любопытства. В истории есть связующие нити сверхвременного характера. Если мы можем вживаться в прошлое, значит, оно еще живет в нас, между ним и нами есть прочная связь. С.Л. Франк писал: «Общественная жизнь, как и бытие вообще, имеет два разреза: временный и вневременный. Она, с одной стороны, есть многообразие и беспрерывная изменчивость и, с другой стороны, есть непреходящее единство, объемлющее и пронизывающее всю эту изменчивость».
Центральной фигурой истории является человек, а в духовной жизни человечества выражается сверхвременное единство истории. Во многом ли изменился человек за последнее тысячелетие? Разумеется, в материальнотехническом обеспечении жизни человечество далеко продвинулось вперед. А произошли ли кардинальные изменения во внутреннем мире человека? Почитай- те произведения Иоанна Листвен-ничека, других христианских мыслителей и наставников зари христианства, более поздние произведения Шекспира или ближе по времени к нам Достоевского, Гоголя, Чехова, Шолохова, многих других представителей культуры – везде перед нами предстает человек, обуреваемый одними и теми же страстями: любви и ненависти, алчности и бескорыстия, жестокости и малодушия. Примерно схожи и мотивы деятельности – честолюбие, жажда власти, нажива или служение, верность долгу, чувство чести и др.
Иными словами, духовный мир человека меняется гораздо в меньшей степени, чем среда его окружающая. И в этом смысле теория прогресса, которой издавна придерживаются многие гуманитарии, имеет изъяны. Очевидно, что научно-технический прогресс может сопровождаться деградацией духовной жизни людей и общества. Так было в эпоху инквизиции, этнических чисток в США, фашизма, жестоких сталинских репрессий и др. В противовес теории прогресса и других близких ей концепций есть точка зрения, что историческая наука представляет собой общественное самопознание, т.е. познание вечных и общих основ исторического бытия, через которые человек начинает понимать свое истинное назначение. Здесь история обращена к человеку и призвана помочь ему обрести истинный смысл жизни, найти выверенные ориентиры самосовершенствования и деятельности. Не всех подобное определение назначения исторической науки устраивает. Однако применительно к школьному и вузовскому образованию оно, как нам представляется, точно. История как предмет обучения должна не только знакомить учащихся с историческими событиями, но и формировать чувство сопричастности к исторической судьбе От-

Иван Александрович Ильин ечества, глубокое понимание, что Россия – живой организм, к которому следует относиться бережно и не полагать, что предшествующие поколения были глупее нас, идя тем или иным историческим путем.
Здесь уместно напомнить утверждения крупнейшего философа Ивана Ильина, что любой народ, оказавшись в российских природно-климатических, географических, геополитических, внешнеполитических условиях был бы вынужден идти тем же путем, которым шел русский народ. Если руководствоваться этой, на наш взгляд, верной мыслью, то надуманными будут размышления о России как о «догоняющей цивилизации», о присущей ей социальной инертности, о склонности к азиатскому деспотизму и другие нелестные характеристики облика России, что вытекает из некорректных в научном отношении сравнений нашей страны с другими, прежде всего с европейскими, странами, жившими в совершенно иных, чем Россия, особенно природно-климатических, условиях. У европейцев не было таких грозных соседей, как степняки. Впрочем, и сама Европа всегда была не прочь поживиться русскими просторами.
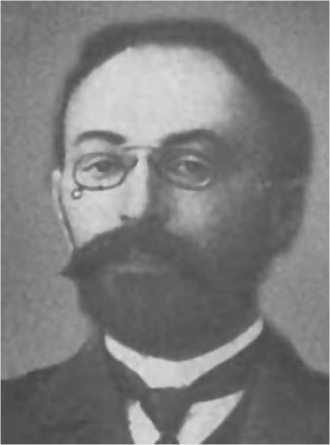
Михаил Осипович Гершензон
Особенности России как уникальной цивилизации должны быть в центре школьного и вузовского исторического образования. Не только знания, но и воспитание чувств и переживаний должно быть задачей тех, кто учит молодежь истории. Впрочем, сама наука, по утверждению философа М. Гершензона, есть переживание, небесстрастное, холодно-рассудочное отношение к исследованиям, а именно переживание. Применительно к истории это сопереживание исторической судьбе России, что ни в коей мере не повлияет на объективность оценки тех или иных исторических процессов. Гуманитарии давно спорят о том, есть ли в истории закономерности или она результат хаотичного взаимодействия, а чаще противоборства интересов миллионов людей, разнородных сил и устремлений. Вопрос важный, от ответа во многом зависит понимание: может ли человек перекраивать мир по своему усмотрению или он обязан считаться с закономерностями развития общества.
Исторический материализм утверждает, что в истории действуют закономерности, жестко регулирующие жизнь человеческого общества. Однако маркси- сты, провозглашая исторический материализм фундаментальной основой мировоззрения, на деле стояли очень близко к своим противникам – идеалистам, абсолютизируя роль революционной идеологии партии, рабочего класса, пролетарского государства в преобразовании мира. В.И. Ленин, в принципе, не отрицал утверждения меньшевиков и эсеров, что в России нет экономических предпосылок для социалистической революции. Он говорил, что созрели политические предпосылки революции, и был убежден, что, взяв власть, большевики «доделают» то, что не успела завершить история.
Исторические закономерности предавались забвению в угоду утопическому стремлению построить «Царство Божие» на земле. Но были и есть другие точки зрения, в частности С.Л. Франка, убежденного, что законы общественного развития имеют непререкаемую вечную силу, и «самочинность» в общественной жизни чревата тяжелыми последствиями. Человек не может быть «неограниченно духовным властителем жизни». Примеры «своеволия человека» – революции в Европе и России. Великая Французская революция провозгласила «свободу, равенство, братство», но благие пожелания обернулись еще большим неравенством, жесточайшей капиталистической эксплуатацией, лицемерием и цинизмом буржуазной демократии. За большевистское «Царство Божие» наши сограждане расплатились жизнями десятков миллионов людей, сломанными судьбами, разочарованиями и духовными трагедиями. В 1990-е годы высокой для россиян стала цена очередной иллюзии, что рыночная экономика – это саморегулирующаяся система, что в считанные годы можно создать новый класс собственников, который будет эффективно управлять политикой и экономи- кой, что демократия – панацея от всех бед. Чем обернулась провозглашенная Б.Н. Ельциным борьба с привилегиями партийных и государственных чиновников – хорошо известно: коррупция в России достигла невиданных размеров. Примеры можно продолжить. Все они говорят о том, что люди могут нарушать закономерности исторического бытия, но они не могут нарушать их безнаказанно.
Последние двести лет с убедительной силой доказывают тщетность реформирования общества в соответствии с «чистыми умозрительными идеями». Разумеется, идеи нужны, но такие, которые опираются на анализ конкретной жизни и ее потребностей, учитывают исторические особенности страны, сложившийся менталитет народа, уровень культуры и др. То, что выросло на одной почве, при пересадке на другую тяжело болеет, часто засыхает. Вспомним пословицу: «Что русскому хорошо, то пруссаку – смерть», и наоборот: «Что пруссаку хорошо, то русскому – смерть».
О непродуктивности и вреде бездумного копирования чужого опыта писали Ломоносов, Хомяков, Аксаков, Герцен, Достоевский и многие другие ярчайшие представители отечественной философской мысли и культуры. Обычно представители другого лагеря, особенно либерального, обвиняли их в косности, ретроградстве и ксенофобии. Мы повторяем старые ошибки в новом виде. Вновь забываем, что, по словам С.Л. Франка, «жизнь сильнее отвлеченной, чисто умственной идеи... потому, что она сама в своем существе есть живая идея… органическое единство идеи и жизни». Понять эту идею, находящуюся в единстве с жизнью, и состоит главная задача тех, кто берет на себя ответственность за настоящее и будущее России. Однако дело это непростое. Легче брать готовые рецепты.
Нередко традиции противопоставляются новациям, что является предпосылкой их забвения. Между тем традиции и новации должны идти рука об руку, ибо они составляют своеобразное двуединство, разрыв которого чреват негативными последствиями. Вновь обратимся к С.Л. Франку, который писал: «В глубине соборной исторической жизни человечества, как и в глубине индивидуального духа, неустанно и неустранимо совместно соучаствуют и традиции, сохраняющие силы прошлого в настоящем и передающие их будущему, и творческая энергия духовной активности, устремленная к будущему и рождающая новое». Мыслитель подчеркивал, что «носителем традиции является общественное единство, общество как целое», а новаторство проявляется в творчестве личностей и является следствием их индивидуальной свободы.
Традиции – постоянное, новации – изменчивое. Выдержать пропорции между постоянным и изменчивым – значит найти ключ к успешному развитию. Необходима гармония между этими фундаментальными основами исторической жизни. В этой связи С.Л. Франк писал: «…всякий радикальный отрыв от предания есть отрыв зачинающегося ростка от питающей его почвы, и если жажда новизны принимает характер не творческого созидания, а чистого отрицания старого, тем больше она прикована к старому. Здоровое рождение не есть истребление старого, а преодоление его через внутреннее преображение».
Начиная с 1990-х годов российские реформы все больше приобретали характер реформ ради реформ. На смену идеи перманентной революции пришла идея перманентной реформы. За примерами далеко ходить не надо. Российскую школу реформируют с начала 1980-х годов и по сей день.
Причем векторы ее развития не раз пытались менять, но в кругу идей реформаторов наиболее сильно и выпукло звучала идея несовместимости советского опыта с реалиями современности, а продвижение к конструктивному шло крайне медленно или находилось в застое. Остается удивляться, как под напором нескольких поколений реформаторов российская школа не рассыпалась. Вновь явственно проявилась старая истина, что в народе, в данном случае в педагогическом сообществе, традиционно-исторические начала неизмеримо прочнее, чем в сознании и воле реформаторов сверху. Именно эти традиционноисторические начала, укорененные в сообществе педагогов, дали возможность школе не только сохранить свое лицо, но и на многих направлениях продвинуться вперед. При этом они не имеют ничего общего с тем консерватизмом, который стремится сохранить безжизненные формы и устаревшее содержание образования.
Гражданское общество зиждется на общественном единстве. Деструктивны те реформы, которые не сплачивают, а раскалывают общество, когда они осуществляются по планам очередных новаторов, обуреваемых жаждой реализации умозрительных идей. По своей онтологической природе единство укрепляет осознание исторического бытия и общности исторической судьбы, что является исходным в определении новых путей развития общества, которые обретают всем понятный смысл и ведут к необходимым формам общественного сотрудничества.
Историки давно спорят, что является движущей силой истории? Представители старых поколений гуманитариев были убеждены или были вынуждены признавать, что «революции – локомотив истории». Однако при непредвзятом, свободном от идеалисти- ческих шор рассмотрении стало очевидно, что революция – это такой «локомотив истории», который все сметает на своем пути, в том числе миллионы человеческих жизней. Революция – тяжелая болезнь общества, когда оно балансирует на грани между жизнью и смертью. Выздоровление идет долго и заканчивается новой болезнью – контрреволюцией. Все революции в Европе, а теперь и в России заканчивались – контрреволюцией, которая также весьма дорого обходилась населению.
Эпоха Просвещения выдвинула в качестве движущей силы истории «передовые идеи». В итоге эти идеи раскалывали общество, рождали фанатичных апологетов, многие из которых позже разочаровались в своих кумирах. Идеи сменили идеи. Последующие опрокидывали предыдущие. Двигали ли они общество вперед? В известном смысле, несомненно, но и не раз заводили его в тупик. Беда заключалась в том, что «носители передовых идей» искренне им служили, а не Отечеству, конкретным людям и т.д. и т.п. Идейные абстракции вели к забвению нужд человека, его надежд, чаяний, боли и др. Они рождали чувство превосходства перед «непросвещенным большинством», формировали касты интеллектуалов, мечтающих преобразовать мир, жесткую непримиримость к своим идейным противникам и были одним из заметных факторов раскола единства общества. Посмотрите, как ведет себя современная идейная оппозиция, откровенно называя тех, кто голосовал за Путина, «быдлом».
В XIX веке в России сформировалась талантливая школа историков – государственников, рассматривавших государство как главную созидательную силу истории. Для России подобный подход вполне понятен. Огромные просторы, полиэтнический состав населения, скудный экономический
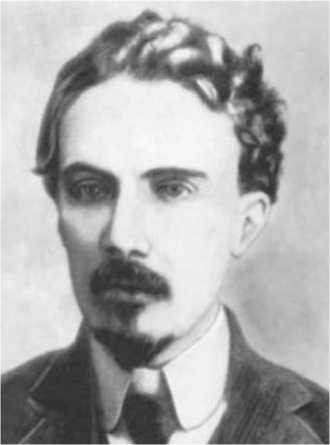
Георгий Петрович Федотов
базис буквально диктовали необходимость более высокой, чем на Западе, регулирующей роли государства. Сильная центральная власть была залогом единства страны. Однако неправомерно абсолютизировать роль государства в историческом развитии. На определенном этапе истории государство может выступать тормозом общественного развития, замораживать и консервировать старые порядки. Пример тому – кризис Российского самодержавия рубежа XIX–XX веков.

На Болотной площади 10 января 2011 года
В качестве движущей силы истории рассматривают: народ, культуру, интеллигенцию и др. Все эти подходы имеют право на жизнь, так как выявляют те или иные стороны исторического развития и рассматривают их движущей силой истории. Это свидетельствует о многомерности исторического процесса, о выдвижении на тех или иных этапах истории в качестве созидающей силы государства ярких политических деятелей, гражданских союзов и пр. Однако есть ли «универсальная», надвременная сила исторического развития? На этот вопрос вряд ли можно найти однозначный ответ. Вместе с тем для русской философии, особенно в лице ее блестящих представителей начала – середины XX века, в обосновании всеединства истории рассматривается человек во всей целостности его «духовно-душевного существа». Так, выдающийся философ Г.П. Федотов подчеркивал, что в истории царит свобода и определяющим для нее является воля «вдохновленного Богом или соблазненного Люцифером человека», который волен служить силам добра или зла. Нрав- ственная воля человека выступает той силой, которая не дает обществу упасть в бесконечные усобицы, апологетику насилия, жестокость, корысть, властолюбие. Причем в основе нравственной воли находятся высокие верования, укорененные в человеческом сердце и ощущаемые как нравственное требование подлинной жизни. С.Л. Франк писал: «Цинизм мнимореальной политики, верящей только в низменно житейские силы корысти, властолюбия, тщеславия и презирающей нравственные идеи как ничтожную иллюзорную силу мечты, неизменно карается в конечном счете в дальнейшем ходе исторической жизни». От этих слов веет оптимизмом в высокое предназначение человека, его стремления к чистоте и нравственности в жизни, которые идут из сокровенных глубин человеческой души. В человеке, независимо от той эпохи, в которой он живет, постоянно идет противоборство между низшим и высшим началами, которые сращены в душе каждого человека, а история есть результат борьбы духовной и плотской сути человеческой личности, ценность которой зависит от того, насколько он преодолевает низменные страсти и стремления. Это преодоление во многом связано с обретением человеком святыни, вокруг которой и в которой происходит слияние человеческих душ, выражающее прочное единство и общество в целом.
Известно, что если в сердце нет святыни, там поселяются мерзость и запустение. Мы долго и во многом бесплодно ищем национальную идею, сплачивающую общество. Она кроется в жизни народной толщи, в историческом бытие многонациональной России и в тех святынях, которые народ обрел, пронес через века и передал нам как бесценный дар. Только мы его, к сожалению, не принимаем…


