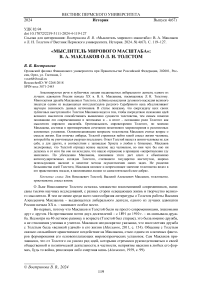«Мыслитель мирового масштаба»: В. А. Маклаков о Л. Н. Толстом
Автор: Вострикова В.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Интеллектуальная история
Статья в выпуске: 4 (67), 2024 года.
Бесплатный доступ
Анализируются речи и публичные лекции выдающегося либерального деятеля, одного из лучших адвокатов России начала ХХ в. В. А. Маклакова, посвященные Л. Н. Толстому. Многолетняя дружба Маклакова и Толстого, глубина осмысления духовного наследия великого писателя одним из выдающихся интеллектуалов русского Серебряного века обусловливают научную значимость данных источников. В статье показано, что сверхзадачу всех своих публичных выступлений о Толстом Маклаков видел в том, чтобы посредством изложения идей великого мыслителя способствовать выявлению сущности толстовства, тем самым помогая пониманию его современниками и потомками и ‒ в итоге ‒ осознанию роли Толстого как мыслителя мирового масштаба. Оригинальность мировоззрения Толстого, по мнению Маклакова, состояла в противоречивом сочетании позитивного мировоззрения и религиозных жизненных установок. Основополагающим вопросом толстовства Маклаков считал вопрос о смысле жизни. Как отмечал либерал, Толстой стремился найти такой смысл жизни человека, который бы не уничтожался смертью последнего. Ответ Толстой нашел в жизни человека не для себя, а для других, в соответствии с заповедью Христа о любви к ближнему. Маклаков подчеркивал, что Толстой отрицал всякое насилие над человеком, во имя чего бы оно ни делалось и от кого бы оно ни исходило, что нашло отражение в принципе «непротивления злу насилием». По убеждению Маклакова, понимание этого дает ключ к объяснению антигосударственных взглядов Толстого, считавшего государство институтом, широко использующим насилие в качестве метода осуществления своих задач. Не разделяя большинства идей Толстого, Маклаков великое и непреходящее значение толстовства видел в его нравственном посыле, в напоминании людям «о самостоятельной силе добра».
Лев Николаевич Толстой, Василий Алексеевич Маклаков, толстовство, христианство, смысл жизни
Короткий адрес: https://sciup.org/147247308
IDR: 147247308 | УДК: 82-94 | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-4-119-127
Текст научной статьи «Мыслитель мирового масштаба»: В. А. Маклаков о Л. Н. Толстом
О Льве Николаевиче Толстом осталось множество воспоминаний современников, написаны тысячи научных исследований, с разных сторон освещающих жизнь и творчество великого мыслителя. И тем не менее среди всего многообразия литературы о Толстом работы Василия Алексеевича Маклакова – выдающегося либерального деятеля, одного из лучших адвокатов России начала ХХ в. – занимают особое место.
Во-первых, потому что Маклаков и Толстой были не просто современниками, знакомыми друг с другом. На протяжении почти двух десятилетий – с 1891 до 1910 г. – их связывала дружба. Несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте (Толстой был старше), это была именно дружба, а не отношения ученика и учителя. Маклаков неоднократно указывал, что многолетняя дружба с Толстым была «великой удачей» в его жизни ( Маклаков , 2011, с. 154). Общение с Толстым оказало сильнейшее нравственное воздействие на Маклакова, стало одним из ключевых факторов формирования его основополагающих мировоззренческих установок. Сам Маклаков признавался, что от Толстого он усвоил ряд идей, которыми стремился руководствоваться в своей общественной и политической деятельности, в частности, неприятие насилия в любых его формах, будь то война, революция либо смертная казнь ( Адамович , 1959, с. 99).
Во-вторых, работы Маклакова о Толстом интересны тем, что сам их автор был неординарной личностью, обладавшей, по свидетельству многих его выдающихся современников, недюжинным умом. Толстой, также по достоинству оценивший глубину и ум Маклакова, называл его «старинным молодым человеком» ( Маклаков , 2011, с. 165).
В. А. Ледницкий, с отцом которого - известным польским либеральным деятелем А. Р. Ледницким - Маклаков был дружен, считал ум Маклакова - «мощный, ясный, трезвый и чрезвычайно точный» - сопоставимым с умом А. С. Пушкина ( Ледницкий , 1959, с. 223).
Георгий Адамович - поэт и литературный критик, познакомившийся с Маклаковым в эмиграции и написавший после его смерти очерк жизни и деятельности Маклакова, ‒ отмечал, что его герой был «блестящ... во всем, за что бы он ни брался» ( Адамович , 1959, с. 9). По убеждению Адамовича, статьи Маклакова о Толстом - «лучшее, что вообще о Толстом написано» (Там же, с. 86).
И это не посмертный панегирик Маклакову, не дань традиции «о мертвых либо хорошо, либо никак». Адамович обстоятельно разъясняет свою высокую оценку работ Маклакова. Он соглашается с тем, что среди писавших о Толстом есть авторы более оригинальные, например, Л. Шестов, Д. Мережковский, Н. А. Бердяев, Вл. Соловьев, и есть исследования, возможно, более глубокие. Однако, как утверждает Адамович, только Маклаков нашел в себе «достаточно скромности, ума, … внутренней силы», чтобы отказаться от личных комментариев и представить Толстого «таким, каким он со всеми своими сомнениями и мучениями был», во всей его гениальной противоречивости (Там же, с. 88). Никто «лучше и полнее», нежели Маклаков, подчеркивает Адамович, «не понял великой важности толстовских мыслей, пусть и отдавая себя отчет в их практической неосуществимости, и не скрывая своего бессилия принять их к жизненному руководству» (Там же).
С высокой оценкой работ Маклакова о Толстом, данной Адамовичем, солидарны и современные исследователи. Так, О. В. Будницкий называет статьи Маклакова о Толстом «блистательными» [ Будницкий , 2010, с. 33]. В. М. Шевырин считает, что высочайшего уровня работы Маклакова о Толстом - вклад в культуру русского зарубежья, один из идентификаторов расцвета эмигрантской литературы [ Шевырин , 2013, с. 229]. А. А. Кара-Мурза называет Маклакова выдающимся интеллектуалом русского Серебряного века [ Кара-Мурза , 2019].
Действительно, работы Маклакова о Толстом написаны великолепным русским языком, изящны с литературной точки зрения и при этом необычайно глубоки. Интересно отметить, что В. А. Ледницкий стиль Маклакова считал схожим со стилем Толстого. Когда читаешь работы Маклакова, указывал Ледницкий, невольно встают в памяти толстовские фразы с их «логикой и точностью выражения, простотой, лишенной всяких украшений, и с… крепостью построения» ( Ледницкий , 1959, с. 223).
Таким образом, работы Маклакова о Толстом по целому ряду причин являются весьма ценным источником с точки зрения осмысления жизни и деятельности Толстого и его духовного наследия. Помимо того, в этих работах сквозь размышления о Толстом рельефно проступает личность их автора, что позволяет составить более полное представление о мировоззрении выдающегося деятеля либерального движения.
Работы Маклакова о Толстом использовались в современной историографии в качестве источников в исследованиях, посвященных биографии либерала [ Будницкий , 1999; Дейков, 1998, 2005; Шевырин , 2001]. Однако глубина и многоплановость работ Маклакова позволяет находить все новые и новые ракурсы проблемы «Маклаков и Толстой».
Настоящая статья посвящена анализу Маклаковым наследия Толстого как великого мыслителя, создавшего оригинальную мировоззренческую систему.
Источниковой базой послужили речи и публичные лекции Маклакова о Толстом, прочитанные после смерти великого писателя и впоследствии опубликованные как мемуарные очерки и статьи: «Лев Толстой как общественный деятель» (речь 10 ноября 1911 г. на торжественном собрании в Москве, в первую годовщину смерти писателя) ( Маклаков , 1912, 1949, с. 129-156), «Толстой и суд» (публичная лекция 25 января 1914 г. в Петербурге в память Толстого) ( Маклаков , 1914), «Толстой и большевизм» (речь 5 января 1921 г. в Париже на вечере памяти Толстого)
( Маклаков , 1921), «Лев Толстой (Учение и жизнь)» (речь в Париже 2 июня 1928 г. на празднике русской культуры) ( Маклаков , 1929 а , с. 7–57), «Толстой как мировое явление» (речь 15 ноября 1928 г. в Праге на праздновании 100-летнего юбилея Толстого) ( Маклаков , 1929 b , с. 59–83).
Методологическую основу исследования составили как общенаучные (анализ, синтез, обобщение, аналогия, описание, абстрагирование), так и специально-исторические методы исследования (историко-генетический, сравнительно-исторический). Особое значение в плане использования методологического инструментария имеет метод деконструкции текста, основанный на таких принципах, как оценка текста, отбор наиболее значимых фрагментов с сохранением контекста (смысла) первоисточника.
Перечень речей и лекций Маклакова позволяет составить самое общее представление о спектре проблем, находившихся в центре внимания либерала. Из их числа Маклаков сознательно исключил тему художественного творчества Толстого, аргументируя это тем, что величие Толстого как писателя неоспоримо и общепризнанно ( Маклаков , 1929 а , с. 7). Кроме того, Маклаков считал себя некомпетентным в вопросах литературоведения. Однако либерал нередко использовал художественные произведения Толстого в качестве образной иллюстрации его идей, демонстрируя глубину проникновения в художественный замысел великого писателя ( Маклаков , 1949, с. 172–192).
Анализируя выступления Маклакова о Толстом хронологически, можно заметить, что первые лекции были посвящены более конкретным аспектам: общественной деятельности Толстого, его отношения к суду, в эмиграции интерес Маклакова переместился к более абстрактной проблематике – в область осмысления учения Толстого, при этом основные подходы Маклакова к оценке толстовства оставались неизменными.
Сверхзадачу всех своих публичных выступлений о Толстом Маклаков видел в том, чтобы посредством изложения идей великого мыслителя способствовать выявлению сущности толстовства, тем самым помогая его пониманию современниками и потомками и осознанию «того, чем был Толстой как мировое явление» ( Маклаков , 1929 а , с. 8; Маклаков , 1929 b , с. 60).
Либерал постоянно подчеркивал сложность этой задачи, обусловленную, по его мнению, самой сутью толстовского мировоззрения, вследствие своей оригинальности стоявшего особняком от всех существовавших мировоззренческих систем ( Маклаков , 1949, с. 157). Эта специфика толстовства, с точки зрения Маклакова, приводила к тому, что от его полного понимания зачастую были одинаково далеки как его адепты, так и критики (Там же).
Маклаков дистанцировался и от тех, и от других, старался занять беспристрастную позицию. Он указывал, что не ставит целью проповедь и защиту учения Толстого, хотя бы уже потому, что сам является приверженцем чуждой Толстому либеральной идеологии, а критиков у толстовства и так достаточно ( Маклаков , 1929 а , с. 8). Единственное оценочное суждение, которое позволил себе Маклаков – это указание на то, что, пока человечество живет по существующим правилам, мысли Толстого для него неприемлемы, и толстовство остается учением не для мира сего (Там же, с. 35).
Излагая взгляды Толстого, Маклаков называл их «учением», оговаривая при этом достаточную условность применения данного термина. Во-первых, как указывал либерал, и сам Толстой не признавал себя основателем какого-то особого учения, а себя учителем, настаивая на том, что только способствовал восстановлению «подлинного исторического», «настоящего» Христа без тех искажений, которые в его образ внесли время и церковь (Маклаков, 1929а, с. 8; Маклаков, 1929b, с. 60). А, во-вторых, во взглядах Толстого не было системы, которую предполагает любое учение. У Толстого, указывал Маклаков, был «не систематический ум»: когда мыслителем овладевала какая-либо новая идея, он отдавался ей всецело, доводил до крайности, менее всего беспокоясь, как она согласуется с тем, что он говорил раньше по этому поводу. Отсюда наличие в работах Толстого «несогласованности и противоречий» (Маклаков, 1929а, с. 8–9). Вместе с тем Маклаков критически относился к широко распространенному убеждению о пережитом Толстым в процессе духовных исканий резком мировоззренческом «переломе», назвав последний неким «оптическим обманом», созданным самим писателем. На самом деле, как утверждал либерал, никакого перелома не было, было только развитие, все сначала разрозненные идеи постепенно сложились у Толстого в достаточно цельное мировоззрение (Маклаков, 1949, с. 158).
Основополагающими работами, в которых Толстой изложил свое учение, Маклаков считал автобиографическое произведение «Исповедь» и религиозно-философский трактат «В чем моя вера?». Последний он назвал «одним из наиболее сильных сочинений» Толстого, в котором толстовство изложено со всей полнотой и «наибольшей страстностью» (Там же). Из художественных произведений к знаковым для понимания учения Толстого Маклаков относил роман «Воскресение», пьесы «Власть тьмы» и «Живой труп», повесть «Смерть Ивана Ильича», рассказ «Упустишь огонь - не потушишь» (Там же, с. 172-192). По мнению Маклакова, вышеперечисленные работы позволяли проследить развитие идей Толстого: в позднейших из них («Воскресение») писатель уже выступал не как «мудрец, проповедующий учение не от мира сего» («В чем моя вера?»), а стал гораздо ближе к людям, в нем обозначились черты «социального реформатора» (Там же, с. 181).
По мнению Маклакова, Толстой по своему мировоззрению был «истинным позитивистом» ( Маклаков , 1929 b , с. 61). Вместе с тем писатель был далек от веры во всемогущество человеческого разума, от убеждения в способности науки дать всеобъемлющее объяснение мира.
Но как позитивист, указывал Маклаков, Толстой не допускал возможности познания абсолютной истины посредством веры, т.е. с помощью религии. Терминология, связанная с религиозным мировоззрением (например, Бог , бессмертие и т.п.) употреблялась Толстым в деистическом смысле: Бог - как некая таинственная изначальная сила, бессмертие духа - как признание невозможности бесследного исчезновения духовной субстанции, а вера - как не обладание истиной, а преданность ей (Там же).
Однако, как отмечал Маклаков, Толстой сразу отходил от позитивизма, когда речь заходила о христианстве. Мыслитель не разделял утверждение позитивистов о том, что учение Христа противоречит природе человека и может служить только идеалом, не достижимым в реальной жизни. Заповеди Христа Толстой рассматривал как разумные, жизненные, практически осуществимые здесь и сейчас правила поведения, непреложное следование которым должно привести к достижению людьми счастья не в загробном мире, а на Земле ( Маклаков , 1929 а , с. 21; Маклаков , 1929 b , с. 77).
В самом Христе Толстой видел не Бога, но человека, учителя жизни. Маклаков вспоминал, что Толстой не раз говорил о том, что если бы он считал Христа не человеком, а Богом, то Христос потерял бы для него все свое обаяние ( Маклаков, 1929 a , с. 24). Толстой «стал проповедником христианства без Бога», как заключал Маклаков ( Маклаков , 1929 b , с. 78).
В противоречивом сочетании позитивного мировоззрения и религиозных жизненных установок либерал видел оригинальность Толстого, его своеобразие как мирового мыслителя. «^При мирском мировоззрении он учил жить по Божьи [курсив в тексте мой. - В. В .]», - отмечал Маклаков, тогда как зачастую бывает наоборот: люди религиозного мировоззрения живут сами и учат других жить по-мирски (Там же, с. 61).
Маклаков характеризовал Толстого как «подлинную религиозную натуру», что, учитывая отрицательное отношение последнего к религии, на первый взгляд, может показаться парадоксальным ( Маклаков , 1929 а , с. 32; Маклаков , 1929 b , с. 71).
Однако данное противоречие снимается, если учесть, что критерием для определения степени религиозности человека для Маклакова являлась вовсе не формальная принадлежность индивида к какой-либо конфессии, а заинтересованность теми вопросами, на которые отвечает религия, и прежде всего вопросом о смысле жизни. Человека, воспринявшего ответы религии просто в силу традиции воспитания, гораздо раньше, нежели его ум созрел для этого, Маклаков считал натурой, по сути, нерелигиозной, ибо религия в мировосприятии в данном случае есть некий внешний, наносный элемент.
Истинно религиозная натура, по Маклакову, это человек, который приходит к ответам на основополагающие бытийные вопросы посредством их глубокого осмысления и не может спокойно жить, пока ответа не найдет. Таков, по убеждению либерала, Толстой (Маклаков, 1929b, с. 71). Обладание всем, что принято считать основными условиями счастья: богатством, поло- жением в обществе, связями, несокрушимым здоровьем, крепкой семьей, талантом, ‒ не спасло Толстого от осознания бессмысленности, ничтожности всех этих благ перед лицом смерти. И эта бессмыслица счастья, которая кончается смертью, эта бессмыслица жизни, если она не бесконечная, отмечал Маклаков, привела Толстого в такое отчаяние, что он всерьез задумывался о том, чтобы покончить с собой (Маклаков, 1949, с. 165).
Либерал указывал, что в своих ощущениях Толстой был далеко не одинок: «Не спрашивал ли… Пушкин, зачем дана ему жизнь “дар напрасный, дар случайный”? Не называл ли ее Лермонтов “пустою и глупою шуткою”?» ( Маклаков , 1929 a , с. 33). «Однако кто сделал из этих размышлений такие же выводы, как Толстой?» ‒ вопрошал Маклаков. Тот же Пушкин, поддавшись другим впечатлениям жизни, отрекся от своих слов, объявил их «изнеженными звуками безумства, лени и страстей»; объяснял их тем, что они родились «в часы забав и праздной скуки». А Толстой, как подчеркивал либерал, пережив то же настроение, уже не мог от него отделаться и «изломал всю свою жизнь, борясь с этим чувством» (Там же). Толстой не мог примириться с жизнью, пока не разгадал ее смысла.
Именно в возвращении к основополагающему вопросу человеческого бытия – вопросу о смысле жизни, поднимавшемуся философами еще в глубокой древности, но отброшенному на фоне успехов науки и техники как «пустой и ненужный», Маклаков видел заслугу Толстого как мирового мыслителя (Там же, с. 48). «Толстой объявил миру, что жить без смысла жизни нельзя и что наука этого смысла не открывает», – писал Маклаков (Там же).
Как отмечал либерал, вопрос о смысле жизни встал перед Толстым как следствие осознания конечности человеческого бытия, неизбежности смерти, перед лицом которой меркнет все, ради чего обычно живут люди: власть, богатство, карьера… Если все эти блага будут отняты смертью, то в них, размышлял Толстой, «нет ни малейшего смысла» ( Маклаков , 1929 b , с. 67). « Призрачность мирских благ, бессмыслица мирского счастья», как указывал Маклаков, составляет «исходный пункт» мировоззрения Толстого; без этой основной посылки толстовство будет не ясно ( Маклаков , 1949, с. 164).
Отсюда стремление Толстого найти такой смысл жизни, который бы не уничтожился смертью ( Маклаков , 1929 b , с. 69; Маклаков , 1949, с. 176). «Это по истине мировая проблема, – отмечал Маклаков, – и на нее Толстой дал ответ» ( Маклаков , 1929 b , с. 69).
Великий мыслитель указал, что смерть уничтожает только жизнь отдельного человека, тогда как человечество в целом продолжает существовать. И если индивид хочет преодолеть смерть, он должен перестать противопоставлять себя другим людям, «должен жить не собой, не для себя, а жить для других, жить другими так, как мать живет не для себя, а для ребенка», иными словами, сделать главным правилом своей жизни любовь к ближнему, ощущая себя частью огромного и бессмертного мира ( Маклаков , 1929 а , с. 22–23; Маклаков , 1929 b , с. 79).
Блестящей художественной иллюстрацией позиции Толстого в отношении смысла жизни Маклаков считал повесть «Смерть Ивана Ильича», назвав ее «откровением мудреца» ( Маклаков , 1949, с. 175, 185). Главный герой повести не находит никакого утешения и примирения с собственной смертью в том, что он смертен по непреложному закону природы, как и все люди. Пытаясь вспомнить моменты своей жизни, способные его утешить в предсмертном томлении, Иван Ильич не видит таковых ни в своей семейной жизни, ни в служебной деятельности, ни в повседневных развлечениях. Но он перестал бояться смерти, когда начал думать не о себе, а о своих близких, которым он своей болезнью доставляет страдания, и осознал, что его смерть избавит их от этих страданий (Там же, с. 177).
В эту систему координат, с точки зрения Маклакова, вполне органично вписывается толстовский принцип «непротивления злу насилием». Его ни в коем случае нельзя расценивать как безразличие ко злу. Толстой, как разъяснял либерал, был убежден, что зло нельзя искоренять злом, ибо это ведет к преумножению зла. Злу должно быть противопоставлено то, что по самой природе своей ему противоположно, – любовь. Толстой отрицал всякое насилие над человеком, во имя чего бы оно ни делалось и от кого бы оно ни исходило (Там же, с. 158–159).
Понимание этого, отмечал Маклаков, дает ключ к объяснению антигосударственных взглядов Толстого. Для последнего государство как таковое, безотносительно к его форме, есть институт, широко использующий насилие в качестве метода осуществления своих задач, но цинично маскирующий свою насильственную сущность под маской защиты некоего эфемерного принципа «общего блага», являющего собой ни что иное как «соблазн», ловушку, заманивающую человечество подобием добра и отвлекающую от подлинных духовных ценностей.
Маклаков не раз вспоминал весьма показательный эпизод, иллюстрирующий отношение Толстого к политике. Встретившись с Толстым после своей поездки в Великобританию, Маклаков делился с писателем своими восторженными впечатлениями об английских порядках. Толстой не разделял позиции Маклакова и утверждал, что английская конституция не лучше самодержавия. В ответ Маклаков указал на нелогичность хлопот писателя по переселению духоборов из России в Канаду, раз везде одинаково плохо. После некоторого молчания Толстой согласился, что разница все-таки есть, как есть разница между гильотиной и веревкой. Гильотина, конечно, как средство смертной казни «прогрессивнее» веревки, но, заключил Толстой, «меня этой деятельностью вы не увлечете; для меня и гильотина и веревка одинаково мерзки» ( Маклаков , 1929 b , с. 64).
По мнению Маклакова, Толстой в данном случае немного «не договорил», ибо для него гильотина и веревка не одинаково неприемлемы, но гильотина хуже веревки, ибо она есть более изощренное средство для маскировки насилия, средство более циничное, ибо создает иллюзию гуманизации наказания (Там же). На этом же основании Толстой из всех ветвей власти был наиболее беспощаден к власти судебной, ибо в деятельности судов под личиной защиты «общего блага» сильнее всего скрыта подлинная насильственная сущность государственной власти. А из всех судебных профессий «наихудший… самообман», по Толстому, профессия адвоката, ибо она создает иллюзию борьбы со злом, с государственным насилием, тогда как на самом деле есть не что иное, как игра в заданной государством системе координат, а значит, та же служба злу (Там же, с. 65-67).
Взгляды Толстого на государство, как указывал Маклаков, имели очень мало сторонников (кстати, и сам Маклаков не входил в их число). И это, по мнению либерала, вполне закономерно, ибо на безгосударственных началах организовать эффективное взаимодействие всех элементов такой сложной системы, как общество, невозможно ( Маклаков , 1929 a, с. 49).
Однако при всей своей утопической антигосударственной направленности толстовство, по мнению либерала, имело и позитивное значение. Последнее состояло в привлечении внимания к чрезвычайно важной проблеме - проблеме роли государства в общественной жизни. Протест Толстого против этатизма, против восприятия демократического государства как конечной инстанции в разрешении всех общественных проблем, универсального инструмента реализации принципа справедливости, правомочного использовать ради этого всю мощь государственной машины, с точки зрения Маклакова, был крайне своевременен. Необходимость государства как политического института, указывал либерал, не является основанием для идеализации каких-либо его форм. Данные размышления Маклакова позволяют утверждать, что, будучи убежденным государственником, он смог глубоко осмыслить антигосударственный посыл Толстого.
Вместе с тем представляется целесообразным иначе, нежели Маклаков, расставить акценты при обосновании основной причины, по которой российская власть не направляла своей карательной машины лично против Толстого за его анархические взгляды. Маклаков считал, что главным сдерживающим фактором для власти явилась высота нравственной проповеди Толстого ( Маклаков, 1929 b, с. 81-82). Думается, что все-таки российская власть не трогала Толстого прежде всего из сугубо практических соображений - из-за нежелания скомпрометировать себя гонениями на писателя мировой величины. Кстати, Маклаков предполагал такое объяснение, но считал его поверхностным ( Маклаков , 1929 a , с. 50). Не будем забывать, что задачу личной расправы над Толстым успешно выполнила православная церковь (союзница власти).
Маклаков отмечал, что жизнь Толстого «была сплошным противоречием его собственной вере», которое сам писатель «больно чувствовал». Однако, по убеждению либерала, это противоречие было вовсе не в том, на что «любили злорадно указывать» враги Толстого и «толпа»: призывая к опрощению, писатель сам не последовал этой рекомендации, не расстался с собственностью и продолжал жить в комфорте ( Маклаков , 1949, с. 191).
Для Маклакова трагизм внутреннего разлада Толстого заключался в том, что он «не разучился по-мирски понимать страдания мира» и «по-мирски с ними боролся», тем самым отступая от своего учения (Там же). Соприкасаясь с несправедливостью и несчастьем, Толстой утешал страждущих не учением Христа, а пользовался своим богатством и авторитетом для облегчения их участи. Будучи принципиальным врагом государства, он пытался использовать ресурсы власти для проведения в жизнь аграрной реформы в духе Г. Джорджа: обращался к П. А. Столыпину и в Государственную думу ( Маклаков , 1929 a , с. 43–45).
В своей общественной деятельности, как отмечал Маклаков, «Толстой был так содержателен и многосторонен, что отзывался на все» ( Маклаков , 1929 b , с. 62). В итоге для современников общественная деятельность Толстого заслонила Толстого-мыслителя, ибо людей всегда больше волнуют собственные, сиюминутные «интересы и скорби» (Там же).
Маклаков, отдавая должное общественной деятельности Толстого (кстати, именно общественная деятельность стала темой самой первой речи Маклакова о Толстом, произнесенной в годовщину смерти великого писателя), во всех своих работах неуклонно проводил мысль о том, что мировое значение Толстого не в этом (Там же) .
В качестве образной иллюстрации либерал приводил восприятие путником большой горы. Двигаясь по ее склону, путник в подробностях наблюдает окружающий пейзаж, но для него скрыт вид всей горы. И путник может решить, что гора и есть та тропинка, по которой он идет. «Да, конечно, Эльбрус есть и эта тропинка, – восклицает Маклаков, – но тропинка еще не Эльбрус» (Там же).
По глубокому убеждению Маклакова, Толстой – это прежде всего «мыслитель мирового масштаба» (Там же, с. 59). Его учение – не только «всечеловеческое», т.е. далеко выходящее за рамки какой-то одной страны или региона, но и вневременное, ставящее вечные для человечества проблемы и предлагающее решения, кардинальным образом отличающиеся от господствовавших в обществе представлений. Это дало основание Маклакову назвать учение Толстого «вызовом культурному миру» ( Маклаков , 1949, с. 167).
Острое осознание всей глубины разрыва своих убеждений с реально существующими правилами общежития и с собственным бытием в этом мире, как отмечал Маклаков, подвигло Толстого на кардинальный шаг – уход из дома. Однако этот шаг, по мнению либерала, вряд ли позволил бы Толстому дожить свой век в состоянии душевной гармонии. Гораздо вероятнее, как предполагал Маклаков, что все попытки Толстого исчезнуть из мира оказались бы тщетными: за ним бы «двигалась армия репортеров», и «жадный, любопытный мир» наблюдал за писателем и, возможно, даже высмеял его порыв. Однако судьба пощадила Толстого: он умер, увенчав свою «великую жизнь ореолом последнего подвига» (Там же, с. 193).
Констатируя, что учение Толстого не от мира сего и мир не «пошел за Толстым», Маклаков признавал великое, непреходящее значение толстовства, видя его прежде всего в том, что, взывая к добрым началам в душе человека, оно напомнило людям «о самостоятельной силе добра» ( Маклаков , 1929 a , с. 49).
В свою очередь, глубокие, искренние, пропущенные не только через разум, но и через сердце размышления Маклакова о Толстом еще долго будут ценнейшим источником для исследователей жизни и деятельности «нетипичного Маклакова» (характеристика О. В. Будницкого) и великого Л. Н. Толстого.
Список литературы «Мыслитель мирового масштаба»: В. А. Маклаков о Л. Н. Толстом
- Будницкий О.В. В.А. Маклаков и В.В. Шульгин: друзья-противники // Спор о России: В.А. Ма-клаков – В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. М.: РОССПЭН, 2010. 439 с.
- Будницкий О.В. Нетипичный Маклаков // Отечественная история. 1999. № 2. С. 12–26.
- Дедков Н.И. Консервативный либерализм Василия Маклакова. М.: АИРО-ХХ, 2005. 224 с.
- Дедков Н.И. Сила человеческого добра. В.А. Маклаков и Л.Н. Толстой // Свободная мысль. 1998. № 5. С. 65–76.
- Кара-Мурза А.А. Василий Алексеевич Маклаков – один из основателей «политической альтернативистики» [Электронный ресурс] // Полилог. 2019. Т. 3, № 2. URL: https://polylogosjournal. Ru/s258770110006861-9-1/ (дата обращения: 10.01.2023). DOI: 10.18254/S258770110006861-9.
- Шевырин В.М. Василий Алексеевич Маклаков (1869‒1957) // Россия и современный мир. 2001. № 3 (32). С. 150–158.
- Шевырин В.М. В.А. Маклаков – В.В. Шульгин: эпистолярный диалог // Россия и современный мир. 2013. № 1. С. 218–231.