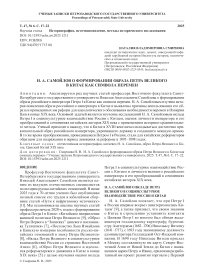Н. А. Самойлов о формировании образа Петра Великого в Китае как символа перемен
Автор: Смирнова Н.В.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Историография, источниковедение и методы исторического исследования
Статья в выпуске: 6 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Анализируется ряд научных статей профессора Восточного факультета СанктПетербургского государственного университета Николая Анатольевича Самойлова о формировании образа российского императора Петра I в Китае как символа перемен. Н. А. Самойловым изучена история появления образа российского императора в Китае и выявлены причины использования его образа и проведенных им реформ для идеологического обоснования необходимости перемен в Империи Цин в конце XIX века. Основной задачей является изучение исследований Н. А. Самойловым вклада Петра I в социокультурное взаимодействие России с Китаем, оценок личности императора и его преобразований в сочинениях китайских авторов XIX века с применением историко-сравнительного метода. Ученый приходит к выводу, что в Китае в XVIII веке начал складываться достаточно привлекательный образ российского императора, укрепившего державу и создавшего мощную армию. В то же время преобразования, проводившиеся Петром I в России, стали для китайских реформаторов образцом для подражания в период движения за реформы в 1895–1898 годах.
Отечественная историография, китаевед Н. А. Самойлов, образ Петра Великого в Китае, Цинский Китай XIX века
Короткий адрес: https://sciup.org/147251797
IDR: 147251797 | УДК: 94(470)''17''(510) | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1211
Текст научной статьи Н. А. Самойлов о формировании образа Петра Великого в Китае как символа перемен
Профессор Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета Николай Анатольевич Самойлов является одним из ведущих отечественных специалистов по истории русско-китайских отношений. В июне 2025 года к 70-летию ученого был опубликован полный список его трудов в юбилейном сборнике статей «Пути к нефритовому источнику» [11]. Мы остановимся на анализе научных статей профессора начала 2020-х годов о формировании образа Петра I в Китае: «Китайское направление внешней политики Петра Великого» [9], «Образ Петра Первого в “Записках” цинского посланника Тулишэня» [7], «Посольство Льва Измайлова в Цинскую империю (особенности русско-китайских отношений в эпоху Петра Великого)» [8], «Вклад Петра Великого в социокультурное взаимодействие России со странами Восточной Азии» [6], «Образ Петра Великого и идеология реформаторского движения в Китае в конце XIX века» [5] с целью изучения оценок вклада
Петра I в социокультурное взаимодействие России с Китаем и личности великого российского императора и его преобразований в сочинениях китайских авторов XIX века.
Н. А. САМОЙЛОВ О ВКЛАДЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО В СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И КИТАЯ
Н. А. Самойлов полагает, что при Петре I в России впервые всерьез заинтересовались Ки-таем1 [9], а также признает, что своим знаниям о Китае и стремлению установить контакты с Цинами Петр I во многом был обязан выдающемуся голландскому картографу, бургомистру Амстердама (1682–1706) Николаасу Витсену (1641–1717), с 1693 года занимавшему должность администратора Голландской Ост-Индской компании. В 1690 году Николаас Витсен прислал в Москву составленную им карту Северо-Восточной Азии от Новой Земли до Китая с посвящением царям Петру и Ивану, приложив разработанный им проект развития торговли с Персией через Каспийское море и с Китаем через Сибирь. Н. А. Самойлов отмечает, что Витсен при подготовке карты использовал «Чертеж Сибири», составленный Николаем Спафарием, и его описание путешествия в Китай. С тех пор карта Вит-сена постоянно находилась в личной библиотеке Петра I [6: 71].
Николай Анатольевич подчеркивает и описывает существенный вклад великого немецкого ученого Готфрида Вильгельма Лейбница (1646– 1716), ставшего советником Петра по вопросам организации первых научных учреждений России, в формирование у него научного и практического интереса к Китаю. Когда Петр пригласил Лейбница принять участие в разработке проекта реформы системы образования в России, увлекавшийся Востоком ученый обратил внимание русского царя на то, что именно в России в силу ее особого географического положения следует развивать востоковедение [6: 71].
Н. А. Самойлов анализировал историю первых контактов между странами и развитие русско-китайской торговли. В марте 1692 года по царскому указу в Китай отправилось посольство во главе с голштинцем Избрантом Идесом, получившим согласие цинского императора Канси на посылку русских караванов в Китай, после чего караванная торговля обрела регулярный характер. Для увеличения поступлений в казну Петр I принял решение о сосредоточении торговли с Китаем в руках государства и установил государственную монополию на «китайский торг». Царским указом 1697 года вводилась монополия на ценнейшие виды пушнины (соболь и чернобурая лисица) и устанавливался жесткий контроль за этим [6: 67].
С 1698 по 1718 год в Китай было направлено десять торговых караванов. Основным товаром, ввозившимся в Китай казенными караванами, была традиционная для русского экспорта того времени пушнина. Ввоз пушнины создавал в Цинской империи вполне определенный образ России как страны холодной, где в дремучих лесах водится много пушных зверей, а, для того чтобы согреться, жители постоянно пользуются мехами. Среди различных видов пушных зверей, шкурки которых казенные караваны везли в Китай, первое место в течение долгого времени удерживал соболь. Это объяснялось красотой и прочностью его меха, соответственно, высокой ценой. Второе место среди так называемой мягкой рухляди принадлежало шкуркам лисицы (особенно дорого ценились чернобурки). Далее следовали горностай и ласка. Кроме того, заметное место в российском пушном экспорте в Цинскую империю занимали меха бобра, зайца, куницы и позднее белки [6: 68].
Основную часть ввозимых в Россию из Китая товаров при Петре I составляли шелковые ткани, в особенности камка – двусторонняя тонкая узорная шелковая ткань с цветочным рисунком, образованным атласным переплетением нитей, на матовом фоне. Значительно увеличился ввоз и китайских хлопчатобумажных тканей, получивших в России названия «китайка» и «даба». Даба – это хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения типа бязи или холста, отбеленная или крашенная преимущественно в синий цвет, которая пользовалась большим спросом у населения Сибири. Китайка – ткань с рисунком или узорами, которые вплетаются в нее с помощью специального ткацкого станка, появилась в Китае еще при династии Тан, где для производства такой материи были придуманы ткацкие станки, позволявшие создавать ткани со сложными узорами. В Россию такая ткань попала именно из Китая, и этим объясняется ее русское название. При Петре китайку начали массово завозить в Россию, и она пользовалась популярностью не только у населения Сибири, но даже при дворе [6: 68].
Н. А. Самойлов подчеркивает, что развитие русско-китайской торговли и наполнение российского рынка китайскими товарами стимулировали зарождение интереса к китайскому искусству. В эру правления Канси в Китае под влиянием западноевропейского искусства и при участии европейцев в дворцовых мастерских было налажено изготовление фарфоровых табакерок, часов и изделий, украшенных росписью эмалевыми красками, а также стеклодувное производство. Эти изделия и мастерские, где они производились, были продемонстрированы русскому посланнику Льву Измайлову [8], что подробно описал в своих записках сопровождавший его художник и гравер Георг Иоганн Унферцагт [6: 69].
Принято считать, что увлечение «китайщи-ной» началось в России с Петра Великого, хотя отдельные китайские вещи появлялись в русских интерьерах еще во времена царя Алексея Михайловича. По мнению Н. А. Самойлова, отправной точкой для развития в России интереса к китайским изделиям послужило пребывание Петра I в Голландии. В составе Великого посольства он посещал Фарфоровый кабинет дворца Шарлоттенбург в Берлине, китайские комнаты во дворце Шёнбрунн в Вене, а в 1716 году любовался лаковыми комнатами замка Розенборг в Копенгагене. После возвращения из Дании у Петра появилась идея создания аналогичного лакового кабинета в России, он дал распоряжение русским живописцам из адмиралтейского ведомства начать работы по созданию «китайского» кабинета в петергофском дворце Монпле-зир, а изделия, позднее привезенные Лоренцом
Лангом из Китая, составили основу коллекции Петра I, собранной в Монплезире [6: 69–70].
Показательно то, что Петр I на протяжении всей жизни активно интересовался предметами китайского искусства. По его указанию Лоренц Ланг несколько раз ездил в Китай и привозил оттуда подарки императора Канси – предметы быта, различные диковинки, коллекции китайских старопечатных и рукописных книг, впоследствии составившие основу китайской коллекции Кунсткамеры и ряда других музеев.
В Петровскую эпоху в Цинской империи заинтересовались Россией. В 1708 году в Пекине по повелению императора Канси было создано Училище русского языка, а в 1712 году к калмыцкому хану Аюке направлено посольство во главе с маньчжуром Тулишэнем, проехавшим в 1712–1715 годах почти всю Россию и оставившим «Июй лу» («Записки») [7]. Н. А. Самойлов констатирует, что сочинение Тулишэня «Июй лу» содержит первые упоминания о Петре I и его деятельности в китайских источниках. Посольство вернулось в Китай только через три года – в 1715 году. Существенно также то, что Тулишэнь возвратился в Пекин вместе с русскими священнослужителями во главе с архимандритом Ила-рионом (Лежайским) – главой Первой Российской духовной миссии в Китае [7: 35]. Петр I предстает в «Записках» Тулишэня сильным и могущественным государем, укрепившим свою державу и создавшим мощную армию, способным победить всех своих врагов, что наглядно продемонстрировала война против Швеции. Из этого контекста, по мнению Н. А. Самойлова, вытекал вполне очевидный вывод: Китаю лучше иметь с русским царем мирные и дружественные отношения, что в конце концов поймут и цинские императоры. Собранные Тулишэнем сведения были настолько ценны и интересны, что в дальнейшем его сочинение легло в основу всех последующих описаний России, появлявшихся в Китае.
Н. А. САМОЙЛОВ О ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ КАК СИМВОЛЕ УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМ
Н. А. Самойлов исследовал первые упоминания о Петре Великом в работах китайских авторов Линь Цзэсюя, Вэй Юаня, Сюй Цзиюя и Хэ Цютао. Ученый обращает внимание, что информация о России попадала к китайским авторам в основном из западных источников, например переводов европейских работ на китайский язык, выполненных миссионерами, или непосредственно из книг и статей на европейских языках, поэтому очень часто эти сведения оказывались неточными.
Характеризуя исследования одного из первых китайских деятелей, заговоривших о необ- ходимости учиться у «иностранных варваров», заимствовать научные и технические достижения других стран, имперского эмиссара, активно боровшегося с британской опиумной торговлей в провинции Гуандун, Линь Цзэ-сюя (1785–1850), Н. А. Самойлов обращается к анализу написанного автором во время пребывания в Гуандуне в 1839–1841 годах сочинения «Элосы го цзияо» («Основные сведения о России»), которое в качестве специального раздела было включено в работу «Сы чжоу чжи» («Описание четырех материков»). Именно в этом сочинении были впервые приведены факты из биографии Петра Великого, которого автор именует Бида-ван и Бида Эли (Петр Алексеевич) [5: 108]. Линь Цзэсюй связывал истоки могущества Российской империи в первую очередь с теми преобразованиями, которые проводил Петр I. Этот труд о России не мог не вызвать интереса у других китайских авторов, и видный ученый Вэй Юань, внеся некоторые исправления и дополнения, включил его в свой трактат «Хайго тучжи» («Описание заморских стран с картами»).
Н. А. Самойлов исследовал сведения о России в Китае в географических сочинениях, написанных китайскими авторами. Например, в 1848 году увидел свет труд видного китайского государственного деятеля, губернатора провинции Фуцзянь Сюй Цзиюя (1795–1873) «Инхуань чжилюэ» («Краткое описание морей и суши»). Сюй Цзиюй подробно описывал, как царь лично учил солдат и занимался ремеслами, как он строил новую столицу. В заключение автор делает вывод о том, что «нынешняя мощь России берет свое начало с Петра» [5: 109].
Важной вехой в плане систематизации сведений о России в Китае следует признать книгу Хэ Цютао (1824–1862) «Шофан бэйчэн» («Готовьте боевые колесницы в страну Полунощную») (1859). Однако представления китайцев о России были весьма далеки от реальности, а во внутренних районах Китая о ней не знали практически ничего.
Н. А. Самойлов, анализируя предложения реформаторов конца XIX века2 по модернизации страны, констатировал, что одним из символов успешных преобразований для выдающегося китайского мыслителя, лидера движения за реформы конца XIX века Кан Ювэя (1858–1927) стал Петр Великий. Кан Ювэй в декабре 1897 года в пятом по счету меморандуме императору Гуансюю писал о том, что Петр, странствуя по европейским странам и переодеваясь в простую одежду, изучал иностранный опыт и сумел в итоге усилить свое государство так, что оно стало одним из сильнейших в мире [5:
-
110]. В шестом меморандуме Кан Ювэй предлагал императору прежде всего обратить внимание на реформаторскую деятельность и идеи Петра I и опыт преобразований в Японии периода Мэйдзи: «Прошу Ваше Императорское Величество использовать решимость русского царя Петра Великого [в деле проведения реформ] как образец решимости» [5: 110].
К седьмому меморандуму Кан Ювэй приложил свою «Записку о реформах российского царя Петра Великого» (« Э хуан Дабидэ бянь чжэн цзи »). Свое обращение к образу Петра и опыту его преобразований Кан Ювэй, в соответствии с конфуцианской традицией, сопроводил отсылками к истории Древнего Китая. Поскольку основными качествами Петра I он считал его твердость, настойчивость в достижении своей цели и то, что русский царь был готов трудиться, как обычный человек, то и сравнивал его с древнекитайскими правителями, прославившимися именно подобными качествами: с легендарным императором Шунем, иньским правителем У-дином, юэским Гоуцзянем и цзиньским Вэнь-гуном [5: 111].
В тексте «Записки» Кан Ювэй подробно изложил основные события истории России Петровского времени и важнейшие факты его биографии. Он писал, что вначале Россия была ослаблена Швецией и западные страны относились к ней с пренебрежением. По мнению Кан Ювэя, тогдашнее международное положение России было незавидным и напоминало нынешнее положение Китая. Однако в самый критический момент в России появился царь Петр, и ситуация в корне изменилась. Он реорганизовал и перевооружил армию, построил флот и провел реформу государственного управления. Излагая биографию Петра Великого, Кан Ювэй сделал акцент на том, что молодой царь постоянно трудился и самосовершенствовался. Он подробно описал его поездку в Голландию и то, что Петр, как простой плотник, работал на голландских верфях, овладевая навыками судостроения. По мнению Кан Ювэя, очень важно, что Петр понял необходимость создания сильного военно-морского флота и строительства портов. Кан Ювэй также обратил внимание на основание новой столицы России [5: 111].
Много места уделил Кан Ювэй объяснению тех причин, которые, по его мнению, способствовали успеху петровских реформ. Прежде всего это личные качества русского царя, его характер. Царь не кичился своим высоким происхождением, трудился как простолюдин, ездил за границу, чтобы освоить иностранный опыт. Он не отказывался даже учиться у своих врагов и многое (особенно в военном деле) пере- нял у шведов. Здесь лидер реформаторов проводил прямую параллель с ситуацией в Китае. Еще одна причина успешности и результативности реформ Петра Великого, по мнению Кан Ювэя, заключалась в том, что он «понимал требования данного момента и делал все в соответствии с волей Неба» [5: 112].
-
Н. А. Самойлов исследовал оценку личности Петра I и его преобразований в сочинениях другого китайского реформатора Янь Фу (1854–1921). Будучи одним из наиболее ярких представителей реформаторского движения, Янь Фу не принадлежал к ближайшему окружению Кан Ювэя в силу глубоких идейных разногласий. В 1897 году он написал статью «О дружбе Китая и России», направленную против противников сближения двух стран. В этой статье Янь Фу привел три довода в пользу укрепления связей с Россией: 1. Россия – первая страна в мире, направившая в Китай своих послов. 2. У России и Китая – общая граница («наши народы живут так близко, что слышны крики петухов… и относятся друг к другу как братья»). 3. На протяжении двухсот лет Россия ни разу не применила оружия против Китая. Содержание этой статьи говорит о том, что Янь Фу так же, как и Кан Ювэй, несколько идеализировал Россию и Петра Великого. Образ Петра был необходим этому реформатору в качестве символа проведения успешных реформ и активно использовался в полемике с китайскими консерваторами. Янь Фу указывал, что Россия когда-то была еще слабее и ближе к национальной гибели, чем нынешний Китай, но смогла выйти из кризиса и добиться своего нынешнего положения только благодаря реформам Петра Великого [5: 112].
-
Н. А. Самойлов констатирует, что в Китае конца XIX века Петр Великий стал символом успешного проведения реформ и заимствования иностранного опыта. Образ царя-реформатора, мудрого правителя огромной страны закрепился за ним надолго. Реформаторы стремились к тому, чтобы император был ближе к народу и выражал интересы более широких кругов шэньши и представителей иных сословий. Поэтому Петр I в их понимании представлял собой образец целеустремленного и доступного для широких кругов монарха, которого отличали гибкость мышления и умение находить выход из кризисных ситуаций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В научных статьях выдающегося китаеведа Николая Анатольевича Самойлова определено место Петровской эпохи в процессе социокультурного взаимодействия России с Китаем, исследованы первые упоминания о Петре Ве- ликом в работах китайских авторов XIX века, изучена значимость осуществленных российским императором преобразований для идеологического обоснования необходимости проведения реформ в период Поздней Цин конца XIX века. Профессор приходит к выводу, что в Китае начал складываться достаточно привлекательный образ российского императора, достойного правителя, который проводил необходимые для страны реформы, укреплял армию, занимался судостроением, что в итоге способствовало превращению России в могущественную европейскую державу.
Кропотливая работа Н. А. Самойлова над темой проводилась в рамках проекта коллектива авторов по изучению образа великого российского императора Петра Великого в историографии, учебной, публицистической, сетевой и художественной литературе, а также в некоторых сферах искусства Китая, Японии, Кореи, Вьетнама и завершилась подготовкой и изданием научной монографии «Образ Петра Великого в странах Восточной Азии»3 [1], [2], [3], [4], [10], [12] в честь торжественного празднования 350-летия со дня рождения Петра Алексеевича Романова в 2022 году.