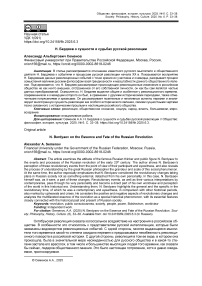Н. Бердяев о сущности и судьбах русской революции
Автор: Семенов А.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается отношение известного русского мыслителя и общественного деятеля Н. Бердяева к событиям и процессам русской революции начала XX в. Показывается восприятие Н. Бердяевым данных революционных событий с точки зрения их участника и очевидца, раскрывает процесс осмысления великим русским философом всей грандиозности и масштабности данного общественного явления. Подчеркивается, что Н. Бердяев рассматривал происходящие революционные изменения в российском обществе не как нечто внешнее, отстраненное от его собственной личности, он как бы сам являлся частью данных преобразований. Осмысляя их, Н. Бердяев выделял общее и особенное у революционного времени, современником и очевидцем которого он был, в сравнении с другими историческими периодами, также отмеченными потрясениями и кризисами. Он рассматривает позитивные и негативные аспекты перемен и анализирует многогранную сущность революции как особого исторического явления, своими сущностными чертами тесно связанного с историческим прошлым и настоящим российского общества.
Революция, общественное сознание, социум, народ, власть, большевизм, мировоззрение
Короткий адрес: https://sciup.org/149148189
IDR: 149148189 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24158/fik.2025.6.3
Текст научной статьи Н. Бердяев о сущности и судьбах русской революции
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, ,
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,
Тем не менее революционные события пробудили творческую активность масс, породили многочисленные дискуссии и доктрины в русском общественном сознании. Это было неудивительно, учитывая грандиозный масштаб происходящих событий и то огромное воздействие, которое они оказали на русское общество. Естественно, мыслители начала XX века пытались осмыслить происходящие общественные изменения, определить их истоки, размышляли над их последствиями для русской истории. Между тем сам по себе масштаб революционных событий был настолько огромен, что ни одна из предлагаемых мыслителями того времени концепций или его интерпретаций не отражала в полной мере всю глубину происходящих общественных изменений, всю грандиозность революции как особого специфического явления русской жизни. Образ ее в общественном сознании тогда был объемен и наполнен различными аспектами, а его осмысление не укладывалось в рамки какой-то одной мировоззренческой парадигмы, одного методологического подхода или концептуального направления в общественной мысли. Это было многомерное, чрезвычайно сложное многоаспектное явление, имеющее столь различные характеристики и составляющие, что осмысливать их предстояло многие десятилетия, если не столетия. Именно такое влияние русская революция оказала на общественное развитие России, да и, пожалуй, на развитие всего человечества. «Каждое время, – пишет Б.Г. Могильницкий, – рождает свой образ революции. Но в любом случае, чтобы претендовать на научность, этот образ должен быть многоцветным, объемным, стереоскопическим. В поисках путей, приближающих создание такого образа, и заключается значение бердяевской концепции русской революции»1.
Естественно, в стороне от данного процесса осмысления произошедших фундаментальных общественно-политических изменений не мог оставаться один из выдающихся мыслителей России данного исторического периода Н. Бердяев. Позже он писал, что пережил революцию не как внешнее, чуждое его внутреннему духу явление, а как часть своей собственной судьбы, внутренней истории, которая органично вплелась в его творческую деятельность, мысли, чувства и рассуждения. Он был не просто наблюдателем за происходившими стремительными общественными переменами и не просто их участником, они проходили сквозь него лично и были частью его внутреннего душевного состояния, образа мыслей и полагания действительности. «Я пережил русскую революцию как момент моей собственной судьбы, а не как что-то извне мне навязанное» (Бердяев, 1991 б: 226). Революция – это была его собственная судьба, которую он переживал как внутренний подъем и как внутреннюю трагедию. Как человек, живший в этот период и прекрасно понимавший происходящие вокруг него общественные процессы, Н. Бердяев осознавал, что революция неизбежна, что старая власть потеряла свой авторитет для русского общества и больше никогда не сможет вернуть его. Череда грандиозных исторических событий внутри России и вокруг нее, мировая война, в которой приходилось участвовать стране на этапе ее исторического излома, – все эти факторы оказали огромное воздействие на политическую и социальную конструкцию традиционного русского имперского государства, вызвав крушение его устоев и безудержное падение авторитета правящей элиты того времени. Причем Н. Бердяев предельно четко видел весь размах охватившего общество масштабного системного кризиса, затронувшего все его институты и все формы его социального бытия: «С Россией произошла страшная катастрофа. Она ниспала в темную бездну» (Бердяев, 1990 а: 55).
Он отмечал фундаментальные изменения в общественном сознании того времени, в самой толще народной жизни. Философ чувствовал масштабную духовную дезориентацию масс, нравственное падение общества, потерю веры в идеалы и ценности, на основе которых российское общество существовало в течение столетий. «Русская революция антинациональна по своему характеру, она превратила Россию в бездыханный труп» (Бердяев, 1990 а: 55).
Перемены в сознании и ментальности народа того времени были настолько всеобъемлющи и всеохватны, что изменили саму суть народной жизни. Это относилось и к вопросам веры и церковной жизни, которые были столпами русского общества на протяжении столетий, и Н. Бердяев, как человек с христианским мировоззрением, отмечал значительное разочарование народа в традиционной религии, в системе православных ценностей и констатировал изменение сознания масс (Бердяев, 1990 а: 86). Церковь в этот период перестала представлять всякий авторитет для русского общества. Н. Бердяев обращает внимание на то, что российская монархия держалась на религиозной вере русского народа, а когда эта вера рухнула, Церковь для народного сознания утратила всякое значение (Бердяев, 1990 б: 109–110). То, что людям предшествующих столетий представлялось в качестве неоспоримых фундаментальных ценностей общественного бытия, превратилось в фикцию. Маятник народного сознания качнулся от веры в Бога и христианских ценностей в сторону их ниспровержения и дискредитации.
Все, что было связано с религиозными авторитетами прошлого, в том числе и сама Церковь, потеряло для людей того времени всякую ценность, она уже не могла служить в качестве ведущей и направляющей силы общественного развития, той фундаментальной основы, на которой зиждились общественные отношения. Все духовные авторитеты, бывшие в «старом» мире, потеряли свое значение и актуальность. Видя все это, Н. Бердяев предчувствовал и предвосхищал тенденцию радикализации русского общества, его дальнейшего безудержного скатывания в революционный хаос. Он считал, что неизбежно в России к власти должны прийти радикальные силы, которые разорвут все социальные связи с прошлым и ниспровергнут все существующие ранее авторитеты и ценности. Таким образом, мыслитель предчувствовал наступление большевизма в его самых крайних формах, его безудержный напор в формировании новой реальности уже следующей исторической эпохи.
Революция, по мысли Н. Бердяева, пробудила в русском обществе такие стихийные разрушительные силы и породила такие деструктивные действия, которые представляют собой настоящую бездну трагедии, всеобъемлющую, по глубине с которой ни одно событие в русской истории уже не может сравниться. Он акцентирует внимание на так называемом революционном насилии, которое в его представлении носит тотальный характер и нарушает все этические нормы, создававшиеся человечеством в течение веков. Н. Бердяев пишет о том, что нельзя избавить мир от существующего насилия также насилием, пусть и революционным, ибо зло порождает только зло и не может привести к каким-то положительным результатам (Смирнов, 2000: 430).
У него вызывал недоумение и удивление тот факт, что люди, которые непосредственно участвовали в революционных событиях на всех их этапах и бывшие действующими лицами этой революции, считали, что они управляют данными трагическими изменениями и могут контролировать их. На взгляд Н. Бердяева, это было не более, чем иллюзия, он указывал на то, что управлять ими было в принципе невозможно, и тех, кто надеялся, что события пойдут в соответствии с их заранее намеченными планами, ждет жестокое разочарование. Никакие планы, прогнозы и предсказания в стихии революционных событий не могли реализоваться уже в силу того, что они были настолько грандиозны, настолько разносторонни и всеобъемлющи, что выходили за рамки даже самых смелых ожиданий и намеченных путей их развития. Ирония состоит в том, что большинство общественных деятелей обвиняли в искажении внутреннего характера русской революции исключительно большевиков: если бы не они, вероятно, она была бы прекрасной, величественной и очень гуманной. Поэтому такой подход совершенно искажает саму суть произошедших революционных потрясений (Бердяев, 1991 а: 36).
Н. Бердяев считал, что это, в принципе, неконтролируемая стихия, это масштабный хаос и историческая бездна, в которую погрузилась Россия. Эти процессы развивались по своей собственной внутренней логике и не поддавались никакому воздействию со стороны. Они распространяются сами по себе, как пожар. Причем сам Н. Бердяев не отделял себя от данных стихийных процессов, он их часть, мельчайшая частица, также закрученная в водовороте революционного времени, в хаосе катастрофических событий и потрясений. «Во мне произошел процесс большого углубления, я пережил события более духовно, и я осознал совершенную неизбежность прохождения России через опыт большевизма» (Бердяев, 1991 б: 228).
При всем этом разрушение окружающего философа привычного мира не изменило внутренний настрой личности самого Н. Бердяева, его взгляды и устремления. Как и прежде, главной ценностью для него являлась свобода, реализуемая в различных сущностях и проявлениях. «Мне трудно вполне принять какую-либо политическую революцию потому, что я глубоко убежден в подлинной революционности личности, а не массы, и не могу согласиться на ту отмену свобод во имя свободы, которая совершается во всех революциях» (Бердяев, 1991 б: 135). Как свободный человек и христианин, он принял революцию и пропустил ее через себя, по этой же причине позже он внутренне восстал против самих революционеров, пришедших к власти. «Духовно, религиозно и философски я – убежденный и страстный антиколлективист… Я антиколлективист, потому что не допускаю экстериоризации личной совести, перенесения ее на коллектив. Совесть есть глубина личности, где человек соприкасается с Богом» (Бердяев, 1991 б: 285).
Мыслитель скрупулезно описывал все происходящие вокруг него изменения. Глубокое удивление у него вызывали не просто фундаментальные перемены в толще народной жизни, но сам по себе радикальный и решительный разрыв массового сознания с прошлым. В какой-то степени мыслитель мог объяснить разочарование в традиционной вере и религии, потерю авторитета Церкви как общественного института в народной среде, но непостижимым для него было почти мгновенное распространение в русском обществе рационального сознания, которое не оставляло места в нем никаким духовным устремлениям и ценностям.
Н. Бердяев был поражен тем, что представления, жившие в народе веками, на которых базировались его сущностные архетипы, связанные с иррациональным религиозным постижением действительности, практически одномоментно трансформировались в немыслимо короткий по историческим меркам срок на сверхрациональное отношение к реальности, в которой духовным элементам не находилось даже места. «Переворот этот был так велик, что народ, живший иррациональными верованиями и покорный иррациональной судьбе, вдруг почти помешался на рационализации всей жизни, поверил в возможность рационализации без всякого иррационального остатка, поверил в машину вместо Бога» (Бердяев, 1990 б: 102). Размышляя об этом, философ отмечал некую инверсию в самой толще народного сознания. Для него было непостижимым, как от одной мировоззренческой парадигмы, существующей веками, общество в столь короткий момент может перейти в другой, да еще так, что от прежней не останется даже следа. «Народная душа, – пишет Н.А. Бердяев, – легче всего могла перейти от целостной веры к другой целостной вере, к другой ортодоксии, охватывающей всю жизнь» (Бердяев, 1990 б: 115).
Больше того, общество воспримет возникновение новой морали и новой нравственности, новой системы ценностей в целом, как нечто само собой разумеющееся, как естественный ход вещей и событий и даже не задумается о возможной ложности и бесперспективности данного пути. Н. Бердяев считал, что этому способствовал тот странный болезненный тип личности, который сформировался в толще народного духа во время революционных событий, личности, находящейся в постоянной инверсии, антиномично разрываемой изнутри. Революционное переустройство «сопровождалось провозглашением новой революционной морали, соответствующей новому психическому типу и новым условиям» (Бердяев, 1990 б: 102). Революция породила невиданную жестокость и бескомпромиссность, а малейшее отсутствие гуманизма для нее стало обычной нормой повседневной жизни, «менее гуманной, не стесняющейся никакой жестокостью» (Бердяев, 1990 б: 102). При этом современное ему российское общество отказывалось замечать то, что новыми вершителями его судеб была ему приготовлена особая, в которой будет нивелирована сама человеческая личность до уровня некого социального строительного материала в создании грандиозной и не имеющей аналогов в истории общественно-политической утопии. Ценность отдельной личности в таком обществе, ее внутреннего мира и свободы будет ничтожной, и массы будут использоваться в этом новом мире как расходный строительный материал в деле гигантского социального переустройства. «Индивидуальный человек рассматривается как кирпич, нужный для строительства коммунистического общества, он есть лишь средство» (Бердяев, 1990 б: 125).
Н. Бердяев предсказывал, что в новом обществе человек будет ценен не сам по себе, а как часть некой гигантской социальной машины, чудовищной организации, которая будет безраздельно властвовать над душами людей и их внутренним миром. Исходя из этого, мыслитель видел всю опасность и остроту данных общественных тенденций. Он считал, что наблюдаемая им революция происходит не во имя личности, не для реализации ее внутренней свободы, а для торжества так называемого человека массы, в которой свобода одного не будет иметь никакого значения, поскольку человек станет частью чудовищной машинерии, использующей его в качестве средства построения невиданной доселе утопии. Причем данные тенденции Н. Бердяев видел не только в русской революции, но и во всех других революциях, происходивших в истории, но именно в России они, по его мнению, нашли наиболее полное воплощение, путь к каждой из провозглашенных ею целей, таких как благо человека, его счастье и лучшее будущее, должен был закончиться реками слез и крови, ужасным страданием и лишением личности всех ее прав и свобод. Согласно его представлению, именно такими благими намерениями и была вымощена дорога в ад, в тот социальный ад, в который ведут общество революционеры, заявляющие, что действуют во имя и во благо каждого человека, а на самом деле стремящиеся превратить его в раба новой всеобъемлющей технократической системы, которая будет контролировать каждый его шаг в повседневной жизни.
Философ считал, что любой из существующих левиафанов государства имеет в себе зачатки тотальной всеобщности и стремится в той или иной форме к порабощению своих граждан, но одни это делают исподволь с помощью традиционных, более мягких инструментов социальной инженерии, а другие – с помощью всеобъемлющего насилия над личностью, жестокости и полного подавления человеческих прав. С этой точки зрения коммунистический режим, установившийся в России, по мысли Н. Бердяева, не слишком отличался от прежнего царского авторитаризма и имел с ним родственные черты и характеристики. Провозглашая все мыслимые права и свободы, на самом деле он стремился закрепостить и лишить воли население страны, превратить его в инструмент своих социальных проектов, в строительный материал для создания новой общественной системы.
Исходя из этого, новая коммунистическая идеология и мораль в значительной мере являются зеркальным отражением религиозной морали прошлого на новом витке общественно-политического развития, революционный режим «оказался ближе к морали старой деспотической власти» (Бердяев, 1990 б: 106), а государственные и общественные институты революционного времени стали калькой с авторитарных институтов и структур авторитарного российского традиционного государства, предыдущая общественная система неявно пускает свои корни в революционном настоящем. «Как ни парадоксально это звучит, но большевизм есть третье явление русской великодержавности… Произошло соединение воли к социальной правде с волей к государственному могуществу…» (Бердяев, 1990 б: 99). Революция в России, как и любая другая, пережила переход от полного хаотического и безудержного освобождения подспудно дремавших народных сил до их жесткого сковывания и подавления усилиями новой власти. Эти идеи и символы делали переход общественного сознания из одной реальности в другую более простым и понятным.
Новая революционная система сохранила максимальное количество элементов от предыдущей и в значительной мере стала ее новым воплощением в современной социально-экономической действительности, на новом витке всемирного исторического процесса. Опасность подобного перехода заключается в том, что во время него личность теряет всякое понятие гуманизма, все становится дозволенным и разрешенным, утрачивается какая-либо духовная составляющая народной жизни, и она обретает черты социальной машинерии, потеряв всякую связь со своими нравственными корнями и архетипами. Революция, таким образом, ставившая своей целью изменение человека в лучшую сторону, в результате пробуждает в нем самые худшие черты и инстинкты. Н. Бердяев исходит из того, что большевизм опирается именно на эти черты в российском обществе, которые всегда были скрыты в народной толще, где также были спрятаны и инстинкты разрушения и дезориентации. Революция не только достала их из этого социального «подполья», ее самозванные лидеры стали опираться на них в осуществлении своих планов социального переустройства общества, используя их в качестве инструмента социальных реформ.
Поэтому не стоит удивляться каким-то вновь открывшимся негативным чертам и свойствам народной жизни, проявившимся во время революционных событий. Они всегда присутствовали в народной среде и были там в латентной, скрытой форме. Революция реанимировала их. Между тем, как считал Н. Бердяев, многие постулаты и идеологемы большевизма вполне соответствовали свойствам и качествам русского национального характера, вернее, той его части, которая была ответственна за ниспровержения и разрушения. Поэтому многие идеи большевизма казались в русском обществе такими притягательными и адекватными существующему историческому моменту. Данное обстоятельство обусловило поддержку большевиков со стороны самых широких народных масс во время событий революции и гражданской войны и сделало их в значительной мере выразителями народных чаяний и стремлений, а «те, которые вели активную борьбу против революции и коммунизма, не имели великой идеи, которую они могли бы противопоставить идеи коммунистической» (Бердяев, 1991 а: 45). По мысли философа, приход большевизма был вовсе не случаен, к нему привела деградация существовавшего ранее общественного строя и его институтов. Это послужило поводом для обвинений философа со стороны отдельных ученых в симпатиях к большевизму. Так, например, С.А. Левицкий отмечал, что после Второй мировой войны Н. Бердяев, ненавидевший фашизм, стал значительно более примирительно относиться к нему, а самих большевиков даже считал предшественниками наступления нового этапа во всемирной истории, хотя раньше характеризовал их власть не иначе как «сатанократию» (Левицкий, 1994: 515).
Прежняя общественно-политическая система уже не соответствовала духу времени и нуждам русского общества, поэтому так охотно оно восприняло большевистские идеи, утопические по своему характеру, но соответствующие глубинным основаниям народной жизни и определенным чертам психотипа, существующего в русском народе. «Мировая роль советской России связана, прежде всего, с социальным переустройством мира. Первый раз во всемирной истории в основу социального строя огромной страны положен принцип, не допускающий эксплуатации человека человеком»1.
Таким образом, Н. Бердяев осмысляет судьбу русской революции во всей ее диалектической сложности. Он видит ее значительную связь с фундаментальными основаниями существования народного духа и национального характера России и с этой точки зрения считает, что ее приход совершенно не является случайным, а служит объективной закономерностью развития самого русского общества. По его мысли, революционные перемены позволили перейти российскому социуму к новому этапу своего исторического бытия и обрести новое общественное и государственное выражение. Но такой путь, по мысли Н. Бердяева, не является легким, он таит в себе множество опасностей и негативных черт. Они связаны с самой природой и сутью революции, которая в своей основе отрицает индивидуальную свободу и автономность личности и делает ее частью грандиозного социального процесса коренного общественного переустройства, строительным материалом происходящих изменений, в которых ей уготовлена роль лишь винтика в гигантской социальной машине будущего общества.
Исходя из этого, Н. Бердяев подчеркивает двойственную природу революции: с одной стороны, она освобождает скрытые общественные силы, а с другой – лишает человека свободной воли, его неотъемлемых прав на автономное существование, растворяя ее в проекте коллективистской утопии. В данном контексте революционное государство, по мысли Н. Бердяева, является квинтэссенцией худших черт любого государственного устройства. Оно как бы вбирает в себя самые негативные черты традиционных эволюционистских государств и реализует их худшие намерения как в отношении отдельной личности, так и народных масс в целом. В данной связи, по мнению мыслителя, революционное государство представляет собой худший вариант общественного бытия. Оно полностью лишает личность любых прав и свобод, на которые не отваживались покуситься даже традиционные авторитарные политические режимы. Революция меняет сами основы народной жизни и черпает из нее худшие черты, делая ставку на тот гигантский общественный негатив, который был накоплен в ее толще на протяжении столетий. Но все же, несмотря на данные умозаключения, Н. Бердяев не настаивает на том, что полностью раскрывает механизмы и суть революционных событий, современником и очевидцем которых он был. В его картине мира само явление революции настолько грандиозно и объемно, что отдельный человеческий разум может обозначить только лишь некоторые из основополагающих черт этого величайшего общественного явления.