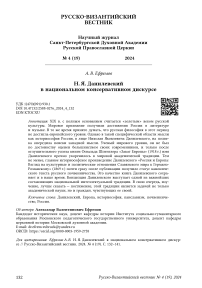Н. Я. Данилевский в национальном консервативном дискурсе
Автор: Ефремов А.В.
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 4 (19), 2024 года.
Бесплатный доступ
Резюме: XIX в. с полным основанием считается «золотым» веком русской культуры. Мировое признание получили достижения России в литературе и музыке. В то же время принято думать, что русская философия в этот период не достигла европейского уровня. Однако в такой специфической области мысли как историософия Россия, в лице Николая Яковлевича Данилевского, на полвека опередила поиски западной мысли. Ученый мирового уровня, он не был по достоинству оценен большинством своих современников, и только после оглушительного успеха книги Освальда Шпенглера «Закат Европы» (1918 г.) имя Данилевского прочно укоренилось в мировой академической традиции. Тем не менее, главное историософское произведение Данилевского «Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому» (1869 г.) почти сразу после публикации получило статус канонического текста русского почвенничества. Это качество книга Данилевского сохраняет и в наше время. Концепция Данилевского выступает одной из важнейших составляющих национальной интеллектуальной традиции. В свою очередь, изучение, лучше сказать - постижение, этой традиции является задачей не только академической науки, но и граждан, чувствующих ее своей.
Данилевский, европа, историософия, панславизм, почвенничество, Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/140308456
IDR: 140308456 | УДК: 1(470)(091):930.1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2024_4_132
Текст научной статьи Н. Я. Данилевский в национальном консервативном дискурсе

Николай Яковлевич Данилевский, 1867 г.
Очевидно: консерватизм как политикофилософский концепт по сути своей — реакция на французскую революцию, на секу-лярность и индивидуализм эпохи раннего модерна, на теорию прогресса и связанные с ней политические доктрины и технологии. Знаменитый немецкий социолог Карл Манхейм определил консерватизм как «сознательный традиционализм»1 и следование «способу мышления, основанному на идее естественного порядка»2. В тоже время реакция, по верному суждению Н. Бердяева, «должна быть творческой, в ней может быть и подлинное внутренние движение к новой жизни, к новым ценностям»3.
Именно такой творческой реакцией на вызовы, брошенные разрушительной, враждебной естественному порядку эпохой XIX в., стала историософская концепция Николая Яковлевича Данилевского, сформулированная в знаменитом труде «Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому» (далее — «Россия и Европа»). Рассматривая историю как специфическую форму существования живой материи, Данилевский, в противоположность классической европейской схеме линейного непрерывного развития, предложил свое видение исторического процесса как суммы развития дискретных природно-социальных наднациональных общностей, названных им «культурно-историческими типами» («цивилизации» по А. Тойнби и С. Хантингтону, «суперэтносы» по Л. Н. Гумилеву).
Критики обвиняли (и обвиняют) Данилевского в биологизме и методологическом радикализме, ибо его философия истории родилась из синтеза разных научных дисциплин, что для XIX в. было исключительной редкостью. Однако наибольшее раздражение оппонентов вызвало разведение России и Европы в разные культурно-исторические типы. Если бы речь шла о различии России с Индией или Китаем, это воспринималось бы как само собой разумеющееся, но когда дело касалось Европы, все менялось.
Естественно, что представители всех вариантов русского западничества не могли согласиться с идеями Данилевского, утверждающего объективность и неизбежность противостояния Запада не только России, но и славянству, и реагировали на них с крайней неприязнью. Тем более что имперская элита, в немалой части, оказывалась кровно (в прямом смысле) связанной с Европой. Консервативная, западническая по взглядам, петербургская бюрократия с начала XVIII в. строила в России «регулярное государство», механически перенося в нашу страну европейские учреждения и нравы — секулярную власть, отвлеченный легализм, прусскую казарму и проч. Их либеральные оппоненты мечтали о таком же механическом переносе в Россию конституционно-парламентских форм общественно-государственного устройства. В сущности, интеллектуально и духовно, это были очень близкие типы людей, о чем в своих эмигрантских мемуарах хорошо написала член ЦК партии кадетов А. Тыркова-Вильямс. Таким образом, русские почвенники, особенно славянофилы, оказывались куда более жесткими критиками властных и культурных практик петербургской монархии, нежели представители так называемого освободительного движения. Возможно, поэтому некоторые исследователи (В. А. Фатеев, А. А. Тесля) относят членов хомяковского кружка к либеральной части национального общественного движения.
Повторю: теория культурно-исторических типов есть экстраполяция биологических принципов на исторический процесс, и можно вполне согласиться с Н. И. Цим-баевым утверждавшим: «Истоки взглядов Данилевского не могут быть прослежены в раннем славянофильстве»4. Иное дело — панславистские убеждения Данилевского, которые, безусловно, генетически связанны с классическим славянофильством. Однако ко времени выхода «России и Европы» идейное наследие старших славянофилов оказалось в состоянии некоторой исчерпанности. Книга Данилевского придала славянскому движению новый импульс, уже в качестве панславистского канона. «Новое научное обоснование и прилаженная к нему старая фантастическая постройка»5, как писал П. Н. Милюков, называя «фантастической постройкой» учение славянофилов. В это же время происходит процесс, который П. Н. Милюков, не без тенденциозности, назвал «разложением славянофильства». «В основе старого славянофильства, — писал он, — лежало внутреннее противоречие. Идея национальности мешала дать должное развитие идеи мессианизма; а мессианская идея мешала раскрытию идеи национальности»6. Данилевский, по его мнению, взял у славянофилов первую идею, а Владимир Соловьев вторую.
Конечно, сведение славянского движения к «национальности» — очевидная натяжка, ибо задача создания всеславянского государства-союза, о котором мечтали русские панслависты, выходила далеко за рамки узконационального бытия. Однако сама тенденция развития славянофильства отмечена Милюковым верно. Тем более что в 60-е гг. XIX в. старое классическое славянофильство в лице Ивана Аксакова стало постепенно переходить в панславизм. Ранее связи с зарубежными славянами и идеи славянской взаимности были, по преимуществу, делом не А. С. Хомякова или И. В. Киреевского, а М. П. Погодина и его окружения. В этих обстоятельствах «Россия и Европа», с ее релевантным эпохе языком, строгой научностью и безупречной логикой стала мощнейшим интеллектуальным фундаментом русского почвенничества и панславизма. Стоит обратить внимание на несомненный факт: западничество не сумело создать произведения, которое смогло бы претендовать на роль его интеллектуального канона. «На какой труд, подобный, например, „России и Европе“ покойного Н. Я. Данилевского по сложности, по системе развиваемой мысли, могут указать „западники“ в своем лагере?» — задавал риторический вопрос Василий Розанов7. Отсюда — определение «России и Европы», данное П. Н. Милюковым, как «Библии славянофильства»8 и более точное определение К. Хаусхофера, назвавшего книгу Данилевского «Библией панславизма»9.
Впрочем, Владимир Сергеевич Соловьев дал еще одно определение этого великого труда, назвав его «кораном всех мерзавцев и глупцов»10. Вл. Соловьев оказался наиболее яростным и неутомимым критиком идей Данилевского, и обойти это обстоятельство в данной теме невозможно. Но поскольку его длительная полемика с Н. Н. Страховым о значении интеллектуального наследия автора «России и Европы» неоднократно рассматривалась в научной литературе, коснусь лишь сюжета, хронологически предваряющего эту дискуссию. Значимая фигура в отечественном богословско-философском дискурсе, Владимир Сергеевич Соловьев был, как говорится, сам по себе, то есть вне того или иного общественного направления. Однако уже то обстоятельство, что он позиционировал себя как религиозный философ, ставило его в оппозицию к предельно секулярному русскому либерализму. Кроме того в эпоху 60–80-х гг. позапрошлого века, в связи с резким ростом авторитета точных и естественных наук, сама философия нередко рассматривалась как нечто несерьезное и даже лживое. По замечанию Дмитрия Писарева, философия «потеряла свой кредит в глазах каждого здравомыслящего человека: никто уже не верит в ее шарлатанские обещания…»11
В нескольких статьях в газете «Русь» и в «Известиях Санкт-Петербургского Славянского благотворительного общества» Соловьев публикует исключительно критичные в отношении Византии статьи с явными симпатиями к католицизму. Данилевский ответил на них обширным текстом «Владимир Соловьев о православии и католицизме» («Известия Санкт-Петербургского Славянского благотворительного общества», 1885, март) с критикой латинофильских пристрастий философа. Это была его последняя работа. В свою очередь, Соловьев опубликовал ответ на эту статью где, в частности, писал, что Данилевский делает выводы, «исходя из своей, во всяком случае, замечательной теории культурно-исторических типов (подробно изложенной в его сочинении „Россия и Европа“)»12. Также Соловьев указал: «Я вполне признаю существование культурно исторических типов, указанных г. Данилевским», правда, при этом добавлял: «Но их типические различия не закрывают для меня еще более важной противоположности между историческим Востоком и Западом»13.
Через несколько лет, когда Данилевский уже лежал в могиле, философ опубликовал в программно-либеральном журнале «Вестник Европы» обширную статью, названную, как и книга Данилевского, «Россия и Европа». В ней Соловьев утверждал, что нет никаких культурно-исторических типов, а есть сложение универсальных империй, завершившееся созданием Римского государства и формированием понятия «человечество» как духовной и натуральной реальности. Греко-римский мир указал осевое направление развития человеческой культуры. Итак, «видеть в истории человечества только жизнь отдельных, себе довлеющих, культурных типов, этнографически и лингвистически определенных, — значит закрывать глаза на самые важные исторические явления. Для разбираемой теории непонятен буддизм, непонятен ислам и, что для нее печальнее, совершенно непонятно само христианство в его всемирноисторическом значении»14.
Публикация Соловьева вызвала обширную полемику в печати с участием многих значимых мыслителей России (Н. Н. Страхов, К. Н. Леонтьев, В. В. Розанов, С. Ф. Шарапов, Н. И. Кареев и др.). В ходе дискуссии, чувствуя неубедительность своей аргументации, Соловьев, писавший ранее, что Данилевский обладал «крупным умственным дарованием и безукоризненным нравственным характером…»15, обвинил автора «России и Европы» в плагиате. По утверждению философа, первым идею культурноисторических типов сформулировал второстепенный немецкий ученый Генрих Рюккерт. Причем Соловьев сопроводил это утверждение удивительно нелепым тезисом, что Рюккерт не старался «провести свой, в сущности, антиисторический взгляд через всю всемирную историю»16.
Современная наука давно доказала: Соловьев лгал17. И, как завершающий штрих, еще одно пикантное обстоятельство, ярко характеризующее нравственный облик самого Соловьева. Русский философ-эмигрант Александр Кожев в докторской диссертации (руководитель — К. Ясперс) доказал, что сам Владимир Сергеевич — безусловный плагиатор. Кожев писал: «Почти все его метафизические идеи» — главным образом «очень обедненный и упрощенный парафраз» философских воззрений Шел-линга18, но «было бы напрасно искать его имя в сочинениях Соловьева»19. Впрочем, даже вполне лояльный по отношению к Соловьеву советский автор А. В. Гулыга в своей книге о германском философе приводит примеры заимствований, сделанных Владимиром Сергеевичем у немецкого коллеги20.
Думаю, настало время ревизии устоявшихся панегирических оценок роли и значения этого «первого» русского философа, который еще и умудрился заразить значимую группу отечественных мыслителей софиологическим гностицизмом. По моему мнению, к концу жизни Соловьев превратился в рупор космополитического имперства и умеренно-консервативного петербургского бюрократического западничества. Близкий к нему в эти годы литератор Николай Александрович Энгельгардт вспоминал: Соловьев постоянно выбирал для своего проживания в Петербурге отель «Англетер», потому что «здесь его окружали все высшие установления империи: Государственный Совет в Мариинском дворце, Сенат и Синод; в Галерной улице находилась редакция „Вестника Европы“. В перерывы заседаний или после них к философу заходили члены этих установлений, крупные люди, и сообщали ему различные начинания, толкуя события наверху. Лишенный кафедры опальный профессор-философ пользовался дружбой и уважением наиболее просвещенных сановников; его слушали»21.
Критически воспринял «Россию и Европу» консервативный западник, историк и публицист Петр Карлович Щебальский. Данилевскому он посвятил две небольшие статьи. Из них первая, где рецензент разбирал четыре начальные главы «России и Европы», была опубликована в пятом номере «Русского вестника» за 1869 г. Признавая заслуги и таланты Данилевского, «статьи которого в своих подробностях заслуживают внимания и уважения»22, он не соглашается с естественнонаучной методологией «России и Европы». По мнению Щебальского, Данилевский рассматривает физические явления и, «основываясь на них, он считает себя вправе заключать по аналогии о явлениях умственного мира»23. В конечном итоге критик отвергает почти все основные положения «России и Европы». «Мы не согласны с г. Данилевским, — пишет он, — будто культурно-исторические типы сменяют, вытесняют поочередно друг друга»24, «ныне культура одна для всех: это та, которая с Востока перешла в Грецию и оттуда разошлась по всей почти Европе и Америке, обещая проникнуть во все части света и во все концы мира»25. Даже странно, что столь различные авторы — религиозный философ Владимир Соловьев и близкий к М. Н. Каткову Петр Щебальский — оказались настолько единодушны и высказали почти тождественные упреки в адрес концепции Данилевского.
Таким образом, критика идей Данилевского западниками-консерваторами оказалась куда более жесткой, нежели критика либералов (П. Н. Милюкова, Н. И. Кареева и проч.).
Народники, эти бастарды славянофильства, исходя из люмпенизированного романтического представления о народности, якобы находящейся выше нравственности и закона, рассматривали любую лояльность государственной власти как духовную коррупцию. Поэтому публицистика этого направления ограничилась бранью и насмешками в адрес как самого Данилевского, так и его последователей. Впрочем, даже Владимир Соловьев казался им представителем «реакции». Левый радикал Петр Ткачев, говоря о «славянофилах-реакционерах», перечислял: «А Страхов, а Данилевский, а Симоненко, а Стронин, а Владиславлев, а Соловьев (философ)…»26 Ситуация усугублялась еще одним обстоятельством: Данилевский, как ученый-биолог, является крупнейшим критиком учения Дарвина в России. Этого «передовые» люди простить ему не могли, ибо дарвинизм в то время быстро превращался в антихристианский квазисциентистский культ. В эпоху борьбы с генетикой советская публицистика записала Николая Яковлевича в противники мичуринской биологии, хотя в год смерти Данилевского Иван Владимирович Мичурин был относительно молодым (30 лет) и малоизвестным провинциальным селекционером.
К сожалению, русские консерваторы-почвенники, признавая «Россию и Европу» образцовым сочинением, не потрудились сделать критический разбор этого труда. Некоторым исключением являлся Константин Николаевич Леонтьев. Тема «Данилевский и Леонтьев» рассматривалась в научной литературе27, поэтому ограничусь только несколькими замечаниями. Константин Николаевич категорически не принимал панславистскую составляющую в идейном наследии Данилевского. Имея реальный опыт общения с зарубежными славянами, он скептически оценивал их культурные и политические возможности. Кроме того Леонтьев ясно видел эгалитарно-демократические потенции панславизма, считая их разрушительными и враждебными самобытной культуре. «Много фальшивого и необдуманного можно найти, к сожалению, в книге Данилевского. Сюда же относится его доверчивое сла-вянолюбие», — писал Леонтьев28. Ибо, продолжал он, «народы эти до сих пор в лице интеллигенции своей ничего, кроме самой пошлой и обыкновенной современной буржуазии, миру не дают»29.
С высоты современного исторического опыта, панславистская составляющая историософии Данилевского, действительно, выглядит достаточно спорной. Кроме того во многом благодаря панславистам русский консерватизм приобрел не характерную для него ранее германофобию, имевшую в дальнейшем очень серьезные и, на мой взгляд, крайне негативные последствия.
Федор Михайлович Достоевский знал Данилевского еще со времен участия в кружке Петрашевского. После публикации «России и Европы» великий писатель стал поклонником этого сочинения. Однако когда во время русско-турецкой войны 1877–78 гг. в цикле статей «Война за Болгарию» Данилевский предложил сделать Константинополь не русским городом, а столицей всего славянского мира, Федор Михайлович возмутился. «Н. Я. Данилевский решает, — писал он, — что Константинополь должен когда-нибудь стать общим городом всех восточных народностей… Константинополь должен быть наш, завоеван нами, русскими, у турок и остаться нашим навеки»30. Таким образом, Достоевский оказывался куда большим империалистом и националистом, нежели Данилевский. Довольно забавно, но многие русские либералы пытались в дальнейшем развести гуманиста Достоевского и «шовиниста» Данилевского. Так, в эмиграции Н. О. Лосский в «Истории русской философии» писал даже о «горьком разочаровании» писателя в «России и Европе»31.
К концу XIX в. имя Данилевского среди русских почвенников оказалось настолько значимым, что обращение к его идеям и мнениям стало напоминать ссылки советских авторов на работы Карла Маркса. Примером может служить статья А. П. Липранди
«Катков и Данилевский о „Финляндском вопросе“». В сущности, указанный текст состоит из цитат упомянутых в заглавии авторов, «впервые осветивших истинным светом „Финляндский вопрос“ и по достоинству оценивших затеянную финляндскими политиканами фронду»32. Любопытно, но родной дядя автора, генерал И. П. Липранди, разоблачил общество петрашевцев, в котором состоял молодой Данилевский.
ПР0ИСХ0ЖДЕН1Е НАШЕГО НИГИЛИЗМА-
По мои стам ..Эгида гагмсппщаю юромзз^ш;
(Русь 1884, 15 ноябр. i 1 дек.).
Помещенная пфд» выписанным* мглатемъ статья г. К. Толстаго в* 16 X .Руси* (1834) показалась мн! чрезвычайно интересною, кань искрений голоси человека, прмнадлежавпаго къ числу адеп-топ учета, окрещенваго у кас* именем* „нигилизма*, ватЬмъ по-нявшаго его ложность в возвратившагося къ бол^е правильному взгляду на вопроси нравственности и политики, и откровенно излагающего, чтб вменю заставило его, а вероятно и многжхъ дру-гихъ, примкнуть къ нигилистическому и сповЪдатю, а затймъ отрешиться от* него. Въ конц! статьи автор* изъявляет* благодарность за всякая указанья на ошибки н неясности.
Мн! захотелось заслужить ее, указав* на то, чтб представляет*. по моему, неясности и недоразумения именно по вопросу о происхождены и широком* распространена пигилистическаго учета, получившаго такую странную превле кате льност* для молодежи и для немолодежи въ овне дни, а ватЬмъ изложить и собственным мои мысли по атому предмету.
Если я кЬрво понялъ мысль автора, то причина, оттолкнувшая людей изъ поколотя начала шестидесятых* годовъ от* христианских* идеалов*, заключалась въ загрязнены и опошлены их* разными 1удушками или Тартюфами, и что такое же загрязнете и опошлете новых* идеалов* нигилистической этики Юханцовыми и собрапей заставили маогахъ, подобным* же образом*, отвратиться и от* этих* последних*.—Что таков* действительно был* исторически процесс* см^яы убЪждешй у автора и у многих*
Статья Данилевского «Происхождение нашего нигилизма» (1884) в его «Сборнике политических и экономических статей», изданном Н. Н. Страховым (1890)
Нельзя обойти вниманием небольшую полемику о нигилизме, вызванную статьей врача и публициста Константина Константиновича Толстого «Этюды господствующего мировоззрения», напечатанной в аксаковской «Руси» в 1884 г. Раскаявшийся нигилист, Толстой изложил свою версию происхождения и развития нашего нигилизма. Главный тезис автора состоял в утверждении, что нигилизм — специфически русское явление. Его источником, по мнению Толстого, является профанация в русском обществе высоких нравственных идеалов христианства, ханжество официального православия, искажение «иудушками и тартюфами» правды Евангелия. По утверждению автора «Этюдов господствующего мировоззрения», молодежь, хорошо чувствующая фальшь и видящая разницу между словом и делом у старшего поколения, отреклась от христианства, заменив его различными материалистическими доктринами. От интеллигенции мода на материализм перешла к люмпенизированным слоям общества, которые Толстой именует «передней», и стала «обоснованием разного рода преступлений и подлостей»33. Так, по его утверждению, опошлялась и дискредитировалась «высокая истина или новая нравственная арифметика»34 первых русских нигилистов. Следствием этой этико-социальной коллизии Толстой считает состояние, когда очевидно проявились «апатия и бессилие людей честных, смелость и нахальство мошенников, разгул животных вожделений, одним словом, порнификация русского общества»35. Основным средством преодоления нигилизма К. К. Толстой ожидаемо называет возвращение к истинно-христианским ценностям. Статья Толстого произвела на читающую публику довольно сильное впечатление.
Данилевский в «России и Европе» касался вопроса о нигилизме, утверждая, что он есть «последовательный материализм и больше ничего»36. Что касается специфики русского нигилизма, то это, как считал Николай Яковлевич, — его карикатурность, ибо для Запада нигилизм — «плод отчаяния целых поколений»37, а в России он — «не более как сбоку припека»38.
Статья Толстого побудила Николая Яковлевича к написанию ответного текста «Происхождение нашего нигилизма» (Русь. 1884. № 22, 23). С его точки зрения, русский нигилизм — дитя старого национального недуга, желания во всем подражать Западу, и посему он — лишь карикатура на нигилизм европейский. «Самостоятельность наша в деле нигилизма оказалась только в одном — в том, в чем всякая подражательность самостоятельна, именно мы утрировали, а следовательно, и окарикатурили самый нигилизм»39. Источником нигилизма на Западе, по мнению Данилевского, стало уклонение западного христианства в ересь папизма, а затем и в бесчисленные ереси протестантизма. Разочарование в западном христианстве и привело к появлению нигилизма, ведь «для отрицания такого идеала не было уже, конечно, никакой надобности в его загрязнении или искажении: он уже сам по себе носил в себе достаточное количество и лжи, и грязи»40.
Дискуссию продолжил известный публицист Никита Петрович Гиляров-Платонов. Его статья «Откуда нигилизм» (Русь. 1884. № 24) была довольно критичной в отношении многих утверждений Данилевского. Нигилизм, полагал Гиляров-Платонов, — «восстание против лицемерия, против проповедников идеалов, которые сами в эти идеалы не верят»41. Очевидно, основной тезис Гилярова-Платонова вполне совпадает с мнением К. К. Толстого.
Следует отметить: каждая из сторон недостаточно полно рассмотрела этот сложнейший вопрос. Безусловной можно считать связь нигилизма в России с духовным кризисом Запада. Как раз в этот момент он обрел яркую художественную форму в трудах Фридриха Ницше («Так говорил Заратустра», 1883–1884 гг.; «По ту сторону добра и зла», 1886 г.). В то же время российский нигилизм имел существенные отличия, что позволяет говорить о нем как о специфически русском феномене. Именно так его воспринимали знаменитые западные авторы: О. Уайльд, А. Конан Дойль, Дж. Конрад, С. Моэм, К. Бликсен и др. Сколь это ни удивительно, но нигилизм в нашей стране нередко обретал вид секулярного культа, находил фанатичных адептов и даже мучеников. Именно это обстоятельство дало основание Владимиру Соловьеву пошутить в письме Н. Я. Гроту по поводу нравственной коллизии современных ему нигилистов: «Все мы произошли от обезьяны, поэтому давайте любить друг дру-га!»42 Русские нигилисты пламенно верили в прогресс — научный, социальный, политический и моральный, отсюда проистекало их страстное желание к переустройству России и всего мира. По моему мнению, участники дискуссии не разглядели ужасных потенций отечественного нигилизма, катастрофически реализовавшихся после памятных событий 1917 г.
В советское время, когда Данилевский был под запретом, в СССР оставалось немало поклонников его идей, в числе которых — два лауреата сталинских премий, художники М. В. Нестеров и П. Д. Корин.
После краха СССР наследие Данилевского вновь обрело жгучую актуальность и его идеи получили большую популярность. Думаю, не будет сильным преувеличением сказать: наследие Николая Яковлевича Данилевского стало вдохновляющим для значительной части патриотических движений, возникших в России в Новейшее время. Более того, его концепция имеет огромное (без всякого преувеличения) значение для утверждения политической и культурной идентичности нашей страны, которой прямо противостоят катастрофические практики западного либертарианства и его метаидеологии — лукавый культ «прав и свобод человека», новые фазы сексуальной революции и тому подобное. И, безусловно, верно утверждение Н. А. Бердяева, век тому назад отметившего, что «русское восточничество, русское славянофильство было лишь прикрытой борьбой духа религиозной культуры против духа безрелиги-озной цивилизации»43.
Список литературы Н. Я. Данилевский в национальном консервативном дискурсе
- Бердяев Н. А. Новое средневековье // Философия творчества, культуры и искусства. Т. 1. М., 1994. С. 406–464.
- Бердяев Н. А. Предсмертные мысли Фауста // Освальд Шпенглер и «Закат Европы». М., 1922. С. 27–37
- Гиляров-Платонов Н. П. Сб. соч. Т. 2. М., 1900. 526 с.
- Данилевский Н. Я. Происхождение нашего нигилизма // Данилевский Н. Я. Горе победителям. М., 1998. С. 288–336.
- Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. СПб., 1995. 552 с.
- Достоевский Ф. М. Соч. Л., 1984. Т. 26.
- Кожев А. Атеизм и другие работы. М., 2007. 512 с.
- Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. М., 1996. 799 с.
- Липранди А. П. Катков и Данилевский о «Финляндском вопросе» // Московские ведомости. 1899. № 197. С. 4.
- Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. 560 с.
- Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. 704 с.
- Межуев Б. В. Владимир Сергеевич Соловьев и петербургское общество 1890‑х гг. // Соловьевский сборник: Материалы международной конференции «Владимир Соловьев и его философское наследие». Москва, 28–30 августа, 2000. М., 2001. С. 409–418.
- Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1991. 530 с.
- Милюков П. Н. Разложение славянофильства. М., 1893. 53 с.
- Письма Владимира Сергеевича Соловьева Т. 1. СПб., 1898. 282 с.
- Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996. 702 c.
- Соловьев B. C. Ответ Данилевскому // Известия Санкт-Петербургского Славянского благотворительного общества. 1885. № 3. С. 193–202.
- Соловьев B. C. Письма. Т. 1. СПб., 1908. 282 с.
- Соловьев В. С. Россия и Европа // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 333–397.
- Ткачев П. Н. Кладези мудрости российских философов. М., 1990. 640 с.
- Толстой К. К. Этюды господствующего мировоззрения // Русь. 1884. № 16. С. 52–61.
- Хаусхофер К. Панидеи в геополитике // Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет. М., 2001. С. 227–315.
- Цимбаев Н. И. Славянофильство. Из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М., 1986. 273 с.
- Чижевский Д. И. Гегель в России. СПб., 2007. 411 с.
- Щебальский П. К. Заметка // Русский вестник. 1869. № 5.