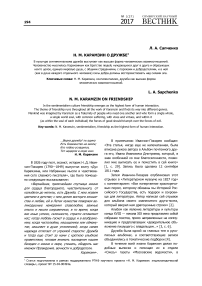Н. М. Карамзин о дружбе
Автор: Сапченко Любовь Александровна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Факультету культуры и искусства Ульяновского государственного университета - 20 лет
Статья в выпуске: 1 (27), 2017 года.
Бесплатный доступ
В культуре сентиментализма дружба выступает как высшая форма человеческих взаимоотношений. Человечество мыслилось Карамзиным как братство людей, нуждающихся друг в друге и образующих нечто целое, единую мировую душу, с общими страданиями, с пороками и добродетелями, и в ней (как в душе каждого отдельного человека) силы добра должны восторжествовать над силами зла.
Н. м. карамзин, сентиментализм, дружба как высшая форма человеческих взаимоотношений
Короткий адрес: https://sciup.org/14114405
IDR: 14114405
Текст научной статьи Н. М. Карамзин о дружбе
…Верна дружба! ты едина Есть блаженство на земле; Кто тобою усладился, Тот недаром в мире жил.
Н. М. Карамзин
В 1826 году поэт, эссеист, историк Н. Д. Иван-чин-Писарев (1790—1849) выпустил книгу «Дух Карамзина, или Избранные мысли и чувствования сего славного писателя», где было помещено следующее высказывание:
« Вернейшая, приятнейшая спутница жизни для сердца благородного, чувствительного, от колыбели до могилы, есть Дружба. С нею играем цветами в детстве; с нею делим восторги юношества и любви, ей в Летах мужества поверяем великодушные намерения славолюбия, важные опыты и мысли сокровенные, в то время, когда все иные успехи, склонности, страсти оставляют нас; когда любовь гаснет в сердце и в воображении; когда честолюбие, насыщенное или обманутое, засыпает в душе утомленной; когда самая надежда отлетает от угрюмой старости: Дружба и тогда еще стоит за нами с кроткою улыбкою приветствия, готовая внимать последним нашим беседам о жизни и мире, утешать, ободрять нас именем Провидения, вечности и добродетели.
Карамзин » .
В примечании Иванчин-Писарев сообщал: «Эта статья, нигде еще не напечатанная, была вписана рукою автора в Альбом почтенного друга его, Ивана Ивановича Дмитриева, который, в знак особенной ко мне благосклонности, позволил мне выписать ее и поместить в сей книге» [1, c. 29]. Запись была сделана 12 сентября 1811 года.
Затем Иванчин-Писарев опубликовал этот отрывок в «Литературном музеуме на 1827 год» с комментарием: «Все начертанное красноречивым пером, которому обязаны мы Историей Российского Государства, есть подарок и сокровище для литературы. Автор написал сей отрывок для альбома своего знаменитого друга-поэта, который вверил нам драгоценные строки» [2].
Альбом как явление литературы и культуры конца XVIII — начала XIX века представлял собой собрание текстов, прямо направленных на коммуникацию и предполагавших «доверительное объяснение пишущего с владельцем…» [3, c. 6].
Дружба была одной из главных тем в рукописных альбомах, а соответствующие записи объединялись в тематические подборки [4].
В течение всей жизни Карамзин делал подобные выписки и помещал их в отделе «Смесь» газеты «Московские ведомости», в научного проекта «Н. М. Карамзин: энциклопедический
«Пантеоне иностранной словесности», в записных книжках.
Так, в «Пантеоне иностранной словесности» (ч. 2) был напечатан сделанный Карамзиным перевод с французского писателя-моралиста Антуана Ривароля «О дружбе» [5]. Рассуждения Ривароля — отнюдь не апофеоз, не поэтизация чувства дружбы, а его аналитическое разъятие. Говоря о дружбе, «люди никогда не понимают друг друга», считает французский автор [6, c. 8], и очень немного в мире тех, кто служит ее образцом. Ривароль выделяет три рода дружбы: уважение, соединенное с любовью, привязанность без уважения и, наконец, сочетание душ. Это и есть истинная, неразлучная дружба. Ривароль приводит высказывание Монтеня, которое часто затем повторял и Карамзин: «От чего, говорит Монтень, от чего происходит моя радость, мое удовольствие, сладостный покой души моей, когда я вижу милого своего друга? От того, что это он; от того, что это я — более ничего сказать не умею» [6, c. 12]. Французский писатель подчеркивает редкость этого явления («дружба требует великой души») [6, c. 15], хотя люди великие часто «неудобны в дружбе» [6, c. 21], и рассматривает более привычные отношения между людьми: родство, нескромная искренность, лесть, тщеславие, извлечение пользы, обоюдная ненависть против третьего... Ривароль предчувствует, что снятие сентиментально-романтического покрова с дружбы оскорбит лицемеров, но знает, что «люди прямодушные не боятся анатомии сердца человеческого» [6, c. 17] (ср. у Пушкина: «Что дружба? Легкий пыл похмелья, / Обиды вольный разговор, / Обмен тщеславия, безделья / Иль покровительства позор» [7, c. 46] — своего рода поэтический «конспект» статьи Ривароля).
У Карамзина иной взгляд на проблему. В его ценностном мире под именем дружбы подразумевалось наиглавнейшее для него в человеческом общении: родство, взаимопонимание душ, их со-чувствие — в настоящем, со своими современниками, и в будущем — со своими потомками.
…Любовь и дружба — вот чем можно
Себя под солнцем утешать!
Искать блаженства нам не должно, Но должно — менее страдать;
И кто любил, кто был любимым,
Был другом нежным, другом чтимым,
Тот в мире сем недаром жил, Недаром землю бременил, — писал Карамзин в «Послании к Дмитриеву…» [8, c. 138].
Тема дружбы проходит через всё карамзинское творчество и предстаёт в разных жанрах, стихотворных и прозаических, в посланиях, повестях, очерках, посвящениях, альбомных записях и т. д. «Мы живем в печальном мире; но кто имеет друга, то пади на колена и благодари вездесущего!» [8, c. 135] — читаем мы в карамзинском «Посвящении» к альманаху «Аглая».
Культ дружества как определяющая нравственно-эстетическая установка писателей-сентименталистов был унаследован Карамзиным от Монтеня и Руссо, чьи мысли о дружбе он часто цитировал. Причем наиважнейшим для него было не подведение морально-философских итогов, не претензия на владение истиной, а взаимопонимание, родство душ. Человечество мыслилось Карамзиным как братство людей, нуждающихся друг в друге и образующих нечто целое, единую мировую душу, с общими страданиями, с пороками и добродетелями, и в ней, как в душе каждого отдельного человека, силы добра должны восторжествовать над силами зла.
В 1811 году Н. М. Карамзин собственноручно составил для великой княгини Екатерины Павловны (сестры императора Александра I) альбом, содержащий высказывания крупнейших философов о Боге, государстве, о любви к отечеству, о супружестве, о добродетели, о дружбе и т. д. Еще один альбом Карамзин вручил в 1821 году императрице Елизавете Алексеевне, с которой его также связывала искренняя переписка, духовное единение, взаимопонимание [9]. В альбомах были помещены многочисленные «мысли» Боссюэ, Ларошфуко, Монтеня, Монтескье, Паскаля, Руссо и других авторов о человеке, природе, обществе, дружбе.
В альбоме, составленном для великой княгини Екатерины Павловны, Карамзин поместил выписку из Руссо: «Человеческие души хотят соединиться, чтобы открылась вся их ценность; сила, притягивающая друзей друг к другу, словно магнитом, неизмеримо больше, чем сумма их отдельных сил. Божественная дружба! Это твой триумф!» [10, c. 188] (оригинал по-французски.).
В высказываниях Руссо («Эмиль, или О воспитании») акцентирован социальный аспект проблемы. Дружба рассматривается как скрепляющая человеческое сообщество сила, как специфическое свойство человека вообще, как условие его существования в социуме. Люди нуждаются друг в друге именно в силу своего несовершенства: «Слабость человека делает его общительным; общие наши бедствия — вот что располагает наши сердца к человечности: мы не чувствовали бы обязанности к человечеству, если бы не были людьми. Всякая привязанность есть признак несостоятельности; если бы каждый из нас не имел никакой нужды в других, он не подумал бы соединиться с ними. Таким образом, из самой нашей немощи рождается наше зыбкое счастье…» [10, c. 188].
Вслед за французским философом в альбоме было помещено (под названием «Из русского писателя») [10, c. 190] то же самое высказывание о дружбе, что и в альбоме Дмитриева.
Затем следовали выписки из Монтеня «О дружбе». Монтень полагает, что нет ничего более естественного и в то же время более возвышенного и бескорыстного, чем истинная дружба. Потребность в ней более насущна и приятна, чем нужда в огне и воде. В подлинной дружбе, считает Монтень, отдаешь другу более, чем требуешь от него, делаешь для него больше добра, чем он тебе, и настаиваешь на том, чтобы друг сделал благо себе. Дружба должна иметь стойкие и выносливые уши, не изнеживать их, чтобы слышать правду о себе, а не только учтивые слова и выражения, потому что те, кто осмеливается искренне судить нас, выказывают подлинную дружбу, если даже эта правда ранит. Дружеские отношения основаны на чувствах сильных и мужественных, дружба не боится резких и решительных слов. Дружба у Монтеня возводится в ранг символа подлинно человеческих отношений, становится предметом культа. Редкая удача и бесценный дар, говорит он, — порядочный и разумный человек, взгляды которого соответствуют вашим и который следует за вами в своих воззрениях [11, I, c. 233—234].
Карамзин выписывает из Монтеня: «Если бы у меня настойчиво требовали ответа, почему я любил моего друга, я чувствую, что не мог бы выразить этого иначе, чем сказав: «Потому, что это он, и потому, что это я» [11, I, c. 234] (оригинал по-французски).
Будучи прекрасно осведомлен о том, что писали о дружбе Руссо, Монтень, Ларошфуко (в альбоме помещено его стихотворение «О, что за клад сердечный друг…»), Карамзин излагает свое видение этой формы взаимоотношений. На общем фоне яснее проступает специфика карамзинского понимания дружества.
Метафорическое обозначение дружбы у Карамзина как вернейшей, приятнейшей спутницы жизни характеризует его художественный мир, его философско-эстетические воззрения и создает (вместе с другими текстами) специфический образный ряд: спутница, душа, сестра, подруга, — акцентируя, таким образом, эмоциональную, сердечную природу этого чувства. Ка- рамзинская трактовка дружбы исключает выгоду, покровительство, скуку и т. п., утверждая абсолютную и вневременную ценность дружбы. Почти сразу же обозначается в отрывке и другая, неотрывная от первой и столь же свойственная творчеству Карамзина тема — время и вечность, т. е. этапы человеческой жизни, с присущими каждой эпохе чувствами и устремлениями, а после — загробное бытие (где, как хотелось верить Карамзину, родственные души вновь найдут друг друга).
С этой точки зрения особую значимость приобретает дружеская переписка Карамзина.
«Более трёхсот пятидесяти писем Н. М. Карамзина к его земляку, соратнику по творческому цеху и ближайшему другу И. И. Дмитриеву, охватывающие сорок с лишним лет их жизни, представляют собой уникальный комплекс эпистолярных текстов одного из ярчайших периодов русской литературы» [12, c. 39]. В письмах, адресованных Дмитриеву, приоткрывается самосознание, самоидентификация российского историографа, который был для него «еще менее Карамзина» [13, c. 248].
Письма к Дмитриеву позволяют глубже рассмотреть историческую концепцию Карамзина, понять его принципиальную установку: писать не «для лавок», а для потомства, основываться на Истине. Истина для Карамзина заключалась не только в правдивости, достоверности описаний, но и в любви к России, в способности постигать в ее исторической судьбе волю и «план» Провидения. В карамзинских письмах представлен также процесс его самоанализа, самоосмысления (он «историк», «писатель», но «не царедворец», «не придворный»).
Карамзин исповедуется перед другом: «Я ленив, горд смирением и смирен гордостию. Суетность во мне есть, к сожалению; но я искренно презираю ее в ceбе и еще более, нежели в других; следовательно, она по крайней мере не сведет меня с ума!» (17 июля 1817) [13, c. 218—219].
В своих письмах он не раз вспоминал родной Симбирск. Когда в 1824 году император Александр I предпринял поездку по Волге, Карамзин сообщил Дмитриеву, что подал государю историческую Записку о волжских городах: «…в десяти строках о Симбирске не забыл я нашего славного Белого Ключа, ни столетнего Елисея Кашинцева, звонившего в колокола, когда Симбирск праздновал Полтавскую победу, и бывшего гребцом на лодке Петра Великого, когда он плыл в Астрахань» [13, c. 377—378].
Карамзин высказывает другу также и свои неодолимые сомнения в возможности познать загадку бытия: «…Чем больше приближаюсь я к концу жизни, тем более она кажется мне сновидением. Я готов проснуться, когда угодно Богу: желаю только уже не иметь мучительных снов до гроба; а мысль о смерти, кажется, не пугает меня» (30 сентября 1821 г.) [13, c. 316].
Примерно за месяц до кончины (16 апреля 1826 года) он почувствовал «неописанную жажду к разительно новому»: «…медики предписывают мне небо Италии, а не Москвы и не Киева. Болезнь сделала меня другим человеком: душа моя хочет нового или чрезвычайного как лекарства. Я ничем бы, кажется, не мог заниматься старым: старое должно обновиться новым местом и положением, чтобы сделаться опять для меня привлекательным» [13, c. 419].
Преданность старинной дружбе, упоение вдохновенным трудом, независимость суждений, доверие, искренность «и в то же время его внутренние противоречия: гордость и смирение, достоинство и суетность, увлечение работой и охлаждение к ней, осуждение деятельности декабристов и попытка понять человека своей эпохи» [14, c. 219] отразились в письмах Карамзина к Дмитриеву, содержащих «в себе сорокалетнюю задушевную беседу с современным ему поэтом и другом его юности» [13, c. II].
Дружеские отношения долгие годы связывали Карамзина с Александром Ивановичем Тургеневым (1784—1845), уроженцем Симбирска, общественным деятелем, историком, писателем.
Карамзин по своей натуре не был склонен к словесным излияниям и в большинстве случаев проявлял сдержанность или, как говорили тогда, скромность. Но дружеское письмо есть, по определению, искреннее послание. Карамзин пишет Тургеневу о здоровье своих близких, о ходе работы над «Историей…», сообщает новости, дает советы, но средь всего этого вдруг наступает открытие несомненного, момент истины, вызванный трагическими минутами бытия, ударами судьбы, — и тогда в письме высказываются самые глубокие, выстраданные мысли о жизни и смерти, о русской истории, о России и Европе, об истинных ценностях бытия, о бессмертии души.
Общественные потрясения, горести семейной жизни охлаждали Карамзина к свету, «следственно и к истории» [15, c. 464], и привели наконец к отказу от признания абсолютной ценности писательской деятельности. Тяжело переживая смерть дочери (второй Натальи) в 1815 году, Карамзин обращается к А. И. Тургеневу: «Жить, есть не писать историю, не писать трагедии или комедии, а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душою к его источнику; все другое, любезный мой приятель, есть шелуха, — не исключая и моих осьми или девяти томов... Чем далее мы живем, тем более объясняется для нас цель жизни и совершенство ея. <…> Мало разницы между мелочными и так называемыми важными занятиями: одно внутреннее побуждение и чувство важно. Делайте что и как можете, только любите добро: а что есть добро, спрашивайте у совести. Быть статским секретарем, министром или автором, ученым — все одно» [15, c. 470]. Л. Н. Толстой считал эти строки лучшими из всего написанного Карамзиным.
Для писем к А. И. Тургеневу характерны объединяющие формулировки («мы», «мы оба», «мы с вами», «мы, русские», «два симбиряка», «наша приязнь» и др.), уверенность в согласии, дружеское увещание, мысли, рожденные из душевного потрясения.
13 апреля 1816 года Карамзин писал Тургеневу: «Давно знаю, что вы меня любите; но когда это чувствую, тогда в сердце моем делается какое-то особенное движение. Мы, два симби-ряка, платим и даем взаймы друг другу; рассчитаемся, верно, в день последней земной разлуки. <…> Верьте моей искренности и дружбе, остальное не важно...» [15, c. 472—473].
В письме к родственнику и другу, князю П. А. Вяземскому от 3 ноября 1819 года Карамзин излагает свою жизненную философию: «Живем здесь, как птенцы в яйце; смерть разбивает скорлупу; взглянем, оперимся и полетим! В ожидании сего времени или вечности, если угодно, будем заниматься кое-чем: вы — новою всемирною конституциею и стихами, я — старою российскою историею и прозою; а более всего станем любить жен, детей и добрых людей, к числу которых принадлежат наши друзья…» [16, c. 90].
Парадоксально, но чувства дружбы и любви выходили у Карамзина на первый план и в его взаимоотношениях с царской семьей. «Дух, целомудренно-свободный», по словам Тютчева, «…Умевший не сгибая выи / Пред обаянием венца, / Царю быть другом до конца / И верноподданным России», он мог написать впоследствии Дмитриеву: «Александра любил я как человека, как искреннего, доброго, милого приятеля, если смею так сказать: он сам называл меня своим искренним. Его величие и слава, конечно, давали этой связи еще особенную для меня прелесть…» [17, c. 117].
В то же время осознание ответственности историографа перед своим Отечеством, понимание своего права на независимость и при этом чувства любви, дружества и сострадания позволяли Карамзину постоянно напоминать императору о его долге, влиять на его политику.
В высказываниях Карамзина о дружбе сливаются индивидуальное и общечеловеческое, земное и небесное. Его предположение о существовании бессмертия и истины (имеющей, правда, не рациональную, а эмоциональную природу) начинает выглядеть не беспочвенным.
-
1. Иванчин-Писарев Н. Д. Дух Карамзина, или Мысли и чувствования сего писателя. Ч. 1. М., 1827.
-
2. Литературный музеум на 1827 год Владимира Измайлова. М., 1827.
-
3. Петина Л. И. Художественная природа литературного альбома первой половины XIX века : ав-тореф. дис. … канд. филол. наук. Тарту, 1988.
-
4. Вацуро В. Э. Литературные альбомы в собрании Пушкинского Дома (1750—1840-е годы) // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 г. Л., 1979.
-
5. Ривароль А. О дружбе // Пантеон иностранной словесности. 1798. Кн. 2. С. 199—227.
-
6. О дружбе // Пантеон иностранной словесности. М., 1818.
-
7. Пушкин А. С. Собр. соч. : в 10 т. Т. 2. М., 1959.
-
8. Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. Л., 1966.
-
9. Карамзин Н. М. Альбом с различными выписками (Стихи, пословицы и др.) // ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Т. 1. Индекс 567.
-
10. Лыжин Н. Альбом Н. М. Карамзина // Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н. Тихонравовым. Т. 1. М., 1858.
-
11. Монтень М. Опыты. Т. 1—3. М., 2000.
-
12. Фрик Т. Б. «Мы и современники, и земляки, и друзья около сорока лет»: особенности поэтики писем Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву // Сибирский филологический журн. 2015. № 4. С. 39—46.
-
13. Карамзин Н. М. Письма к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866.
-
14. Шишкина А. А. Отражение работы над «Историей государства Российского» в письмах Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву // Русское слово : Материалы Междунар. науч.-практич. конф. памяти проф. Е. И. Никитиной. Вып. 6. Ульяновск, 2014. С. 214—220.
-
15. Карамзин Н. М. Письма к А. И. Тургеневу // Русская старина. 1899. № 2. С. 463—480.
-
16. Карамзин Н. М. Письма Карамзина к князю Вяземскому (1810—1826) // Старина и новизна. Кн. 1. СПб., 1897. С. 1—204.
-
17. Карамзин Н. М. Письма к В. М. Карамзину (1799—1826) // Атеней. 1858. № 28. С. 110—117.
Список литературы Н. М. Карамзин о дружбе
- Иванчин-Писарев Н. Д. Дух Карамзина, или Мысли и чувствования сего писателя. Ч. 1. М., 1827.
- Литературный музеум на 1827 год Владимира Измайлова. М., 1827.
- Петина Л. И. Художественная природа литературного альбома первой половины XIX века: автореф. дис.. канд. филол. наук. Тарту, 1988.
- Вацуро В. Э. Литературные альбомы в собрании Пушкинского Дома (1750-1840-е годы)//Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 г. Л., 1979.
- Ривароль А. О дружбе//Пантеон иностранной словесности. 1798. Кн. 2. С. 199-227.
- О дружбе//Пантеон иностранной словесности. М., 1818.
- Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 2. М., 1959.
- Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. Л., 1966.
- Карамзин Н. М. Альбом с различными выписками (Стихи, пословицы и др.)//ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Т. 1. Индекс 567.
- Лыжин Н. Альбом Н. М. Карамзина//Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н. Тихонравовым. Т. 1. М., 1858.
- Монтень М. Опыты. Т. 1-3. М., 2000.
- Фрик Т. Б. «Мы и современники, и земляки, и друзья около сорока лет»: особенности поэтики писем Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву//Сибирский филологический журн. 2015. № 4. С. 39-46.
- Карамзин Н. М. Письма к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866.
- Шишкина А. А. Отражение работы над «Историей государства Российского» в письмах Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву//Русское слово: Материалы Междунар. науч.-практич. конф. памяти проф. Е. И. Никитиной. Вып. 6. Ульяновск, 2014. С. 214-220.
- Карамзин Н. М. Письма к А. И. Тургеневу//Русская старина. 1899. № 2. С. 463-480.
- Карамзин Н. М. Письма Карамзина к князю Вяземскому (1810-1826)//Старина и новизна. Кн. 1. СПб., 1897. С. 1-204.
- Карамзин Н. М. Письма к В. М. Карамзину (1799-1826)//Атеней. 1858. № 28. С. 110-117.