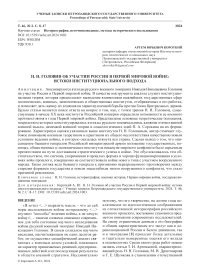Н. Н. Головин об участии России в Первой мировой войне: истоки институционального подхода
Автор: Короткий А.Ю.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Историография, источниковедение и методы исторического исследования
Статья в выпуске: 2 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Анализируются взгляды русского военного эмигранта Николая Николаевича Головина на участие России в Первой мировой войне. В качестве инструмента анализа служит институциональная теория, которая предполагает выявление взаимосвязи важнейших государственных сфер: политических, военных, экономических и общественных институтов, отображенных в его работах, и позволяет дать оценку их влияния на характер военной борьбы против блока Центральных держав. Целью работы является поиск ответа на вопрос о том, как, с точки зрения Н. Н. Головина, существующие в начале ХХ века институты Российской империи определили возможности ее военного противостояния в годы Первой мировой войны. Представлены основные теоретические положения, посредством которых конституировались взгляды русского военачальника, влияние отечественной военной мысли, немецкой военной теории и социологических идей П. А. Сорокина на их формирование. Характеризуя оценки указанных выше институтов Н. Н. Головиным, автор отмечает глубокое понимание военным теоретиком и практиком их общего несоответствия качественно новым условиям ведения войны, в которую оказалась втянута вся страна. Сделан вывод о том, что описываемое бывшим генералом Российской императорской армии положение государственных, военных, общественных и экономических институтов накануне мирового конфликта было серьезным препятствием на пути достижения стратегического успеха в войне. Это обусловливалось тем обстоятельством, что система, укорененная в прошлых формах и хорошо функционировавшая в условиях войн прошлого, совершенно не соответствовала войне нового типа с участием вооруженного народа. Такая логика вела бывшего генерала к признанию неразрешенного противоречия между старыми формами государства и новым масштабным типом вооруженного конфликта, что стало причиной революции.
Н н головин, историография, военная история, первая мировая война, послереволюционная эмиграция
Короткий адрес: https://sciup.org/147242943
IDR: 147242943 | УДК: 930.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.1003
Текст научной статьи Н. Н. Головин об участии России в Первой мировой войне: истоки институционального подхода
«Я хотел <…> выразить мысль – что до сей поры исследователи войны по-прежнему <…> изучают “способы” ведения войны, а не самую войну»1, – такими словами описывал современное для себя состояние научного исследования войны русский военный эмигрант Николай Николаевич Головин. В своем солидном научном наследии, насчитывающем не один десяток работ, он осуществил специфический анализ связанных с военным делом условий, влияющих на характер принимаемых решений, предпринимаемых действий и их последующие результаты в области военной стратегии. Неудивительно
поэтому, что его творчество, на долгие годы исключенное по идеологическим соображениям из отечественной историографии российского военного прошлого, постепенно становится предметом внимания современных исследователей. На смену отрывочным данным о его биографии и общим характеристикам его заслуг как в дореволюционной России и Белом движении, так и в эмиграции [8] приходят более детальные и тщательно выверенные оценки его вклада в полемологию. Среди такого рода работ можно назвать статьи Т. И. Артемьевой, охарактеризовавшей роль Н. Н. Головина, М. И. Драгомирова и Г. Е. Шумкова в становлении отечественной военной психологии [2], и Р. В. Кузнецова, проанализировавшего головинские оценки эволюции народных настроений в ходе Первой мировой войны, приведшей к крушению «установленного государственного порядка» [9]. Особо следует отметить статью И. А. Анфертьева, показавшего на основе источниковедческого анализа работ Н. Н. Головина многосторонность объяснения им причин революционных потрясений в России [1]. Это наблюдение, как представляется, выделяет его из общей среды исследователей, изучавших войну в тот период времени.
В данной статье в отличие от предшественников я сосредоточу свое внимание не только на анализе причин революционных потрясений, представленном в работах Н. Н. Головина, но и выявлю черты институционального подхода в его исследовании участия Российской империи в Первой мировой войне. Отмечу, что в данном случае важны скорее сама призма рассмотрения или метод исследования, чем область его применения. Несмотря на то что предметом статьи не является институциональная теория, тем не менее следует дать ее общий абрис и кратко охарактеризовать познавательный потенциал. Теория институционализма возникла в период интер-беллум. Ее связывают с именами Т. Веблена, Дж. Коммонса и др. [12: 427]. В период формирования институционализм связывался исключительно с экономической сферой, в исследованиях доминировал экономизм, рассматривавший данную область изолированно от остальных. Дальнейшее развитие теория получает уже в 1970-е годы, после чего происходит рост исследований в русле данного направления. Его наиболее видными последователями являлись Д. Норт, Дж. Марч, Дж. Олсен и др. [5]. Именно последние двое сыграли важнейшую роль в расширении применимости данного подхода к другим сферам общества. Подобное расширение взглядов, вкупе с их историзацией [14], привело к конституированию такого направления исследований, как исторический институционализм.
В методологическом плане важно определить значение одного из ключевых понятий, использованных в работе, – институт. Как указывает в своей статье А. А. Белькова:
«Институты <…> понимаются как заданные правила, нормы. В. Штрик и К. Телен фокусировались на изучении формальных институтов и организаций, М. Маркуссен и П. Холл – на неформальных. И формальные, и неформальные институты важны для политики, потому что они определяют, кто участвует в принятии решений и в то же время их стратегическое поведение» [5: 118].
Таким образом, институт следует понимать как совокупность формальных и неформальных практик (правил и норм), в рамках которых происходит принятие решений, определяющих дальнейшее развитие событий. Также не следует забывать о том, что институты оказывают влияние друг на друга, поскольку не являются замкнутыми на себе, а функционируют в определенной общественной среде. В данной статье такой средой будет являться государство – Российская империя начала XX века.
Выделим институты, которые составляют «тело» государства: политические институты, ответственные за принятие основных управленческих решений; экономические институты, определяющие хозяйственно-экономическую деятельность в стране; общественные институты, связанные с выстраиванием и функционированием системы гражданского общества, культуры, образования; правоохранительные институты, обеспечивающие правопорядок на территории функционирования институтов данного государства или охрану внутри; вооруженные силы (военные институты), обеспечивающие безопасность границ государства и институтов, его составляющих, или охрану внешнюю. Данный список, безусловно, не является полным, но достаточен для решения конкретной исследовательской задачи, а именно: как, с точки зрения Н. Н. Головина, существующие в начале XX века институты Российской империи определили характер военного противостояния и его итоги в рамках Первой мировой войны. В данном контексте важно понимать, что во взглядах Н. Н. Головина не содержится в чистом виде институциональная теория, то есть он не формулировал и не применял ее в качестве непосредственного инструментария в своих работах. Речь скорее пойдет о том, что с изменением характера военных противостояний, в первую очередь связанного с невиданным до сих пор размахом действий и вовлечением в них значительных масс народонаселения, изменился взгляд на войну и роль государства. Отныне исход боевых операций решался не мастерством отдельных военачальников или выучкой войск, что свойственно для войн с привлечением профессиональных армий образца прошлых веков, а отлаженностью всего государственного механизма, о чем и писал в своих работах отечественный военный теоретик. В связи с этим некорректно будет оценивать взгляды Н. Н. Головина как институционализм. Скорее уместно говорить об определенной преемственности современного исторического институционализма с его концептуальным видением проблем.
Последний теоретический момент, требующий пояснения, – это ситуация выбора, связанная с принятием того или иного решения в рамках института. Как отмечает А. А. Белькова, в историческом институционализме «в ситуации выбора важны все три фактора: актор, контекст и правила» [5: 118]. Таким образом, ситуация выбора связана с персоналией, контекстом ситуации и правилом или устойчивой практикой решений, принимаемых в системе институтов.
АВТОР И СИСТЕМА ЕГО ВЗГЛЯДОВ
Николай Николаевич Головин (1875–1944) был одним из видных деятелей «Общества ревнителей военных знаний», занимавшегося разработкой военно-теоретических знаний [10]. «Возглавлял группу реформистски настроенных преподавателей Николаевской военной академии и был одним из разработчиков прикладного метода обучения тактике будущих генштабистов» [7: 51]. Имел прекрасную военную и, что важно, общеобразовательную (гуманитарную) подготовку. На различных начальных должностях был участником Первой мировой войны, а позже – Гражданской. В ноябре 1921 года вместе с Русской армией эвакуировался из Крыма. За границей Н. Н. Головин приобрел известность как один из крупнейших военных теоретиков русской эмиграции. С 1922 года он вел «курсы высшего военного самообразования», которые позже переросли в «Зарубежные высшие военно-научные курсы», функционировавшие до начала Второй мировой войны [8].
Для понимания взглядов Н. Н. Головина на военную науку необходимо обратиться к источникам их формирования, каковыми были военная теория, собственный практический опыт и, как это ни странно, увлечение социологией, которое вылилось в конституирование полемологии, в котором Николай Николаевич, как военный теоретик, принял активное участие [11]. Говоря о военной теории и ее роли в обосновании им принципов устройства вооруженных сил, методов ведения боевых действий с учетом различных уровней командования, наставлений для родов войск, стоит заметить, что ключевую роль здесь играет доктрина. Именно в военной доктрине находят изложение все вышеперечисленные вопросы, но, несомненно, важнейшее влияние на доктрину оказывает военная теория. Какие же военно-теоретические знания легли в основу доктринальных представлений Н. Н. Головина? Первое, что стоит отметить, влияние «Науки побеждать» А. В. Суворова. Может показаться странным, что Н. Н. Головин апелли- ровал к опыту второй половины XVIII века, когда формы ведения военных действий имели совершенно иной вид, но для автора был важен взгляд знаменитого российского полководца на наступательный порыв войск, который, как отмечал Н. Н. Головин, должен прививаться солдатам и младшим офицерам, поскольку в современном бою требуется глубокое проникновение пехоты в оборону противника2. Таким образом, теоретик подчеркивал важность преодоления позиционного тупика Первой мировой войны.
Второе – влияние немецкой военной школы. В данном случае стоит выделить двух военных теоретиков – К. фон Клаузевица и Г. фон Мольтке старшего. К. фон Клаузевиц, один из крупнейших военных умов в истории, заложил основы концепции «вооруженного народа», которая с введением системы всеобщей воинской повинности должна прийти на смену малым профессиональным армиям [13]. Оценивая значение К. фон Клаузевица, Н. Н. Головин называл немецкого военного одним из первых, кто обратил внимание на войну как явление социальной жизни3. Концептуально важен терминологический аппарат К. фон Клаузевица. С учетом того, что война XX века стала очень сложной, поскольку в армиях появлялись все новые рода войск и в нее включались все большие массы людей, ключевым становился вопрос о координации их действий. В данном случае термином «трение» К. фон Клаузевиц характеризовал
«концепцию, обозначающую совокупность “неопределенностей, ошибок, случайностей, технических трудностей, непредвиденных обстоятельств, а также влияние, которое они оказывают на решения, моральный дух и действия”» [3].
Таким образом, трение – это то, что отличает войну «действительную», как писал К. фон Клаузевиц, от «бумажной»4. По мысли Н. Н. Головина, вся военная доктрина государства должна быть проникнута мыслью об уменьшении трения, для чего необходимо налаживать межвидовое взаимодействие войск.
Влияние другого немецкого генерала-фельдмаршала – Г. фон Мольтке старшего проявляется в том, что Н. Н. Головин называл «единством действий». Обосновывая его, русский военный теоретик отмечал:
«Успех на войне <…> зависит от единства действий. Поэтому в военном деле путь коллективной работы чреват большими опасностями. Гениальность Мольтке и заключается в том, что он находит нужный регулятор. Этим регулятором и должно служить единство доктрины. Для постоянной творческой работы над нею он создает свой Большой Генеральный Штаб»5.
В связи с этим благодаря работе коллектива Генерального штаба все офицеры, даже отклонившись от плана в результате трения, будут действовать в соответствии с имеющимися уставами, что приведет все действия к единому пункту. Это, однако, не провоцирует шаблонность действий. Наоборот, обращая внимание на разницу в подходах управления массами войск, которые задают две военные школы -французская и немецкая, именно последнюю Н. Н. Головин признавал «децентрализованной» по своей сути. Следуя немецкой военной теории, он, таким образом, фактически выступал апологетом тотального характера войны, когда в нее вовлечена не только армия, но и все население страны. Данный факт логично вытекал из концепции вооруженного народа, предложенной К. фон Клаузевицем, и послужил основанием для системы массовой мобилизации во время военных действий гражданского населения в вооруженные силы и военную промышленность. Вооруженный конфликт при таких условиях охватывал все стороны жизни общества, что убедительно продемонстрировала Первая мировая война.
Скажем несколько слов о практическом опыте. Первую мировую войну Николай Николаевич начал в должности командующего лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. Описывая действия конной бригады, в которую был включен его полк, автор делился собственным опытом боевого управления. Он признавался, что действия офицеров многих полков «были еще более консервативны, чем уставы»6. Дело в том, что многие кавалерийские начальники прибегали к тактике «шока», пытаясь атаковать противника в духе войн прошлого века, что Н. Н. Головин критиковал. На основе, с одной стороны, личного опыта действий, с другой - военной истории он пришел к следующему выводу:
«Новая кавалерийская доктрина требовала нового символа веры <...>: 1) кавалерия бьет не силой шока, а быстротой маневра; 2) кавалерия не боится широких фронтов; 3) управление даже небольшими частями принимает характер стратегического руководства»7.
Во всех военных кампаниях Н. Н. Головин делал особенный акцент на слаженности действий и маневре, именно это отличает его видение будущей войны.
Наконец, третий элемент конституирования взглядов Н. Н. Головина - серьезное научное увлечение социологией. В данном случае особое влияние, уже в эмиграции, на Николая Николаевича оказал известный отечественный социолог П. А. Сорокин. Именно П. А. Сорокин привлека- ет Н. Н. Головина к работе «Социальная и культурная динамика» [6].
В труде «Наука о войне. О социологическом изучении войны», изданном в 1938 году, Н. Н. Головин фокусировал внимание читателя на изменившемся характере современной войны, в которую оказывались втянутыми огромные массы нар одонаселения. Данный фактор в корне изменил все представления о роли государства, общества, экономики в условиях экстремального напряжения, вызванного войной. Кроме того, автор выступал апологетом нового подхода к рассмотрению войны как экстремального явления, ложащегося тяжелым бременем на психику человека. Это приводило его к утверждению о важности взгляда на войну «снизу», не через депеши, приказы высшего командования, сводки, а через воспоминания рядовых и младших офи-церов8. Данный подход можно связать с современной военной антропологией. Он еще больше подчеркивал тотальность нового типа конфликта, поскольку большинство солдат были вчерашними крестьянами, рабочими и студентами, которым после войны необходимо было возвращаться в мирную гражданскую жизнь.
ИНСТИТУТЫ РОССИИ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Предваряя предметный разговор о конкретных институтах, оговорюсь, что взгляды Николая Николаевича имеют системный характер, охватывая многие области общественно-государственной жизни, начиная от военной сферы, государственного устройства, экономического уклада, заканчивая СМИ и образованием. Первым институтом, с которого следует начать анализ, учитывая профессиональную подготовку и опыт Н. Н. Головина, является военный, главная задача которого заключается во внешней защите государства, то есть фактически в обороне других институциональных форм от угрозы извне. Условно, исследование данного института должно отвечать на ряд связанных вопросов: кто защищает? (состав вооруженных сил), как защищает? (военная доктрина и организация армии), чем защищает? (оснащение армии). Рассмотрим, как автор отвечал на данные вопросы.
При ответе на вопрос, кто защищает, на первый план у Н. Н. Головина выходила фигура военного министра В. А. Сухомлинова. Характеризуя его, он отмечал ряд негативных черт, главными из которых были невежественность и легкомыслие. Данные личные качества имели решающее значение в неверной «организации военной мощи»9 России. Автор подчерки- вал, что накануне мировой войны российской армией управлял человек прошлой эпохи10. С учетом быстрых изменений в военном деле, как в области стратегии и тактики, так и в преобразовании средств ведения боя, это привело к глубокому институциональному отставанию России от Германии в данной сфере. Особо Н. Н. Головин отмечал пагубность частой смены начальников Генерального штаба, которая привела к непоследовательности и бессистемности в подготовке к войне, особенно в плане реализации концепции Клаузевица о вооруженном народе. Закономерно возникал вопрос: как получилось, что такой человек оказался у руля вооруженных сил перед столь большими испытаниями? Именно здесь Н. Н. Головин наметил связь с политическим институтом государства. С его точки зрения, когда после революционных событий 1905–1907 годов в политическом институте верх взяли реакционные силы, у руля армии был поставлен В. А. Сухомлинов, более отвечавший политике «поворота вспять»11. Несомненно, решение о назначении на данный пост мог принять только император Николай II, особо расположенный к военному министру [4: 48]. Указанный факт свидетельствовал о важнейшей особенности всей институциональной среды Российской империи – неформальном характере ее устройства и крайней зависимости от некомпетентных мнений самодержца. Это не единственный негативно характеризуемый факт влияния политики на армию, приводимый Н. Н. Головиным.
Вторым было снятие с должности Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, в чем Н. Н. Головин не видел никакой пользы. Однако не этот факт политического влияния на вооруженные силы был худшим. Для Н. Н. Головина таковым, без всякого сомнения, являлся Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, запустивший пролонгированный во времени постепенный развал вооруженных сил России12. Таким образом, институциональное решение революционного органа власти, принятое без оглядки на положение на фронте, запустило процесс распада армии и флота. Замечу, что, несмотря на подчеркнуто негативное влияние политического института в лице самодержца на армию в данных конкретно-исторических реалиях, для автора вопрос принятия большевистской власти был решенным – ее он принять не мог. Причиной тому являлась пропаганда большевиков, беспрепятственная возможность для которой и была открыта решением конституированных после Февральской революции органов власти.
При характеристике военного института важным для Н. Н. Головина был вопрос о высшем командном составе армии. С одной стороны, он отмечал, что у ряда высших военачальников, например у Н. В. Рузского и А. А. Брусилова13, сложилось весьма пренебрежительное отношение к «офицерской и солдатской крови». Лестные характеристики давались генералу М. В. Алексееву, великому князю Николаю Николаевичу, более того, тандем этих двух начальствующих лиц был, по мнению Н. Н. Головина, наиболее успешен14. Общей институциональной проблемой, ставшей весомой для России в годы войны, стала нехватка офицерских кадров, которая ощущалась еще до нее15. Все эти проблемы были следствием подготовки вооруженных сил в духе профессиональной, а не массовой армии, по сути, реликта войн прошлого, а не нового века. Таким образом, уже здесь мы видим «эффект колеи», накопления комплекса неправильных решений, которые формируют устойчивое направление, по которому следовала российская армия как до, так и во время войны.
Уделял автор внимание и двум другим связанным вопросам. Первый – об адекватности, а точнее – неадекватности понимания ситуации на передовой и, как следствие, выдвижении непосильных запросов, что являлось подлинным бичом российской армии:
«Это заблуждение16 получило столь широкое распространение у нас, что многие из высших начальников считали предъявление войскам непосильных требований признаком начальнической энергии. Войскам пришлось дорого заплатить за эту систему “запросов”»17.
Таким образом, свойственное многим высшим чинам неправильное понимание ситуации на передовой приводило к неправильным решениям и увеличению потерь, что негативно сказывалось на моральном состоянии войск.
Второй вопрос касался проблемы ложных донесений. Н. Н. Головин описывал ее на примере боев в Восточной Пруссии в 1914 году, отмечая, что после первых боев в войсках появилась система ложных или условных донесений18. Это приводило к разрыву между штабами и войсками на передовой, что стало особенно значимым недостатком функционирования военного института уже после Февральской революции 1917 года.
Один из важных вопросов – о рядовом составе вооруженных сил. Именно здесь наиболее ярко проявлялось влияние общественных или социальных институтов на армию. В данном случае крупнейшими составляющими института являются следующие: акторы, к коим причислим народные массы, лидеров общественного мнения, прессу; контекст, связанный с развертывающейся войной и ситуацией на фронте; правила или, как было указано, общий консерватизм в принятии решений. Принимая во внимание тот факт, что в институциональных верхах власти как военной, так и политической не было понимания характера современной войны и, соответственно, подготовка к ней велась лишь ограниченно, то и вся политика в области общественных отношений явно не отвечала духу времени, отличаясь консерватизмом. С учетом того что армии, вступившие в вооруженное противостояние в конце лета 1914 года, были выстроены по системе «вооруженного народа», то есть мобилизации, в их состав были включены огромные массы резервистов, выходцев из разных слоев общества. Для России проблема привлечения народных масс в состав армии была особенно тяжелой, с точки зрения Н. Н. Головина. В ней он выделял несколько аспектов. Во-первых, низкий культурно-образовательный уровень населения. Данный факт как нельзя лучше иллюстрировал неудовлетворительное состояние общественных институтов, главным образом образования, в начале XX века. Как отмечал Н. Н. Головин, «серьезной причиной, затруднявшей для России полное использование ее людского запаса, являлась малочисленность образованных людей и малое просвещение народных масс»19. Проблема была еще более усугублена властями, освободившими большое число образованных молодых людей от призыва. Подобная ситуация, которая, как может показаться на первый взгляд, проблемой не является, в России выводила из состава потенциальных офицеров и унтер-офицеров большое число кандидатов. Такое решение, принятое еще Д. М. Милютиным при осуществлении военной реформы в России в 1870-х годах, сыграло, по мнению военного теоретика, отрицательную роль уже в годы Первой мировой войны. Н. Н. Головин также отмечал «пропасть» между представлениями о войне, сформированными у российских военачальников институциональным укладом, и действительностью, которую каждый день наблюдали солдаты и младшие офицеры на передовой20. Эта проблема привела в конце войны к значительному расслоению «между солдатским составом и строевым офи-церством»21.
Важную роль, по мнению Н. Н. Головина, сыграла проблема регионализма, если ее обозначать в современной терминологии. Она являлась следствием провала системы образования в вопросе выстраивания единой национальной идентичности. Особенно сильно данная проблема вскрылась после Февральской революции, когда представители ряда удаленных от фронта губерний прямо говорили о том, что «немец» до них не дойдет. Эти слова свидетельствовали об отсутствии сознания государственного единства среди людей, но также о недостаточных усилиях власти в вопросе «воспитания» молодой нации22.
Вторая проблема, о которой рассуждал автор, по существу являлась проблемой информационного сопровождения войны в общественном пространстве. В связи с этим Н. Н. Головин выделял следующие моменты: неточность, а подчас ложь о состоянии дел на фронте и влияние тыловых настроений на воинские формирования на передовой. Относительно первого аспекта проблемы автор отмечал, что чем «культурнее государство», тем больше нужно обращать внимания на информационное сопровождение войны23. Фактически речь шла о пропагандистском направлении работы государственного аппарата. Отсутствие внимания к данной сфере не могло быть компенсировано красивыми победными реляциями. Любой обман и замалчивание ведут к тому, что армия и общество «жестоко за это мстят»24. Особенно ярко автор иллюстрировал данную ситуацию на примере донесений и писем с фронта в тыл, отмечая, что чем дальше от фронта находился адресант, тем более пессимистичную ситуацию он описывал25. Именно эта ситуация, как полагал Н. Н. Головин, приводила к тому, что общественное мнение начинало оказывать влияние на политические институты, которые становились все менее самостоятельными в принятии решения, что, в частности, привело к увольнению великого князя Николая Николаевича, который был очень популярен именно у солдат и офицеров на передовой, с должности Верховного главнокомандующего. Это была еще одна грубая ошибка, явившаяся следствием постепенного расшатывания привычной институциональной среды. Общество, зачастую исходя из положительных устремлений, провоцировало лишь усложнение обстановки в стране. В результате и без того неудачных министров император менял на еще более некомпетентных. Характеризуя положение второй половины 1916 года, автор также отмечал, что власти подозревали «лучших элементов» в оппозиционности26. Таким образом, по мнению Н. Н. Головина, к концу 1916 года вся институциональная среда, до того времени с трудом, но выдерживавшая тяжесть величайшего военного конфликта в истории, начинала шататься.
Характеризуя экономические институты России, Н. Н. Головин писал:
«Мы начали настоящую главу с указания на то, что причины кризиса <…> были двух родов: одни являлись следствием объективных условий, другие должны быть отнесены к неумению наших руководящих верхов “предвидеть” и “организовывать”»27.
Он отмечал, что проблемы России были связаны с двумя концептуальными аспектами: трудностями, вызванными войной, и особенностями развития страны в довоенный период, те самые «объективные» причины и проблемы акторов институтов, абсолютно неготовых к принятию сложных решений в тяжелейший для страны момент. Пожалуй, не в одной другой области второй аспект не проявился столь четко, как в сфере экономики. Именно в годы Первой мировой войны Российская империя встретилась с колоссальным дефицитом всего необходимого для ведения войны с участием вооруженного народа. Как же сказалось институциональное влияние на экономической сфере и какое воздействие она сама оказала на другие институты общества?
Первое, что отмечает Н. Н. Головин, – нехватка квалифицированных рабочих для предприятий оборонного профиля. С началом боевых действий неминуемо происходит мобилизация, которая из-за невключенности в вопрос такого актора, как Военное министерство, приводит к тому, что в ряды вооруженных сил забирают в том числе высококвалифицированных рабочих. Несомненно, что они принесли бы куда большую пользу своей стране в тылу, работая на оборонных предприятиях. Однако из-за невнимательности министерства, непонимания им ситуации28 эти работники были переведены в строевые подразделения вооруженных сил. Ссылаясь на мнение компетентного генерала А. А. Маниковского, начальника Главного артиллерийского управления, Н. Н. Головин отмечал, что, когда был поставлен вопрос о возвращении этих людей в строй, министерство всячески отказывалось это делать29. Причина заключалась в том, что не была готова законодательная база, то есть Россия институционально оказалась не готова к войне нового типа. Несомненно, данный фактор негативно сказался на производстве боеприпасов для армии и послужил одной из причин снарядного голода в 1915 году, то есть прямо в разгар наступления австро-германских войск на фронте. Началось Великое отступление российской армии, приведшее к падению духа тыла, который, как было сказано выше, начинал негативно влиять на ситуацию в войсках.
Следующая проблема была связана с мобилизацией тыла и переводом экономики на военные рельсы. Данные меры, являющиеся нормой для воюющей державы, в России приняты не были и, более того, постоянно встречали сопротивление со стороны ряда влиятельных лиц, особенно В. А. Сухомлинова. Организация такого сложного процесса, как экономическая мобилизация, требует создание координирующего все мероприятия центра, однако он не был создан. Это является свидетельством консерватизма в принятии решений в стране. Н. Н. Головин приводил мнение исследовавшего процесс промышленной мобилизации России подполковника Ф. Ребуля, который считал, что отсутствие руководящего центра являлось главной проблемой всей тыловой работы страны в годы войны30. Автор приходил к неутешительным выводам, что главной причиной плохого снабжения была неподготовленность руководства31.
Решения очень сильно запаздывали во времени, принимались в спешке, не предупреждая появление проблем. Лишь в середине 1915 года, как отмечал Н. Н. Головин, при большом противодействии бюрократических кругов32 было создано Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. С назначением на должность военного министра А. А. Поливанова, который пошел навстречу новому учреждению, удалось преодолеть острейший кризис в снабжении фронта. Однако наметившееся решение сложных институциональных проблем и преодоление «эффекта колеи» вызвали недовольство высших кругов, выступивших против усиления общественного влияния в области экономики и общей включенности в войну. Судя по всему, представители политических институтов, влияние в которых принадлежало условно старому правящему классу, были недовольны усилением общества, особенно земских учреждений, и созданным для координации экономики Военно-промышленным комитетом. Автор заключал, что сложившаяся ситуация внутреннего противостояния во власти привела к социальному процессу «изоляции правительства»33. Государственные институты оказались отчуждены от собственного общества. Фактически страна находилась на грани катастрофы, которая произошла в 1917 году. Общество взяло реванш у старых государственных институтов. Правда, этим не преминули воспользоваться радикальные политические силы. В итоге Н. Н. Головин подводил своих читателей к выводу об устарелости монархической формы правления, ее неспособности вынести конфликт тотального характера.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким представляется видение Н. Н. Головиным институциональных проблем России в преддверии и во время Первой мировой войны. Военный теоретик считал, что одной из важных проблем являлись «примитивные» формы организации на уровне государственного управления, которые служили помехой для совместной работы с общественностью. Последняя, в связи с тотальным характером войны, становилась крайне важным элементом всего государственного ме- ханизма. Более того, не только правительство, но и народные массы были не готовы к современным формам и способам управления, особенно необходимым в конкретных условиях мировой войны. В результате из-за собственной неспособности преодолеть внутренние противоречия в условиях тяжелейшего военного противостояния все существующие институты продолжали работать «как раньше», идя по собственной колее, которая, по мнению Н. Н. Головина, привела Россию к революциям.
Список литературы Н. Н. Головин об участии России в Первой мировой войне: истоки институционального подхода
- Анфертьев И. А. Н. Н. Головин о причинах поражения Российской империи в Первой мировой войне: источниковедческий аспект // Вестник архивиста. 2014. № 4. С. 75-91.
- Артемьева Т. И. О становлении и развитии отечественной военной психологии: дореволюционный период // Человек и мир. 2018. Т. 2, № 1. С. 73-101.
- Бангей С. Клаузевиц и трение // ВикиЧтение [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://econ. wikireading.ru/hMikTnYA9s (дата обращения 01.11.2023).
- Бей Е. В., Евдокимов А. В. Министерская чехарда. Последние военные министры Российской империи // Военно-исторический журнал. 2020. № 3. С. 46-53.
- Белькова А. А. Исторический институционализм - новое направление в исторических исследованиях // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2014. № 7. С. 117-121.
- Быков А. С. Питирим Сорокин и Николай Головин - ученые в изгнании. Грани научного сотрудничества // Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития XXI века (к 130-летию со дня рождения): Междунар. науч. конф., Сыктывкар, 10-12 октября 2019 г.: Сб. науч. тр. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2019. С. 30-37.
- Ганин А. В. Подготовка кадров Генерального штаба в русской эмиграции межвоенного периода (1921-1939 гг.) // Военно-исторический журнал. 2015. № 11. С. 46-51.
- Квакин А. В. Головин Николай Николаевич // Русская национальная философия в трудах ее создателей [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/golovin_nn.html (дата обращения 31.10.2023).
- Кузнецов Р. В. «Революция опрокинула установленный государственный порядок» // Военно-исторический журнал. 2022. № 3. С. 58-65.
- Латышов С. Л. Общество ревнителей военных знаний // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://old.bigenc.ru/military_science/text/2675807 (дата обращения 31.10.2023).
- Мартьянова Н. А., Рубцова М. В., Цыплакова О. Г. Полемология как учебная дисциплина: новые вызовы для социологического образования // Общество: социология, психология, педагогика. 2023. № 8. С. 114-121.
- Мелихов В. Ю., Осадчая Т. Г. Основные этапы развития институциональной теории // Вестник ТГУ 2011. № 12. С. 427-432.
- Харман Г. Введение в Клаузевица // Логос. 2019. Т. 29, № 3. С. 25-58.
- Чеканцева З. А. Path dependence, политика времени и метаморфозы истории // Вестник Пермского университета. 2020. № 3. С. 5-15.