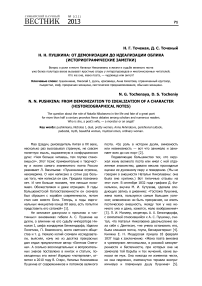Н. Н. Пушкина: от демонизации до идеализации облика (историографические заметки)
Автор: Точеная Наталья Григорьевна, Точеный Дмитрий Степанович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (11), 2013 года.
Бесплатный доступ
Вопрос о роли и месте Натальи Николаевны в жизни и судьбе великого поэта уже более полутора веков вызывает яростные споры у литературоведов и многочисленных читателей. Кто же она, жена поэта, — чудовище или ангел?
Пушкиниана, николай i, дуэль, красавица, анна ахматова, ограниченный кругозор, пьедестал, миф, прекрасная женщина, мистическое предзнаменование, обычная женщина
Короткий адрес: https://sciup.org/14113745
IDR: 14113745
Текст научной статьи Н. Н. Пушкина: от демонизации до идеализации облика (историографические заметки)
Мао Цзэдун, руководитель Китая в ХХ веке, несколько раз высказывал странную, не совсем понятную мысль, выраженную в конфуцианском духе: «Чем больше читаешь, тем глупее становишься». Этот тезис применительно к творчеству и жизни самого знаменитого поэта России развивает Л. Васильева: «Пушкиниана огромна, неизмерима. О нем написано в сотни раз больше того, чем написал он сам. Предела познанию нет. И чем больше познаем, тем меньше понимаем. Обожествляем и даже отрицаем. В годы большевистской богооставленности он сначала был сброшен с корабля современности, потом стал нам вместо Бога. Теперь, в годы маргинальных инициатив конца ХХ века, есть попытки представить его сатаной» [1].
Не затихают дискуссии о причинах и «истинных» виновниках гибели А. С. Пушкина на дуэли, о влиянии на его судьбу императора Николая I, шефа жандармов Бенкендорфа, Идалии Полетики, П. Вяземского, всего светского общества и т. д. Немало копий сломали исследователи, выясняя, кому же из десятка прекрасных дам отдал предпочтение автор «Евгения Онегина». А сколько восклицательных и вопросительных знаков поставлено в книгах и статьях, посвященных его жене! Изрядно «потерпела», отметил в 2010 году В. Старк, Наталья Николаевна Пушкина от современников и потомков великого поэта. «Ее роль в истории дуэли, виновность или невиновность — вот что занимало и занимает всех до сих пор» [2].
Подавляющее большинство тех, кто окружал жену великого поэта или имел с ней отдаленное знакомство, давали весьма прохладные оценки ее духовному миру и поведению. (Мы не говорим о внешности Натальи Николаевны: она была вне критики.) Вот типичные отзывы на этот счет. В сентябре 1832 года графиня Д. Фи-кельмон, внучка М. И. Кутузова, сделала следующую запись в дневнике: «Госпожа Пушкина, жена поэта, пользуется самым большим успехом; невозможно ни быть прекраснее, ни иметь поэтическую внешность, между тем у нее немного ума и даже, кажется, мало воображения» [3]. П. И. Миллер, секретарь А. Х. Бенкендорфа, с симпатией относившийся к А. С. Пушкину, считал, что Наталья Николаевна двусмысленно вела себя с Дантесом, «не умела остановить его, была слишком мягка, глупа, бесхарактерна» [4]. Княжна Е. Н. Мещерская пришла 18 февраля 1837 года к заключению: «Жена поэта виновна в чрезмерном легкомыслии, в роковой самоуверенности и беспечности, при которых она не замечала той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж. Она никогда не изменяла чести, но она медленно, ежеминутно терзала восприимчивую и пламенную душу Пушкина» [5].
А. О. Смирнова, одна из образованных женщин того времени, воспроизвела в своих воспоминаниях деталь биографии А. С. Пушкина, рассказанную им самим:
«— Я иногда вижу во сне дивные стихи, во сне они прекрасны, но как уловить, что пишешь во время сна. Раз я разбудил бедную Наташу и продекламировал ей стихи, которые только видел во сне, потом я испытал истинные угрызения совести: ей так хотелось спать.
— Почему вы тотчас же не записали стихов?
Он посмотрел на меня насмешливо и грустно ответил:
— Жена моя сказала, что ночь создана на то, чтобы спать, она была раздражена, и я упрекнул себя за свой эгоизм. Тут стихи и улетучились» [6, с. 129].
А вот какие впечатления вынесла Софья Карамзина, посетив Н. Н. Пушкину 10 февраля 1937 года: «На нее по-прежнему тяжело смотреть, но она стала спокойной, и нет более безумного взгляда. К несчастью, она плохо спит и по ночам пронзительными криками зовет Пушкина: бедная, бедная жертва собственного легкомыслия и людской злобы» [2, с. 419]. Князь П. Вяземский, один из близких друзей поэта, тоже был солидарен с теми, кто негативно отзывался о поведении Натальи Николаевны накануне дуэли мужа с Дантесом: «Пушкин был, прежде всего, жертвою бестактности своей жены и неумения вести себя» [7, с. 288]. У В. А. Нащокиной сложилось убеждение, что Александр Сергеевич обожал Наталью Николаевну, но она с грустью заметила: «Добрая, но легкомысленная. Ветер, ветер! Право, она какая-то, казалось мне, бесчувственная» [7, с. 119]. В. Ф. Вяземская, наблюдая, как Наталья Николаевна убивалась у тела умершего А. С. Пушкина, сказала: «Несчастная молодая женщина, в сущности, могла винить себя только в легкомыслии, без сомнения, весьма преступном, потому что оно было одной из причин смерти ее мужа» [8, с. 167].
Оценки поведения Натальи Николаевны, данные ее современниками, легли впоследствии в основу литературоведческих и исторических работ, повествующих о семье А. С. Пушкина. Большевистский критик и революционер А. В. Луначарский, занявший в ходе Октябрьской революции должность наркома Советского правительства, полагал, что великого поэта погубила его жена [9]. Известный ученый П. Е. Щеголев сформулировал свое суждение еще более жестко и бескомпромиссно: «В ней ничего не было человеческого, ни ума, ни сердца. Все на грани любовного чувства, на низшей стадии развития… При скудности духовной природы главное содержание внутренней жизни Натальи Николаевны давал светско-любовный романтизм. Она была так красива, что могла позволить себе роскошь и не иметь никаких других достоинств» [10, с. 438]. Кажется, что в стране Советов никто не сомневался в том, что Наталья Николаевна совершила злодеяние и погубила своего мужа. Об отношении жителей СССР к жене великого поэта очень красочно, колоритно и точно живописал Б. Сарнов: «Было это в 1937 году. (Мне было десять лет.)
Вся страна с большой помпой отмечала столетие со дня гибели Пушкина.
Естественно, не оставалась в стороне от этого события и наша школа. Были торжественные вечера, концерты. Ну и на уроках литературы, конечно, тоже постоянно толковали о Пушкине. И вот однажды наша учительница принесла в класс какой-то громоздкий рулон, торжественно развернула его и достала два больших — каждый величиной с нашу школьную стенгазету — листа. Попросила дежурных по классу помочь ей прикрепить эти листы кнопками к стене. Вид у нее при этом был такой, точно она приготовила нам какой-то приятный сюрприз. Мы с интересом ждали.
И вот, наконец, долгая процедура прикрепления этих учебных пособий к стене закончилась, и перед нашим взором открылась такая картина.
Слева висел плакат, на котором — вверху — красовалась надпись: «Друзья Пушкина». Под надписью размещались портреты людей, многие из которых были нам хорошо знакомы: Пущин, Кюхельбекер, Пестель, Рылеев, Чаадаев…
Справа был укреплен другой плакат, на котором такими же крупными буквами была выведена другая надпись: «Враги Пушкина». Под ней красовались портреты людей, многие из которых тоже были хорошо известны: Николай Первый, Бенкендорф, Дантес… Замыкала эту галерею врагов Пушкина прелестная женская головка. То была красавица Натали, Наталья Николаевна, жена поэта» [11, с. 103].
В дальнейшем, на протяжении немногим более 30 лет, советские люди и литературоведы, как и бойцы идеологического фронта, обязаны были клеймить Н. Н. Пушкину. Пригвоздил ее к позорному столбу и такой глубокий знаток творчества и жизни поэта, как В. В. Вересаев. В начале 40-х годов ХХ века, завершая свой путь, он вынес ей суровый приговор: «Жизнь
Натальи Николаевны проходила в непрерывных увеселениях, празднествах и балах. Она возвращалась домой в четыре-пять часов утра, вставала поздно: обедали в восемь вечера; после обеда Наталья Николаевна переодевалась и опять уезжала. Ее сопровождал муж. Давно уже для Пушкина отошла пора, когда он сам увлекался танцами. Но нельзя же было выезжать жене одной. И все вечера Пушкин проводил на балах: стоя у стены, глядя на танцующих, ел мороженое и зевал… Друзья с растущей горестью наблюдали, в каких ужасных для творчества условиях жил теперь Пушкин. Для новых трудов не было уединения…
Домашним хозяйством Наталья Николаевна совершенно не занималась, также и детьми. Балы, обеды, портнихи и модные магазины занимали все ее время. Пушкин жил дома беспризорно, без заботливого женского глаза…
В большей или меньшей степени все винили Наталью Николаевну в смерти Пушкина. Ей тяжело было встречаться с людьми. И она поспешила уехать из Петербурга… О муже Наталья Николаевна печалилась недолго… Отец Пушкина, посетив в начале осени свою невестку, нашел, что ее сестра Александра гораздо больше огорчена смертью Пушкина, чем Наталья Николаевна» [7, с. 552—554].
Но более чем суровый вердикт, вынесенный жене поэта В. В. Вересаевым, был, как показала жизнь, еще сравнительно мягок. Некоторые деятели культуры в беспощадном обличительном раже пошли дальше и едва ли не достигли уровня средневековой охоты за ведьмами. Выдающийся режиссер С. Эйзенштейн в годы Великой Отечественной войны готовился к съемкам художественного фильма «Любовь поэта», в котором планировал снять душераздирающие кадры: Наталья Николаевна в белом роскошном платье, подобно шекспировской леди Макбет, сидит у постели умирающего Пушкина и безуспешно пытается смыть кровь со своих рук [11, с. 114]. Последние крупные мазки в портрет жены поэта — изощренной ехидны и преступницы — нанесли две известные российские поэтессы.
Марина Цветаева писала о Наталье Николаевне с нескрываемым презрением: «Красавица… Молчаливая. Если приводятся слова, то пустые. До удивительности бессловесная. Все говорили об улыбке, походке, очах, плечах, даже ушах — никто о речах… страсть к балам… Зал и бал — естественная родина Гончаровой… А дома зевала, изнывала, даже плакала. Дома — умирала. Богиня, превращенная в куклу». Наталью Николаевну Марина Цветаева опреде- лила как роковую женщину, как пустое, смертоносное место, к которому стягиваются, вокруг которого сталкиваются все силы страсти: «Гончарова не причина, а повод смерти Пушкина, с колыбели предначертанной. Судьба выбрала самое простое, самое пустое, самое невинное орудие: красавицу» [6, с. 132—133]. Квинтэссенция отношения Марины Цветаевой к жене поэта, видимо, заключается в четырех ее стихотворных строках:
«В пушкинские дни культуры Правда просится сама: Умный, а погиб за дуру, — Вся и польза от ума».
Если у Марины Цветаевой применительно к Наталье Николаевне доминирует презрение, то Анна Ахматова демонстрирует к ней жгучую ненависть. Я. Л. Левкович верно определяет ее позицию: «Она обрушивает на жену Пушкина всю горечь за его гибель. Пишет запальчиво, резко и пристрастно. Ее захлестывает гнев против всех, кто был рядом с Пушкиным и не спас его. Все семейство Карамзиных для нее данте-совская “веселая шайка”. Наталья Николаевна — “агентка” Геккерна» [12]. Анна Ахматова обозвала жену поэта «ханжой». Поэтесса с возмущением заявила, что вдова Пушкина поражала всех «удивительным бездушием» к памяти Александра Сергеевича [13].
Нет никаких сомнений, что отрицательный облик Натальи Николаевны создавался учеными, деятелями культуры и искусства в СССР под руководством идеологов коммунистической партии. То было время торжества разоблачительной стихии, направленной против царизма. На орехи доставалось и Николаю I, и Бенкендорфу, и Уварову, и Наталье Николаевне. Но весьма симптоматично, что представители русской эмиграции тоже энергично критиковали и явно осуждали поведение жены поэта. Г. Адамович обратил внимание на то, что Н. Н. Пушкина ничем, кроме редкой красоты, не была наделена природой и что она «невольно» сгубила мужа [14]. Д. Мережковский констатировал, что Наталья Николаевна не проявляла интереса к произведениям своего мужа [15].
Глубоким разочарованием веет от страниц отличной книги А. Тырковой-Вильямс об А. С. Пушкине, воссоздающих облик его жены: «Собственная красота ее опьяняла, кружила ее маленькую пустую головку. Кругом нее были женщины образованные, начитанные, умные, как Карамзины, Бобринские, Элита Хитрово и ее дочери, Смирнова. Они умели слушать своих умных друзей, умели и сами говорить. Наталья
Николаевна молча присутствовала при их беседах. Вряд ли даже слушала» [16]. А. Тыркова-Вильямс с досадой и раздражением замечает, что жену Пушкина характеризовали «неизлечимая тупость» и «ограниченный кругозор»: «Письма, дневники, воспоминания современников не раз упоминают об ее красоте, об ее нарядах. Но никто не сохранил для потомства ни одной ее остроты, ни одного меткого замечания» [16].
Казалось, облик Н. Н. Пушкиной нарисован был исследователями достаточно объективно (разумеется, следует отбросить попытки представить ее дьявольским отродьем). Перед нами возникает образ исключительно красивой, легкомысленной, поверхностной женщины, любящей светские развлечения. И только. Однако во второй половине 70-х годов ХХ века темные, черные, серые краски в портрете Натальи Николаевны усилиями новой когорты пушкинистов совершенно неожиданно сменились небесно-лазурными. Связано это было с выявлением М. Яшиным, И. М. Ободовской и М. А. Дементьевым писем Н. Н. Пушкиной к ее брату Д. Н. Гончарову.
И вот уже Б. Мейлах в 1975 году заговорил об ином внутреннем наполнении ума и характера жены поэта, совершенно отличных от прежних канонических и клеветнических утверждений. «До сих пор, — писал он, — не только читателями, но и литературоведами облик Натальи Николаевны воспринимался чаще всего вне эволюции интересов и чувств. Ее помнят такой, какой Пушкин впервые увидел ее на балу». Под пером Б. Мейлаха фигура жены поэта засверкала более чем неожиданными цветами: «Раньше считалось, что Наталья Николаевна была погружена лишь в светские заботы. Между тем, она была серьезно озабочена материальным положением семьи, о чем говорит ее признание брату о крайне стесненном положении (например, из ее письма от 27 сентября 1833 года, написанного в отсутствие Пушкина, мы узнаем, что она осталась с маленькими детьми «без копейки», если бы не заняла несколько сот рублей). Выполняя поручение Пушкина, она ведет переговоры с братом о бумаге для печатания «Современника». Вообще практичность Натальи Николаевны, как она вырисовывается из ее писем, поистине неожиданна и совершенно меняет, с этой точки зрения, сложившееся представление о ее характере» [8, с. 195—196].
Правда, отмечая выявленные положительные качества у Натальи Николаевны (деловитость, забота о муже и детях), Б. Мейлах советовал не торопиться с идеализацией ее облика.
Он напоминал: «По-прежнему открытым остается вопрос о том, насколько ее занимали творческие замыслы, насколько муж посвящал Наталью Николаевну в ход своей работы, и, вообще, насколько она интересовалась поэзией, литературой. Настораживает тот факт, что в письмах к ней Пушкин не рассказывает ни об этих замыслах, ни о своем творчестве» [8, с. 197].
Однако осторожные предостережения Б. Мей-лаха не все услышали. Кампания по возведению Натальи Николаевны на пьедестал быстро набрала обороты. Большой вклад в нее внесли И. Ободовская и М. Дементьев [17]. Характеризуя их работы, В. И. Кулешов писал с восхищением в предисловии одной из них: «Выход в свет целой серии книг о Пушкине и его окружении и основанных на тщательном изучении архивов Полотняного завода А. П. Араповой и других произвел поистине переворот в укоренившихся представлениях о Наталье Николаевне… Созданная Ободовской и Дементьевым концепция «жены поэта» наиболее близка к истине…
Ободовская и Дементьев приводят аргументы для оспаривания уничижительных оценок Натальи Николаевны… Мы видим, как Пушкин любит жену… Он посвящает ее и в свои литературные дела, посылает к Плетневу, Одоевскому с распоряжениями по «Современнику», просит известить, пропустила ли цензура «Записки Дуровой», вводит в курс своих взаимоотношений с «Московским наблюдателем». Мы определенно узнаем, что Наталья Николаевна по душевному складу — домоседка. Она знает цену свету, считает недостойным человека «втираться» в него. Мать четверых детей, она ласкова и заботлива… Хозяйство в доме она вела сама, даже, за отсутствием мужа, снимала квартиру, переезжала, нанимала слуг, умела блюсти каждую копейку… Умела проникаться интересами мужа… ничто не может заслонить добрых качеств Натальи Николаевны» [18].
Превознося достоинства жены поэта, ее горячие поклонники теряли всякую меру. «Какое долгое время, — патетически восклицал Н. Скатов, — сколько разысканных фактов и документов и какие усилия беспристрастия потребовались всем нам, чтобы постепенно начал уходить образ Натальи Николаевны как пустой светской красавицы, увлеченной только балами и только развлечениями, разорявшей мужа нарядами… Жена Пушкина умела и могла быть трогательно заботливой подругой поэта, пытавшейся брать на себя даже часть бремени, которые традиционно в старой семье нес муж: ведь ему так нужен покой для работы… Юная Таша, как ее зва- ли в семье Гончарова, достойно приняла и вынесла судьбу Натальи Николаевны Пушкиной. Она недаром стала избранницей поэта, женою Пушкина — она была обычной гениальной женщиной, а что такое гениальная женщина, Пушкин, создавший Татьяну, хорошо знал» [19].
Наступило время, когда большинство пушкинистов в благом порыве разом простили Наталье Николаевне не только ее мнимые, спорные, но и очевидные грехи и недостатки. Например, длительное кокетство ее с Дантесом выглядело неприлично и удручало (если не больше!) Александра Сергеевича. Но вот что говорит по этому поводу Д. Благой: да, в ответ на «страстные домогательства» красивого кавалергарда «Наталья Николаевна призналась в любви к нему». Следовало ли Пушкину огорчаться или возмущаться? По мнению Д. Благого, не надо. Просто, рассуждает он, у жены поэта пришла пора, «когда разница возрастов и многое иное скажется резче, и, блистающая молодостью, окруженная всеобщим поклонением, упоенная успехами, она обратит свои помыслы к другому. Это природное, естественное и произошло» [20, с. 49]. Завершая ход своих мыслей, Д. Благой пишет: «Наталья Николаевна была молода, была прекрасна и бесконечно радовала, чаровала Пушкина своей молодостью и красотой. Да, как он и хотел, она блистала в своей сфере, где была к этому призвана. Она очень любила балы, наряды, любила кокетничать со своими бесчисленными поклонниками. Глубочайше потрясенная смертью мужа, она сама горько каялась в этом… Один раз за всю их семейную жизнь увлеклась было и она, но и в этом увлечении явила себя его «милым идеалом», его Татьяной. А в истории трагической гибели Пушкина она была не виновницей, а жертвой тех дьявольских махинаций, тех адских козней и адских пут, которыми был опутан и сам поэт…
И никто не должен, не смеет не только бросить, но и поднять на нее камень» [20, с. 58—59].
Нам представляется, что эти похвалы поведению Натальи Николаевны носят преувеличенный характер. Но они, как ни странно, не явились вершиной славословия. Некоторые пушкиноведы превзошли Д. Благого.
Панегирики Наталье Николаевне у Л. А. Черкашиной приобрели невиданный сентиментально-экзальтированный и даже мистический характер. «Духовный мир Натальи Николаевны Гончаровой, — утверждает эта исследовательница, — еще не познан, а миф о пустой бездушной красавице, сыгравшей роковую роль в судьбе поэта, жив и поныне: минувшие столетия по- родили немало слухов и небылиц вокруг ее имени. Наталья Гончарова — одна из самых прекрасных и загадочных женщин своего времени». В качестве доказательства своего тезиса Л. А. Черкашина привлекла «чудом уцелевшие» ученические тетрадки юной Наташи, которые «хранят немало размышлений, любопытных заметок, поэтических описаний и наблюдений» [21, с. 277, 281—282]. Изучив их, пушкинистка сделала удивительные открытия. Так, в одной из них Л. А. Черкашина обнаружила басню «Соловей, галки и вороны» неизвестного автора, переписанную рукой будущей жены великого поэта. В этом произведении говорилось, что «соловью не стоит петь вместе с крикливым хором ворон и галок». Казалось, что можно сказать по этому случаю? Видимо, Наташа выполнила обязательное домашнее задание, а может быть, скопировала басню по собственной инициативе. Обычное дело. Но нет, Л. А. Черкашина пришла, исходя из этого одного факта, к неожиданному выводу: «Нет, поистине, в двадцать первом столетии, когда о судьбе Натальи Гончаровой столь много известно, эти ее детские записки несут некий сокровенный, провидческий смысл. Но кто же автор басни? Известно лишь, что она была напечатана в первом русском альманахе «Аониды» за 1796 год. Ни литературоведы, ни пушкинисты не могут с точностью назвать автора трагической басни, которая запала в душу будущей жены великого поэта… Кто осмелится продолжить поиск и с достоверностью назвать поэта-баснописца? Это было бы важным, чтобы полнее постичь духовный мир избранницы Пушкина» [21, с. 289—290]. Мы долго размышляли над посылом Л. А. Черкашиной, но так и не смогли ответить на вопрос, какая же грань талантов выявится у Натальи Николаевны, если какой-нибудь удачливый и добросовестный ученый проникнет в тайну авторства басни «Соловей, галки и вороны».
Но это не первое и далеко не последнее озарение Л. А. Черкашиной. «Невероятно! — поражается она. — Но происходят необъяснимые «странные сближения» — первая глава «Арапа Петра Великого» помечена Пушкиным июлем 1827 года, и Натали почти в то же время пишет о Ганнибале (запись в ученической тетради из учебника. — Авт.). Сколь много мистических предзнаменований! Их великий потаенный смысл в том, что можно лишь через столетия увидеть и распознать скрытые знаки судьбы. И сколько еще тайн и загадок таят в себе ученические Наташины тетрадки» [21, с. 300]. Мы убеждены, что связь между одновременной работой А. С. Пушкина над «Арапом Петра Великого» и трудом юной Наташи над сочинением о Ганнибале можно найти только при буйной фантазии. А по части мистических предзнаменований в жизни зрелого поэта и девочки Н. Гончаровой нам сказать нечего, поскольку они не имеют отношения к науке.
Изображая Наталью Николаевну ангелом, Л. А. Черкашина, как и другие доброжелатели жены Пушкина, должна была дать отпор «клеветническим» выпадам наших двух выдающихся поэтесс. И сделала это невероятно оригинально. Она дала уникальное толкование единственно известному пушкиноведам коротенькому стихотворению, написанному 10-летней Наташей:
«Пусть пройдет без невзгод твой жизненный путь, Светом дружбы украсятся дни.
О сердечности нашей, мой друг, не забудь, Навсегда ее сохрани».
Здраво рассуждая, скажем, что такие посвящения сотнями, а может быть, тысячами девочки и барышни вписывали друг другу на «вечную память» в альбомы в ХIХ веке. Л. А. Черкашина же узрела в банальных строках Наташи блестки большого таланта и вот что о них написала: «Ах, как жаль, что об этих ученических опытах Натали не дано было знать ее строгим критикессам Марине Цветаевой и Анне Ахматовой. Тогда, как знать, резкость суждений о жене поэта смягчилась бы. Ведь она была с ними одной, поэтической крови» [21, с. 305].
Неужели можно было добавить еще какие-то чудные, волшебные краски к иконописному портрету Натальи Николаевны, нарисованному Л. А. Черкашиной? Эти колдовские, изумительные и сногсшибательные цвета неземной радуги использовал в своем блестящем эссе о жене поэта Н. Доризо.
«Трудно найти, — взволнованно говорит он, — не только в русской, но и во всей мировой литературе женщину, которая оставила бы такой неизгладимый след в людской памяти» [22, с. 3]. Даже образ легендарной Жанны д’ Арк, по убеждению Н. Доризо, меркнет на фоне деятельности Н. Н. Пушкиной (так и припоминается реплика гоголевского городничего из комедии «Ревизор»: «Эк куда хватил! Еще умный человек!» [23]).
Дифирамбы Наталье Николаевне в книге Н. Доризо приобрели лирико-гиперболический характер: «Представьте себе робкую застенчивую девушку, почти ребенка, с детства привыкшую во всем безоговорочно подчиняться властному характеру матери. И вдруг эта девушка решительно встает на сторону жениха, беском- промиссно идет против воли матери с такой же непримиримой смелостью, как те дворянские девушки, которые, не боясь пожизненного родительского проклятия, бежали тайно из отчего дома со своими любимыми, обрекая себя на нищету и лишения.
Чем, как не большой самоотверженной любовью, придавшей ей силы, можно объяснить этот решительный поступок Натальи Николаевны в трудную минуту ее жизни? Такие решительные действия даются нелегко, только в самую необходимую минуту. Их вызывают к жизни не взбалмошное своеволие, а большое благородное, самоотверженное чувство» [22, с. 12]. Несомненно, что здесь Н. Доризо утратил понятие об исторической реальности: благонамеренную, послушную родительской воле Наталью Николаевну он уподобил героине романа И. С. Тургенева «Накануне» Елене Стаховой, вышедшей замуж за болгарского революционера Инсарова. На самом деле — это общеизвестно — брак Пушкина состоялся с благословения императора Николая I и шефа жандармов Бенкендорфа. Так что Наталье Николаевне не было никакой необходимости бороться с матерью за право обручиться с великим поэтом.
И уж совсем Н. Доризо вышел за рамки разумного восприятия исторической действительности первой трети ХIХ века, когда заявил: жена Пушкина «проявила тот же самый благородный характер любящей русской женщины, который с такой самоотверженной силой сказался в декабристках» [22, с. 24]. Ну что же, мы не удивимся, если в будущем кто-либо из поклонников Натальи Николаевны уверенно заявит, что в мечтах она уносила себя в Париж и воображала себя сражающейся на баррикадах под республиканским флагом.
В грохоте сражений двух ратей — ненавистников жены поэта и ее горячих почитателей — как-то незаметна роль и место крохотной группы литературоведов, пытающихся занять скромную нейтральную позицию, которая выражается известным стилистическим оборотом: с одной стороны, оно, конечно, так, а с другой стороны, может быть, совсем не эдак. И, право, стоит прислушаться к их аргументам.
Интересен хладнокровный взгляд на Наталью Николаевну Б. Бурсова: «Я вовсе не намерен свалить на нее вину за драматическое положение, в котором оказался Пушкин в последние годы жизни. Дело в нем, а не в ней. Нельзя, однако, возводить ее на пьедестал… Мы отдаем ей долг как женщине, давшей величайшую радость ему, что вовсе не противоречит тому, что она за- ключала в себе и великие огорчения для него» [24]. Е. Рябцев сделал и вовсе наипростейший вывод: «Наталья Николаевна была обыкновенной женщиной со своими достоинствами и со своими недостатками» [10, с. 440]. Все понятно. О жене великого поэта не надо писать большого романа — достаточно маленького рассказа.
-
1. Васильева Л. Жена и муза: Тайна Александра Пушкина. М., 1999. С. 491.
-
2. Старк В. Наталья Гончарова. М., 2010.
-
3. Фикельмон Д. Ф. Из дневника // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1985. С. 152.
-
4. Цит. по: Эйдельман Н. Я. Статьи о Пушкине. М., 2000. С. 318.
-
5. Мещерская Е. Н. Письмо к М. Н. Мещерской // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1974. С. 390.
-
6. Цветаева М. Мой Пушкин. М., 1981.
-
7. Вересаев В. Пушкин в жизни // Собр. соч. Т. 3. М., 1990.
-
8. Мейлах Б. Талисман. Книга о Пушкине. М., 1975.
-
9. Стеценко Е. Просчет барона Геккерна. Краснодар, 2011. С. 38.
-
10. Цит. по: Рябцев Е. 113 прелестниц Пушкина. Ростов н/Д, 1999.
-
11. Сарнов Б. Наш советский новояз. М., 2005.
-
12. Левкович Я. Л. П. Е. Щеголев и его книга // Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987. С. 12.
-
13. Ахматова А. Александрина // Звезда. 1973. № 2. С. 211.
-
14. Адамович Г. Пушкин и его жена // Тайна Пушкина. Из прозы и публицистики первой эмиграции. М., 1999. С. 251.
-
15. Мережковский Д. Мои мысли о Пушкине // Тайна Пушкина. Из прозы и публицистики первой эмиграции. М., 1999. С. 211.
-
16. Тыркова-Вильямс А. Пушкин. Т. 2. М., 2002. С. 446.
-
17. Ободовская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. М., 1975; После смерти Пушкина. М., 1978 и др.
-
18. Кулешов В. И. Жена поэта // Ободовская И., Дементьев М. Наталья Николаевна Пушкина. М., 1985. С. 5, 6, 9, 11, 12.
-
19. Скатов Н. Русский гений. М., 1987. С. 313—314, 336.
-
20. Благой Д. Погибельное счастье // Ободовская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. М., 1999.
-
21. Черкашина Л. А. Наталия Гончарова. Ростов н/Д, 2010.
-
22. Доризо Н. Жена поэта. М., 1985.
-
23. Гоголь Н. В. Собр. соч. Т. 4. М., 1959. С. 10.
-
24. Бурсов Б. Судьба Пушкина. М., 1989. С. 450.
Список литературы Н. Н. Пушкина: от демонизации до идеализации облика (историографические заметки)
- Васильева Л. Жена и муза: Тайна Александра Пушкина. М., 1999. С. 491.
- Старк В. Наталья Гончарова. М., 2010.
- Фикельмон Д. Ф. Из дневника//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1985. С. 152.
- Эйдельман Н. Я. Статьи о Пушкине. М., 2000. С. 318.
- Мещерская Е. Н. Письмо к М. Н. Мещерской//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1974. С. 390.
- Цветаева М. Мой Пушкин. М., 1981.
- Вересаев В. Пушкин в жизни//Собр. соч. Т. 3. М., 1990.
- Мейлах Б. Талисман. Книга о Пушкине. М., 1975.
- Стеценко Е. Просчет барона Геккерна. Краснодар, 2011. С. 38.
- Рябцев Е. 113 прелестниц Пушкина. Ростов н/Д, 1999.
- Сарнов Б. Наш советский новояз. М., 2005.
- Левкович Я. Л. П. Е. Щеголев и его книга//Щеголев П. Е Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987. С. 12.
- Ахматова А. Александрина//Звезда. 1973. № 2. С. 211.
- Адамович Г. Пушкин и его жена//Тайна Пушкина. Из прозы и публицистики первой эмиграции. М., 1999. С. 251.
- Мережковский Д. Мои мысли о Пушкине//Тайна Пушкина. Из прозы и публицистики первой эмиграции. М., 1999. С. 211.
- Тыркова-Вильямс А. Пушкин. Т. 2. М., 2002. С. 446.
- Ободовская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. М., 1975; После смерти Пушкина. М., 1978 и др.
- Кулешов В. И. Жена поэта//Ободовская И., Дементьев М. Наталья Николаевна Пушкина. М., 1985. С. 5, 6, 9, 11, 12.
- Скатов Н. Русский гений. М., 1987. С. 313-314, 336.
- Благой Д. Погибельное счастье//Ободовская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. М., 1999.
- Черкашина Л. А. Наталия Гончарова. Ростов н/Д, 2010.
- Доризо Н. Жена поэта. М., 1985.
- Гоголь Н. В. Собр. соч. Т. 4. М., 1959. С. 10.
- Бурсов Б. Судьба Пушкина. М., 1989. С. 450.