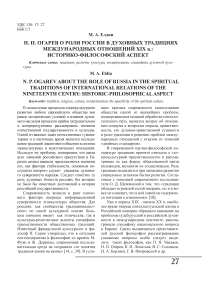Н. П. Огарев о роли России в духовных традициях международных отношений ХIХ в.: историко-философский аспект
Автор: Елдин Михаил Александрович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (28), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье прослеживается специфика воззрений известного российского философа XIX в. Н. П. Огарева на вопросы международного влияния Российской империи. Проводятся исторические параллели между взглядами Н. П. Огарева и направлениями российской философии. Отмечается его роль в теории культуры отечественного социума.
Традиция, религия, культура, модернизация, специфика духовной культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/14720844
IDR: 14720844 | УДК: 130:
Текст научной статьи Н. П. Огарев о роли России в духовных традициях международных отношений ХIХ в.: историко-философский аспект
В осмыслении процессов социокультурного развития любого европейского общества вне рамок исторических условий и влияния духовного наследия прошлого крайне затруднительно и контрпродуктивно рассматривать значение отечественной государственности и культуры. Одной из важных задач отечественных гуманитариев и в настоящее время является исследование традиций диалогового общения в системе межкультурных и межэтнических отношений. Исследуя эту проблему, подчеркнем, что среди всех значений российского присутствия в Евразии самым важным представляется значение его, как фактора стабильности, основным постулатом которого служит уважение духовного суверенитета народов. Следует отметить ту роль духовных богатств россиян, без которых не было бы известных достижений в истории российской государственности.
Современность возвела в ранг ключевого фактора вопросы информационной суверенности этнокультуры общества. Для россиян, как сообщества традиционалистского по своей культурной основе большое значение имеют как этнические, так и культурно-религиозные аспекты специфики преемственности общественных традиций. Известный французский культуролог и философ П. Серио утверждал, что в ситуации постмодернизма в философии со времен М. Фуко и Ж. Дерриды, современная исследовательская среда не сохранила «от понятия традиция камня на камне» [14, с. 39]. В усло- виях кризиса современного самосознания общества одной из важнейших проблем, подвергавшихся мощной обработке интеллигентского ratio, является вопрос об отношении социума к вопросам морали, нравственности, его духовно-нравственной сущности и роли традиции в решении проблем международных отношений с отказом от позиций «двойных стандартов».
В современной научно-философской литературе традицию принято относить к «социокультурной преемственности» и рассматривать ее как форму общественной связи индивидов, механизм их социализации. Роль традиции выявляется при динамике развития социальных аспектов бытия религии. Согласимся с позицией современного исследователя О. Д. Шемякиной в том, что «традиция обладает огромной силой инерции, но это вовсе не означает, что в ней самой не содержится потенции к изменению» [18].
Уже в период ХIХ – начала ХХ в. наиболее яркие творцы интеллектуальной жизни в Российской империи обращали внимание на проблемы судеб русской и российской духовности в международном контексте, рассматривали специфику национального вопроса в Европе. Среди выдающихся представителей русской философии рассматривавших указанные вопросы особо следует выделить таких философов, как П. Я. Чаадаев, Н. П. Огарев, К. Н. Леонтьев, В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, Г. В. Флоровский и др.
В творчестве Н. П. Огарева неоднократно подчеркивалось и критиковалось несовершенство административнотерриториального устройства Российской империи, обнаруживаемое перед государством в эпоху трансформаций международных и внутриполитических отношений ХIХ в. Огарев выступал за преображение системы Российского государства в конфедерацию регионов [12].
Славянофильски настроенные философы, в частности Н. Я. Данилевский, выдвигали идею Всеславянского Союза, а некоторые русские эмигранты уже ХХ в. (например, Г. П. Федотов) признавали возможность создания федерации по национальному признаку (точнее не видели другой возможности межнационального конструирования отношений России и Европы). В пику им Н. П. Огарев считал, что «…общеславян-ская конфедерация теперь не мыслима» [12, с. 241]. Антитрадиционалистские идеи демократизации и справедливости декабристов и Великой французской революции (1789) – это основные культурфилософские и мировоззренческие тренды, оказавшие существенное воздействие на формирование внутренних воззрений Николая Платоновича Огарева.
Весьма показательными выглядят критические, типично западнические стихотворные заметки Н. П. Огарева о роли россиян в геополитических проблемах ХIХ в. Восточный вопрос для России имперского периода имел центральное значение не только в геополитическом, но и в духовном, конфессиональном, мистико-религиозном плане. С позиций официальной религиозно-монархической идеологемы Российской империи отвоевание Константинополя-Царьграда было бы основным пунктом реконструкции универсальной православной империи, своего рода новой Византии. Западниками предлагался отказ российского общества от имперскости:
А вот, господа, стеклышко большое самое, Это наша Россия, племя неупрямое.
Александр Николаевич, всех дел вершитель, «Я, говорит, ввожу всякие реформы, А сам, говорит, знаю, что это для проформы. Войны, говорит, не хочу, хотя мы и хватики, А рекрутов, говорит, надо – поиграть в солдатики.
Грекам обещаний надам выше тополя,
А сам, говорит, и прочь – не забыл Севастополя.
Мужичкам любезным поберегу розги, Пусть дворяне секут – это в их мозге.
А сам к обедне схожу для божьего оплоту, Да позабавиться и съезжу на охоту».
Так у нас, господа, дело и варганится, Куда нам тут восточным вопросом чваниться? [13]
Весьма понятны и направленность всей деятельности, и наличие у Н. П. Огарева настроя революционного романтизма, даже утопизма, идей преобразования социальной действительности России и общества. По верному наблюдению Н. А. Бердяева, «русские западники, которым чужд был религиозный тип славянофилов, увлеклись гегелианством, которое было для них столь же тоталитарной системой мысли и жизни, охватывающей решительно все» [1, с. 24].
Во второй половине ХIХ в. Россия стремилась к отмене крепостничества. Западники выступали за скорейшее освобождение крестьян с землей и за сохранение общины как будущей основы российской демократии. Кроме того, они, как, впрочем, и многие другие революционные демократы, весьма критически относились к имперским институтам российского общества и предлагали заменить их на основе выборной системы. В контексте трансформации России на демократических основаниях Н. П. Огарев выступал за свободу слова, самоуправление в вузах и демократизацию судебной системы.
В интеллектуальной элите Российской империи неуклонно продвигался тезис об имперском и притом этатистском единении российского общества, что в значительной степени оказалось, во-первых, утопичным, а во-вторых, онтологически несостоятельным в исторической ситуации, поскольку гносеологически исходило из спекулятивных познавательных предпосылок западной философии и теории политической культуры, а не той социальной реальности, какая исторически сложилась в российском обществе. Господство антитрадиционализма среди представителей властной структуры и интеллектуальной элиты императорской России было особенно сильным во внутрен- них сферах государственной деятельности элитариев. В то же самое время сохранялся, в условиях внедряемого государственными структурами «казенного патриотизма», идеал «Соборной Руси», правда, на тот период осознание этого идеала происходило в небольшой среде российской интеллигенции, которая в дискуссиях и спорах XIX в., пыталась отыскать исконные пути развития русской духовности, соотнося исторический и нравственный опыт России с древнерусской культурной традицией.
Русские философы эпохи Серебряного века определяли специфику русской духовности как стремление к крайним проявлениям в жизни общества, в поступках и мысли. Н. А. Бердяев так отмечал особенность духовной жизни государствообразующего в России народа: «Подлинно есть в русском национальном духе стремление к крайностям, к предельному, конечному. Но путь культуры – срединный путь» [2, с. 124].
Еще К. Н. Леонтьев предупреждал о большой опасности, грозящей российскому обществу в случае отхода от старинных «византийско-православных традиций», отказа от своих духовно-нравственных истоков культурного развития: «изменяя, даже в тайных помыслах наших этому византизму, мы погубим Россию» [10, с. 40]. Согласно позиции мыслителя, такой подход к проблеме сохранения единства и целостности российской духовности объяснялся тем, что исконно в России именно принадлежность к православной культуре определяла «российское подданство», не славянин по языку, но православный по вере был всегда своим в еще Московской Руси. Как пишет философ, «идея национальностей чисто племенных, в том виде, в каком является в ХIХ веке, есть идея, в сущности, вполне космополитическая, антигосударственная, противорелиги-озная, имеющая в себе много разрушительной силы и ничего созидающего» [10, с. 41]. Именно национальный эгоизм, усвоенный с Запада, весьма губителен и опасен для российской культуры и грозит ей фрагментацией, по мнению философа.
Устойчивая сторона культуры – это культурная традиция, благодаря которой происходят накопление и трансляция человеческого опыта в истории, и каждое новое поколение людей может актуализировать этот опыт, опираясь в своей деятельности на созданное предшествующими поколениями. В сфере современного культурного сознания российского общества проводились достаточно основательные исследования, свидетельствующие о длительном присутствии в ментальных структурах российских народов традиционализма.
Со специфическим развитием российской духовной традиции связана и еще одна существенная особенность российской духовной культуры – всечеловечность и веротерпимое отношение к другим конфессиональным традициям. Российская специфика отношения к данным общностям – не просто ликвидация «нечестия», а долговременный социокультурный симбиоз, но не как это было на другой окраине Европы (например, в Испании) с исламским наследием, которое было беспощадно ликвидировано. Российская особенность здесь в указанной области отношений христианской и мусульманской традиций носила характер доминирующего мирного восточно-христианского синкретизма.
Обращение к фундаментальным мотивам общечеловеческого, в частности библейского, духовного наследия испокон века помогало российским мыслителям и художникам отыскать оптимальный алгоритм своего творчества. Трудно не согласиться с наблюдениями известного исследователя отечественной нравственно-эстетической традиции В. В. Бычкова о том, что российские живописцы и ваятели стремились выразить фигурально самый стержень религиознонравственной культуры народа – его ценности: соборность, человеколюбие, доброто-любие, веру, сердечность [3].
Выдающийся русский философ В. С. Соловьев в конце ХIХ в. справедливо замечал относительно специфики многоединства традиции российской духовности: «...раз мы признаем единство человеческого рода… раз мы признаем это субстанциональное единство, мы существо или социальный организм, живые члены которого представляют различные нации» [15, с. 220]. В религиозной традиции России присутствовал официозный консерватизм, носящий костенеющий, разлагающий характер – с предельно жест- ким, без переходов на разграничение старого (хорошего) и нового (плохого), конструированием норм общественного сознания. Вся деятельность такого рода консерваторов направлялась на бескомпромиссную борьбу с «устаревшей» парадигмой культурного уклада (борьба со старообрядчеством).
Судьбы России Н. П. Огарев непосредственно связывал с просветительской деятельностью среди народа. Важно упомянуть позиции Герцена и Огарева, которые были изложены в программном заявлении к «Колоколу»: «Везде, во всем, всегда, быть со стороны воли – против насилия, со стороны разума – против предрассудков, со стороны науки – против изуверства, со стороны развивающихся народов – против отстающих правительств… В отношении России, – мы хотим… чтоб с нее спали, наконец, ненужные старые свивальники, мешающие могучему развитию ее…» [9].
Западники отвергали взгляды славянофилов на Россию и ее самобытность народов как невежество и утопию. Они не отрицали отличия России от западного круга стран, но объясняли указанные отличия отсталостью ее быта и примитивностью и архаичностью ее традиций нравственной культуры [4].
В. В. Зеньковский замечает важный этап духовного развития российского общества: «ХIХ век открыл философское дарование у русских людей. Россия вышла на путь самостоятельной философской мысли» [8, с. 15]. Наиболее яркие творцы интеллектуальной жизни в России конца ХIХ – начала ХХ в. обращали внимание на проблемы судеб русской и российской духовности, рассматривали специфику национального вопроса в России.
Таким образом, можно говорить о появлении сугубо национального, а также русского, вопроса в связи с возникновением в первой половине XIX в. в России культурной и национальной парадигмы. До некоторой степени она стимулировалась развернувшейся дискуссией между «славянофилами» и «западниками». Вторые, начиная с П. Я. Чаадаева, объявляли Россию отсталой страной, стоящей вне истории. Такие представители этого течения, как П. В. Анненков, В. Г. Белинский, В. П. Боткин, А. И. Герцен, Т. Н. Грановский, Н. П. Огарев и многие дру- гие, при всем разнообразии мнений, считали, что Россия – «молодая страна» и должна во что бы то ни стало догнать Запад. В их политической позиции преобладали республиканские и социалистические идеи, отрицавшие традиционную для России самодержавную монархию. Именно в этой полемике впервые было употреблено словосочетание «русский вопрос». Очевидно, что противоположные стороны понимали его по-разному. Герцен считал, что суть «русского вопроса» заключается в освобождении крестьянства [8, с. 35]. И в основном «западники» рассматривали русский вопрос как вопрос социальноэкономического развития. Интересна подмеченная особенность русского национального характера: «в политической экономии она проявляется в том, что когда и поскольку она самостоятельно разрабатывается русскими, на первый план выдвигается социальный момент» [8, с. 31].
По замечанию Н. О. Лосского, Чаадаев первым пришел к выводу, что бесплодность исторического прошлого России является в известном смысле благом», поскольку не отягощенный формальными и устаревшими формами жизни русский народ «обладает свободой духа» для выполнения задач грядущего [11, с. 54]. П. Я. Чаадаев замечал коренное несоответствие российской ментальности и западноевропейского прагматичного отношения к бытию человека: «…никакая сила в мире не заставит нас выйти из того круга идей, на котором построена вся наша история, который… составляет всю поэзию нашего существования» [17, c. 494].
Известный американский исследователь А. Валицкий верно отмечал, что полемика западников и славянофилов есть идеальный пример раскола традиционалистского общества в ходе его модернизации на два непримиримых течения – сторонников консервативного национализма, отстаивавших традиционные ценности в их неизменном виде, и сторонников рационализации, или модернизации, общества по западному образцу [19]. В ходе указанной полемики славянофилы противопоставляли самобытные духовные начала русского общества основному принципу западного общества, суть которого, по их мнению, заключается в бездушном рационализме, формализме и бюро- кратизме. В соответствии с этим они сформулировали отдельные основные признаки западного рационалистического общества, выдвинули тезис о дегуманизирующем значении прагматизма в осознании западного государства и церкви, выступили с критикой капитализма, научного и особенно технического процесса, профессионализации и бюрократизации управления [11].
Славянофильские представления нельзя сводить к радикальной ксенофобии и ультра-патриотизму. Многие идеи данного направления были фактически заимствованы с Запада. Сгруппировавшись вокруг журнала «Москвитянин» они стремились довести до общества свои представления о судьбах России и специфики ее духовной жизни.
-
Н. О. Лосский достаточно четко охарактеризовал роль славянофильства в русской общественной мысли того периода: «Старания славянофилов были направлены на разработку христианского миропонимания, опирающегося на учения отцов восточной церкви и православие в той самобытной форме, которую ему придал русский народ» [11, c. 50]. Н. Я. Данилевский замечает историческую особенность российского типа государственности, который не являлся «…ни национальной убийцей, ни ненасытным завоевателем» [11, c. 81]. Философ прогнозировал распад Австро-Венгрии и возникновение всеславянской федерации со столицей в Константинополе [11].
Согласно теории славянофилов, важнейшее отличие России от Запада находится в религиозной сфере. Западное христианство со времени своего утверждения среди народов Европы попало под влияние античных культур и переняло у них привычки рационализма и прагматизма. Православие же отличается верностью истинным христианским идеалам, включая соборность. Благодаря православию русским удалось сохранить целостную личность, где слияние веры и разума порождает особый, более высокий тип знания, названный Хомяковым живым знанием [7, с. 368]. Тезис о социальном единстве и духовном преемстве российского общества был услышан, и это – заслуга отечественной интеллектуальной элиты имперского периода ХIХ – начала ХХ в. [6].
Следует отметить и то обстоятельство, что русское имперское правительство довольно рано стало исходить из многорели-гиозности России как эффективного метода управления государством: «…предметом показной идейной гордыни было многообразие племен, вер и языков» [7, с. 166]. Указанный факт на сегодняшний день оценивается не всегда конструктивно и в позитивном плане, особенно в условиях новейшей критики проблем мультикультурализма общества.
Со второй половины XIX в. имперская власть всячески отталкивает все демократические элементы общества, включая представителей укреплявшейся либеральной интеллигенции, стремясь сохранить абсолютистский средневековый властно-правовой монархический режим. Насаждавшийся монархией культ русской патриархальности бил по нарождавшемуся русскому национальному самосознанию, создавая великодержавные и шовинистские доминанты понимания сущности Российского государства. В этой российской действительности лозунг «Православие. Самодержавие. Народность» заменял подлинно национальный характер и чувство. Недостатки людей – суть продолжения их достоинств.
К концу ХIХ в. уже и государственная власть всерьез объявляет претензию в политическом укладе культурной традиции россиян на имперское поствизантийское наследство. В это же время появляется архитектурный стиль, который определяется как имперский «псевдовизантийский». В противоположность псевдорусскому стилю он стал предметом искусствоведческого изучения сравнительно недавно. Было построено около 40 кафедральных православных соборов по всей Российской империи от Варшавы до Хабаровска и даже за границей, в Ницце, например, или в Софии. Не в конце ХV столетия, как часто думают, а лет на 400 позже внешняя политика империи россиян вполне всерьез поворачивается к тому, чтобы инкорпорировать бывшие территории Византии в Российскую империю. Не без оснований многие из современных ученых (Н. Н. Лисовой, С. А. Иванов, В. К. Кантор и др.) относят подобного рода построения и идеологемы к разряду «церковнополитических утопий».
Пафос российской позиции отечественных государственников ХIХ–ХХ вв. оборачивается колонизаторским высокомерием. В результате ХIХ в. – время не только колоссальных успехов России, но и упущенных существенных возможностей, например, аккультурации народов Северного Кавказа, бывших еще не тотально исламизированными.
Неприятие, пассивное сопротивление насильственным новациям, медленное накопление противоречий и потенциала недовольства, кризис самоидентификации, а затем мощный взрыв архаики (смута) – вот схема обычного «ответа» российского социума на реформистские импульсы, идущие «сверху» или «извне». При этом народный протест всегда обращен в прошлое. «Память у народа долгая, он никогда не отводит взгляда от зеркала прошлого».
Импульс для начала изменений в нашей стране всегда приходит извне, и сами они идут «за счет» общества, стоят ему огромных материальных, людских и духовных потерь. Многие российские философы, начиная с В. С. Соловьева, обращали внимание на пути взаимопроникновения европейского духа и традиций русской духовности. Западная цивилизация привносит в этот альянс «осознание трагичности смысла жизни» человека и цены» человеческого героизма, единственно способного преодолеть трагедию.
Каждая империя и государство-цивилизация, подобно Российской или Византийской, является не только геополитическим или социальным феноменом, но и феноменом духовно-культурным [16]. Это, прежде всего, приведение мира в соответствие с тем идеалом, который свойствен тому или иному народу, причем идеальные мотивы могут преобладать над другими. В российской философской мысли ХХ в. проблема поиска специфики судеб духовной культуры российского общества была прямо связана со смысловыми основами подходов к этническим исследованиям русского зарубежья.
Отечественная философия активно входила в общемировой контекст развития и получила бы дальнейший импульс к развитию уникальных концепций всемирного значения, однако политические коллизии ХХ в. изменили русло истории России, развитие ее науки и духовной культуры. Выдающиеся российские мыслители, философы были вынуждены выехать из своего Отечества.
В результате российское общество лишилось многих замечательных представителей отечественной этической и – шире – гуманитарной науки: Н. О. Лосского, С. Л. Франка, С. Н. Булгакова, П. А. Сорокина, Г. П. Федотова, Б. Яковенко и др.
В сегодняшнем российском обществе продолжается очень сложный процесс формирования новой идеологии, новых духовных ориентиров, связанных с национальными духовными традициями. Вместе с тем приходится говорить и о проблеме человеческого отчуждения и о потере нравственных ориентиров личности. В связи с этим важная роль в обретении целостности отечественной духовной традиции и нравственной культуры современной России принадлежит установлению подлинного значения для сегодняшней философии трудов неизвестных в нашем Отечестве философов русского зарубежья.
В указанном плане очень важен сегодня не только процесс модернизации, что само по себе не вызывает сомнений, но и процесс возрождения, восстановления и реставрации во многом утраченного былого. Как справедливо пишет исследователь русской философии М. Н. Громов, «Великая Отечественная война заставила несколько одуматься в диком процессе разрушения собственной культуры» [5, с. 200]. Процесс модернизации и сейчас идет непросто, имеет негативные аспекты, не всех устраивает, но он объективно необходим, поскольку носит интегрирующий для общественного самосознания и конструктивный характер.
В социальной действительности мы можем наблюдать новые элементы культурного сознания, которые обусловлены динамическими процессами социальнополитических и экономических изменений, происходящих в нашем обществе. Многие трагедии отечественной истории – в разделенности с некоторого времени общего духовного пространства российского общества от конструктивного начала традиций, в замене реального диалога с наследием прошлого на деструктивный официоз, что особенно наглядно проявилось в начале и конце XX в.
Процесс глобализации, начавшийся в XX в., продолжается в веке XXI. И если в экономическом аспекте можно говорить о дальнейшем развитии, с добавлением некоторых количественных параметров, идеи единого мирового пространства, зародившейся в начале XIX в., то в культурном аспекте речь идет исключительно о последовательном отстранении от всех исконных, национальных традиций. Культура многих регионов немыслима без исторически сложившихся устоев, норм и регламентаций, общего представления о долге, чести и совести, без опоры на моральные, религиозные и эстетические регуляторы. Это не только ценностно-рациональное отношение к миру, ограничивающее личные интересы человека и требующее служения чему-то внешнему, высшему Абсолюту, но и постоянно заданный импульс стабильного, выверенного уже тысячелетием опыта куль-турсозидания в России. Результатом отказа от исторически присущих культурсозидатель-ных традиций российской духовной жизни, стирания местных различий и особенностей, исчезновения регламентаций могут стать полное вырождение преемственной основы бытия культуры россиян и европейцев, вытеснение ее деструктивными (неорганическими и нероссийскими суррогатами) механизмами воздействия на духовную и социальную жизнь этносоциумов и регионов Евразии, американизация, фундаментализм, национальная конфронтация.
Сегодня мультикультурализм как современное социокультурное явление получил такое распространение потому, что слишком слаба и даже не осуществима в современных духовных реалиях культурного развития российского общества традиционная нравственно-конфессиональная культура. Можно констатировать, что религиозный традиционализм, каким его представляли славянофилы и русские консерваторы ХIХ в., и духовная традиция, которая своими основаниями исходила бы из непреходящих ценностей древнего духовно-нравственного наследия православного Востока, стали фактом истории для современных россиян.
В связи с указанным выше развитие межэтнических, межрегиональных отношений, а также формирование этнокультурного диалога на основе учета опыта российских регионов остаются наиболее актуальными в исследованиях современного социума. Результативность социально-гуманитарных исследований во многом зависит не только от социально-экономических факторов, но и от того обстоятельства, насколько внимательно будут учтены исторические уроки и состояние духовной атмосферы в зонах культурного и межэтнического диалога народов современной России и Европы.
Исходя из сказанного, важно понять, что многие проблемы бытия нашего общества неразрешимы только лишь законодательными или административными мерами. Современная потребность в сохранении и развитии традиций обществ, производная от размытости прежде доминировавших социокультурных ценностей, вновь заставляет нас обратиться к изучению духовной роли России в международных, межэтнических отношениях.
Список литературы Н. П. Огарев о роли России в духовных традициях международных отношений ХIХ в.: историко-философский аспект
- Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма/Н. А. Бердяев. -М.: Наука, 1990. -224 с
- Бердяев Н. А. Русская идея. Судьба России/Н. А. Бердяев. -М.: Республика, 1997. -540 с
- Бычков В. В. Русская средневековая эстетика ХI-ХVII веков/В. В. Бычков. -М.: Мысль, 1992. -637 с
- Вебер М. Исторический очерк освободительного движения в России/М. Вебер. -Киев, 1906. -149 с
- Громов М. Н. Структура и типология русской средневековой философии/М. Н. Громов. -М.: ИНФРА-М, 1997. -289 с
- Гулыга А. В. Русская идея и ее творцы/А. В. Гулыга. -М.: Соратник, 1995. -310 с
- Ерасов Б. С. Социальная культурология: в 2 ч./Б. С. Ерасов. -М.: Аспект-Пресс, 1994. -Ч. 2. -240 с
- Зеньковский В. В. История русской философии: в 2 ч./В. В. Зеньковский. -Ростов н/Д.: Феникс, 1999. -Т. 1. -544 с
- Колокол. -М., 1962. -Вып. 1., Л. 1. -С. 1
- Леонтьев К. Н. Избранное/К. Н. Леонтьев. -М.: Моск. рабочий; Рапогъ, 1993. -400 с
- Лосский Н. О. История русской философии/Н. О. Лосский. -М.: Сов. писатель, 1991. -480 с
- Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философские произведения: в 2 т./Н. П. Огарев; под общ. ред. М. Т. Иовчука и Н. Г. Тараканова-М., 1952. -В 2 т. Т. 1. -С. 114
- Огарев Н. П. Избранные произведения в 2-х т./Н. П. Огарев. Вступительная статья В. А. Путинцева. Подготовка текста и примечания Н. М. Гайденкова. -М.: Гослитиздат, 1956. -С. 275
- Серио П. Структура и целостность/П. Серио//Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе. -М., 2001. -С. 39-67
- Соловьев В. С. Спор о справедливости/В. С. Соловьев//Сочинения. -М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1999. -864 с
- Уледов А. К. Духовная жизнь общества: Проблемы методологического исследования: в 2 т./А. К. Уледов. -М.: Мысль, 1980. -271 с
- Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма в 2 т./П. Я. Чаадаев. -М.: Наука, 1991. -Т. 1. -800 с
- Шемякина О. Д. Разрыв и преемственность в русской культурной традиции: опыт диалога/О. Д. Шемякина//Общественные науки и современность -2011. -№ 1. -С. 107
- Walicki A. The Slavophile controversy. History or a conservative Utopia in Nineteen-Century Russian Thought/A. Walicki. -Oxford, 1975. -Р. 309