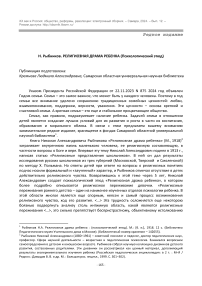Н. Рыбников. РЕЛИГИОЗНАЯ ДРАМА РЕБЕНКА (Психологический этюд)
Автор: Кремнева Людмила Александровна
Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr
Рубрика: Редкое издание
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
Представлена публикация редкого издания – книги Николая Александровича Рыбникова «Религиозная драма ребенка» (М., 1918), в которой затрагивается внутренняя жизнь маленького человека и ее религиозная составляющая.
Редкое издание, религия, вера, дети, детство, воспитание
Короткий адрес: https://sciup.org/140306411
IDR: 140306411 | DOI: 10.34830/SOUNB.2024.22.65.001
Текст статьи Н. Рыбников. РЕЛИГИОЗНАЯ ДРАМА РЕБЕНКА (Психологический этюд)
Режим доступа:
Публикация подготовлена:
Кремнева Людмила Александровна, Самарская областная универсальная научная библиотека
Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2023 N 875 2024 год объявлен Годом семьи. Семья – это самое важное, что может быть у каждого человека. Поэтому в год семьи все внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностей: любви, взаимопонимания, поддержки, верности, уважения. Эти ценности – основа крепкой и счастливой семьи. А крепкая семья – это еще и стабильное процветающее общество.
Семья, как правило, подразумевает наличие ребенка. Задачей семьи в отношении детей является создание лучших условий для их развития и роста в части их воспитания, образования и морального облика. В связи с этим предлагаем вашему вниманию занимательное редкое издание, хранящееся в фондах Самарской областной универсальной научной библиотеки1.
Книга Николая Александровича Рыбникова «Религиозная драма ребенка» (М., 1918)2 затрагивает внутреннюю жизнь маленького человека, ее религиозную составляющую, в частности вопросы о Боге и вере. Впервые эту тему Николай Александрович поднял в 1913 г., написав статью «Религиозные представления школьников». В ней он дал результаты исследования русских школьников из трех губерний (Московской, Тверской и Смоленской) по методу Х. Польмана. Но ответы детей при ответе на вопросы о религиозных понятиях подчас носили формальный и «заученный» характер, и Рыбников отмечал отсутствие в детях действительно религиозного чувства. Возвратившись к этой теме через 5 лет, Николай Александрович создает психологический этюд «Религиозная драма ребенка», в котором более подробно описывается религиозное переживание девочки. «Религиозные переживания раннего детства – один из наименее изученных отделов психологии ребенка. В этой области многое является еще спорным, неясен и самый процесс возникновения религиозного чувства, ход его развития. <…> Эта трудность осложняется еще некоторою боязнью подвергнуть анализу столь интимную область, какой являются религиозные переживания <…>, это сильно препятствует беспристрастному, объективному истолкованию
Редкое издание
детских переживаний. <…> Семья должна суметь дать ребенку на все его запросы такие ответы, которые вполне бы соответствовали потребностям и особенностям его возраста».
В Самарской ОУНБ имеется 1 экземпляр этого издания, больше аналогов первого издания нет в других библиотеках. Второе и третье издания есть в ряде библиотек, но, как и первое, еще не были представлены в оцифрованном виде.
Текст публикуется с сохранением стилистических и хронологических особенностей изложения материала.
РЕЛИГИОЗНАЯ ДРАМА РЕБЕНКА
Религиозные переживания раннего детства – один из наименее изученных отделов психологии ребенка. В этой области многое является еще спорным, неясен и самый процесс возникновения религиозного чувства, ход его развития. До сих пор еще идет спор о том, может ли возникнуть религиозное чувство самопроизвольно в душе ребенка, или оно внушается ему со стороны окружающих. В развивающейся душе ребенка так трудно отличить продукты чужого влияния от самопроизвольных проявлений. Эта трудность осложняется еще некоторою боязнью подвергнуть анализу столь интимную область, какой являются религиозные переживания, а также предвзятостью, тенденциозностью взрослых, которые подходят к её изучению с вполне определенными сложившимися взглядами; а это сильно препятствует беспристрастному, объективному истолкованию детских переживаний.
Но как бы психология раннего детства не решала основной вопрос о происхождении религиозного чувства – для воспитателя и в этой области детских переживаний остается бесспорным требование – считаться с фактическими запросами, потребностями детской души. Семья должна суметь дать ребенку на все его запросы такие ответы, которые вполне бы соответствовали потребностям и особенностям его возраста.
Следует сознаться, что русская интеллигентская семья особенно неблагополучна в этом смысле; этот вопрос – её больное место. Именно в этом пункте взаимное непонимание «отцов» и «детей» у нас особенно резко сказывается. Слишком мало считается старшее поколение с действительными запросами детской души, рано, порой слишком рано, оно начинает прививать ребенку свои взгляды. Обычные «интеллигентские» разговоры о Боге, религии, «попах» и других подобных темах рано начинают сеять скептицизм в юной детской душе. Навязывая ребенку свои рационалистические взгляды, «отцы» вносят болезненный разлад в эту душу, которая меньше всего в этом возрасте способна удовлетвориться отвлеченными рассуждениями старших. При некоторых условиях этот разлад обращается порой в настоящую драму мятущейся, ищущей понятного ей ответа, детской души.
Одну из таких «драм» маленького человека рисует дневник, содержащий очень подробные записи матери о развитии своей дочери3. Дневник этот обнимает первые восемь лет развития ребенка. День за день любящая рука матери отмечает главнейшие факты из
Редкое издание
жизни своей единственной дочери, принадлежащей к типичной интеллигентской семье. Автор дневника – фребеличка, практически работающая в детских садах, её муж – земский врач. Мать «героини» дневника много работает над развитием своей дочери. К своим материнским обязанностям она относится со всем присущим ей сознанием долга, отдает им все свободное от занятий время; детская – центр её интересов, этими интересами она, можно сказать, живет. Глубоко интересуется она и теоретическими вопросами воспитанья, она в курсе дела всех новейших течений в педагогике. Насколько эти интересы были близки всей семье, свидетельствует шуточное стихотворение отца девочки, где, между прочим, упоминается целый ряд имен педагогов – Фребеля, Песталоцци, Колоцца и даже Россолимо. Еще убедительнее, конечно, говорит об этом интересе самый дневник. Помимо его содержания уже самый факт ведения регулярных записей на протяжении 8 лет говорит сам за себя; за это время записей накопилось двенадцать объемистых тетрадей.
Характер всей системы воспитания будет ясен из приводимых ниже отрывков, относящихся главным образом к религиозным переживаниям ребенка. Следует отметить, что эти переживания очень осложняются тем обстоятельством, что родители ребенка евреи, да притом живущие на юге России как раз в те «столыпинские» времена, когда национальные вопросы были искусственно разжигаемы. Религиозные вопросы в воспитании Ниночки так тесно переплелись с национальными, что отделить их нет возможности. Их тесная связь придает большую остроту детским религиозным переживаниям.
В предисловии вышедшего недавно «Дневника Матери» (Гавриловой и Стахорской) редакторы отмечают, как своеобразно преломляются в душе ребенка условия русской жизни. Помещаемые ниже записки матери еще красноречивее говорят о влиянии этих условий, в частности того «бытового» явления, каким является национальный вопрос в семье русского еврея. Предисловие «Дневника Матери» отмечает также то влияние, какое оказывает ученье яснополянского философа на постановку воспитанья в русской интеллигентной семье. В нашем дневнике это влияние сказывается еще сильнее. В четыре с половиной года Ниночка знает, кто такой был Толстой, для неё он «является критерием добра». В особенности большая роль принадлежала в этой семье взглядам Толстого на религиозное воспитание. «Я стою на точке зрения Толстого, пишет автор дневника, что наш Бог – это совесть, человеческая совесть, все видящая, контролирующая»... Этот взгляд мать и пытается привить своей дочери.
Первая запись, отмечающая переживания религиозного характера, относится к тому времени, когда Ниночке было 4 г. 7 м. (Янв. 1911 г.).
«Сегодня Ниночка сообщила мне, что была с Маней (прислугой) в костеле, видела там маленького Иисуса... Она расспрашивала меня об I. X.4 Когда я сказала, как любил I. X. людей и в частности детей, она, помня мои рассказы о Толстом, спросила: “А кто лучше, мама, добрее был, Христос или Толстой?” Я ответила, что оба они были очень добры к людям, и трудно сказать, кто был добрее».
(4 г. 11 м. Апр. 1911) «Несмотря на то, что Н. я никогда не говорила о Боге, я слышу, как она упоминает в разговоре с Ф. (подругой) это имя. Вероятно, это влияние А-ки (подруги), которой говорят: Бог все видит, Бог накажет и т.д.». По-видимому, под влиянием А-ки,
I. X. – Иисус Христос ( Примеч. авт. ).
Редкое издание
Ниночка, несколькими днями спустя, задает матери вопрос: «Мама, правда ли, что Бог все видит?» Мать пытается истолковать Бога, как «совесть человеческую», привить ей взгляды Толстого. «Но у Ниночки, говорит автор дневника, преломилось это положение довольно комично, она поняла так: Бог каждого человека сидит у него в головке, причем у маленького (у ребенка) он меньше, у большого – больше. На мои возражения, что величина Бога не зависит от величины “головки» – она, по-своему резонно, отвечала: “Как же так? Ведь если Бог в головке, то в маленькой поместится маленький Бог, а когда головка вырастет, и он должен вырасти”. Относительно Бога, о котором говорил А-ин папа, Ниночка спросила: “А-н папа говорил, что Бог везде и все видит”. “А я, Нинуся, ответила, я ей – не верю в такого Бога”. “А А-н папа верит?” Да. “А я думала, что он обманул А-ку, наврал ей. Я тоже, мамочка, как ты буду верить, не в такого Бога, как А-н папа!”»
На следующий день ребенок опять затрагивает религиозные вопросы. «Вопрос о Боге и его местонахождении: сильно заинтересовали Н., и мне сегодня опять пришлось говорить с ней. Я постаралась сделать её представление о Боге более отвлеченным, отожествляя Его с совестью. Я спросила Ниночку, бывало ли с ней, что она сделает что-либо нехорошее и ее никто не видит, а ей стыдно? Это чувство – сказала я – и называется совестью. Но она плохо поняла меня и сама заявила: “знаешь, мама, я для этого еще маленькая”. Я поспешила согласиться с ней, но задала ей вопрос, зачем она об этом расспрашивает. Нинуся серьезно так ответила: “хочется знать”».
Этот диалог очень характерен, как показатель того, в какой мере взрослые далеки от понимания запросов детской души, как мало они считаются с особенностями этой души, предлагая ей такие знания, до пониманья которых не дорос еще маленький, пытливый ум ребенка. Следующая запись, сделанная месяцем позже, говорит, насколько ум ребенка чужд той отвлеченности в понимании Бога, которую стараются привить ему старшие. Мать с дочерью изображают в лицах басню «Ворона и лисица». Девочка прерывает чтение вопросом: «А где же был Бог, когда лисица все это пела вороне, ведь это он ей послал кусочек сыру?»
Чаще всего религиозные вопросы поднимаются по поводу какого-нибудь события, напр. посещения церкви. В день рождения (7 авг. 1911), когда Н. исполнилось пять лет, она была со своей мамой в церкви; мать хотела показать ей хорошую живопись.
«У. Н. пребывание в церкви родило массу вопросов. Она спросила первым делом “что значит молиться?” Я сказала ей, что это значит просить у Бога чего-либо, или благодарить его. “Странно, мамочка, но, ведь, ты мне говорила, что I. X. уже очень давно умер?” Я сказала ей, что все те люди, что были в церкви, верят, что I. X. не умер, что он не может никогда умереть! Спрашивала Н. “что за хлебцы здесь продаются и зачем”. Ей так понравилось пребывание в церкви, что она ни за что не хотела уходить. “Здесь хорошо, побудем еще немного”, молила меня девчурка. Когда же я ее спросила, что же, собственно, ей понравилось в церкви, она ответила, что “все”. “Там красиво все и "поп" такой нарядный, золотой весь”».
Тот факт, что есть люди, которые верят – в более понятного для неё Бога, заставляет усиленно работать рано развившийся умишко девочки. Спустя месяц она обращается к матери с вопросом:
Редкое издание
« Мне верится что-то, что Бог есть!» Меня очень заинтересовала эта фраза, тем более, что по тону я поняла, что она явилась продуктом ряда мыслей. Мы с ней стали беседовать, и Нинусе все хотелось знать «как можно» проверить это. Я предложила ей следующее: «Видишь ли, Нинуся», сказала я ей, «те люди, которые верят в Бога, думают, что он может сделать все, что захочет. Ну, давай скажем так: Если ты есть, Бог, то накажи Нинусю как-нибудь!» Н. отрицательно покачала головой и сказала: «Нет, это я боюсь сказать, а вдруг меня очень сильно Бог накажет!»
25 ноября 1911. (5 л. 3 м.).
Н. как-то слышала, что одна девочка называет двоих людей папой. Н. спросила меня: «почему у той девочки 2-ое пап?» Я объяснила ей, что один папа у неё «крестный». Н. не преминула спросить: «какой это крестный папа?» Я ей объяснила. - «А кто мой крестный папа?» - У тебя Н. нет крестного, ты еврейка, а дают имя при крещении только христианкам. - «А не бывает крещеных евреек? спросила Н. - «Бывает» ответила я. «А скажи мне, кто крещеный еврей?» - Твой папа и я, ответила я. - «Я-а-а», протянула крошка.
15 дек. 1911. (5 л. 4 м.).
После обеда она расспрашивала меня опять: - «кто она: еврейка или русская?» Я сказала, что еврейка; тогда Н. заявляет мне, что она хочет быть русской. На мой вопрос -почему ей хочется так быть русской, она ответила мне, что ей хочется быть русской потому, что В. В. русский и тогда она будет царской дочерью. Когда я объяснила ей, что если ее крестить, то она все-таки будет дочерью своих родителей, а не царской, но она все-таки пожелала быть русской. Странно, что последнее время она очень часто возвращается к этому вопросу. Чем объяснить это! - Не знаю!..
Таким образом всплывает национальный вопрос, пока еще не в столь острой форме, как это мы увидим впоследствии. Мать всячески пытается сгладить остроту вопроса. Так в марте 1913 г. (6 л. 5 м.) есть такая запись: «Я стараюсь воспитывать Н. вне всякой национальности. Здесь никто не знает, что мы евреи, и сама Н. запуталась в своем происхождении и теперь никогда не упоминает о нем. Евреев интеллигентов здесь нет, и для неё еврей стал синоним чего-то грязного, некультурного и даже пресмыкающегося. Когда о каком-нибудь интеллигенте она услышит, что он еврей, Н. спрашивает: «Такой-то еврей? Разве такие евреи бывают?» Я стараюсь ей показать, что нация не имеет значения ни для каких качеств человека, но я чувствую, что окружающая еврейская среда производит на нее впечатление сильнее моих слов. На днях она мне сказала: «Мама, тебе нравится еврейская красота? Мне нет!» Её идеал голубые глаза и белокурые волосы.
Я говорила сегодня с Нинусей о евреях. Начался наш разговор с того, что я прочитала ей стихотворение «Утопленник», там есть слова: «что ты ночью бродишь, Каин»... Н. спросила меня: «кто такой Каин?» Я объяснила, и Н. сказала: «значит, есть два ругательных слова по гадким людям - Иуда и Каин». Она попросила меня рассказать об Иуде так, как я рассказала о Каине. Я стала рассказывать о Христе и сказала, что он родился в еврейском царстве -Иудее. «Но сам он был не еврей?» быстро спросила Н. - «Нет, еврей». Она долго не хотела этому верить, но потом вспомнила, что он «крещенный» и на этом успокоилась. Откуда у ней это юдофобство, я понять не могу, и оно меня очень огорчает. Я много и долго говорила ей, как несправедливо не любить какую-либо нацию, что везде есть хорошие и плохие люди, что евреев не любят только самые плохие люди во всех государствах, что евреи и так всеми
Редкое издание
обижены и им очень тяжело живется. Н. на это серьезно так сказала: «Ну, знаешь, я понимаю, что не хорошо не любить евреев, и я никому не скажу, что я не люблю их, но все же они мне не нравятся».
15 апреля 1913 (6 л. 8 м.).
Страстная неделя и посещение Н. с М. Д. несколько раз церкви дало очень много пищи её уму. Она расспрашивала о смысле давания вина и хлеба, о кроплении водой пасхального стола, о словах «Христос-Воскресе»! Ее приводит в искреннее изумление, что большие, взрослые люди могут «взаправду верить, что вино – кровь I. X., хлеб – его тело, что могут верить в то, что Х-с умер, а потом воскрес. Её ли реалистическое мышление, мое ли отношение к обрядности – не знаю, но она сразу не приняла, осмеяла и раскритиковала обрядовую сторону религии.
2 июня 1913 (6 л. 9 м.).
Сегодня Н. были с М. Д. в церкви и, придя домой, делилась опять своими впечатлениями и недоумением по поводу просфоры – тела I. X. («разве можно серьёзно верить, что булка и тело похоже?») и вина – крови. Она сказала мне, что все в церкви обращают внимание на то, как она одета и что она не крестится. «Я не умею креститься, а на колени стала, хотя мне не очень хотелось», рассказывала Н. Продолжая евреев отожествлять с беднотой, угодливостью и необразованностью – она относится к ним пренебрежительно.
К вопросу о своей национальности она возвращается не раз. Месяцем позже читаем такую запись в дневнике.
28 июля 1913 (6 л. 11 м.).
Каким-то образом разговор перешел на национальности. Н. сказала, что она не хочет, чтобы знали, что она еврейка. «Почему?», спросила я. Н. ни за что не хотела сказать, а когда я стала настаивать, то она расплакалась и сказала мне, что «все смеются над евреями». – Не все, Н., ответила я, а самые глупые и гадкие, для хороших и умных нет основания смеяться над «человеком только потому, что он еврей». – Ну, что же делать, мамочка, со слезами сказала крошка, «если больше всего глупых и гадких!» Я сказала ей, что если она тяготится своим еврейством, то может креститься. «Я не могу креститься и учить молитвы и все то, что мне кажется неправдой».
Русские «бытовые» условия недавнего прошлого так остро заставляют переживать в 8 лет национальный вопрос! Ребенку в 8 лет приходится решить вопрос – быть или не быть ему евреем! И как это ни странно – взрослые не только не смогли помочь в этом, но своим скептицизмом лишь обострили переживаемую ребенком драму.
12 августа 1913 (7 лет).
Были мы с Нинусей в Софийском соборе. Н. видела, наконец, так заинтересовавшие её мощи, собственно одну руку. По поводу гробниц, живописи, икон (её поражает блеск их и обилие камней) она задавала массу вопросов. Интересуют ее три основных вопроса: 1) давно ли существует данная икона, храм? 2) Все ли в ней настоящее (золото, камни) и 3) много ли стоит такая золотая икона, купол и т. д.?
Говорили мы с ней сегодня о сиянии вокруг лиц святых. Я объяснила его так: при известном настроении, душевном состоянии и выражение лица соответствующее. У святых хороших людей, что-то внутри горит, светится хорошее, и люди это заметили и, чтобы яснее
Редкое издание
передать этот свет лица - стали делать сияющий ободок вокруг головы. Н. это объяснение очень понравилось.
9 августа 1913 (7 л.).
Наша квартирная хозяйка спросила Н., почему она не ходит теперь к Риточке. Н. ответила, что мама Р. груба и ее не пускают туда. «Она жидовка, потому и грубая, они все грубые». Н. пришла меня спросить, правда ли, что все евреи грубые, и сама сейчас же сказала, что это неверное объяснение грубости матери Р. «Национальные» разговоры возникают у нас с Н. очень часто. Она не верит, что тот или другой интеллигентный человек, на которых я указываю ей, еврей. Она говорит, что обязательно крестится, но только, чтобы священник не заставил ее верить в то, чего она не понимает и учить то, что трудно и непонятно. Были мы с Н. во Владимирском соборе. Там я указала ей на несколько икон-картин. Н. сразу узнала Иисуса с Матерью, что у Царских врат, так как этот снимок помещен в её «Русской грамоте». Поразил ее образ Бога-Отца на потолке. Она сразу стала догадываться, что за доску он держит в руках. Выслушала внимательно 10 заповедей, причем не поверила, что в заповедях написано, «чти отца и мать твою»... «Ну, ты это, мамочка, уже хитришь».
12 августа 1913 (7 л.).
«Вопрос о национальности в К. стоит как-то особенно остро. То и дело Нинуся рассказывает мне, что ругают «жидовки» то одну, то другую девочку. И в недоумении крошка спрашивает меня. «Что это такое, мама? Почему все спрашивают друг друга, “ты русская или еврейка” и почему так скверно относятся к евреям?» Я все толкую ей, что национальность не имеет значения и что те, кто придает значение национальности и не любит евреев - не интеллигентен, но чувствую, что жизнь сильнее меня».
17 августа 1913 (7 л.).
«Юдофобство детей здешнего двора заставило меня запретить Н. выходить во двор, и она часто томится в комнате, хотя мы и гуляем много. Каждый раз, как Н. побывает на дворе, она возвращается с широко открытыми глазами и с неизменным вопросом на устах: "почему здесь все спрашивают: кто ты? И почему так сильно, даже дети не любят евреев?" Бедная детская головка, какую работу задает ей жизнь!»
Девочку отдают в детский сад. Но и там приходится столкнуться с тем же больным вопросом.
2 сентября 1913 (7 л., 1 м.).
Все было бы хорошо, если бы не национальный вопрос, который всплывает даже в Д. С. Там читают молитвы и учат З. Божью. Сама Н. очень недоумевает, о чем надо молиться перед и после еды? Когда я сказала ей, что просят Бога, чтобы он благословил съедаемую пищу, и благодарят за то, что он дал её людям, - Н. рассмеялась. Я знаю, что основа этого смеха в тоне моего голоса и в скрытой иронии, звучащей в моих речах.
4 сентября 1913.
Девчурки сегодня поведали мне, что перед завтраком дети пели молитву, а она очень волновалась, так как не знала, что ей делать в это время.
12 октября 1913 (7 л. 2 м.).
Вчера мы читали легенду о рождении Христа, поклонении ему всех животных и растений и украшении ангелом звездой скромной елочки. Н. очень понравился этот рассказ.
Редкое издание
Во время лепки она слепила целую картину: различные деревья, и цветы, а между ними елочку со звездой на вершине. А вечером, рисуя совершенно самостоятельно, она нарисовала прелестную иллюстрацию к этому рассказу. Я не люблю их. Жизнь и мысли Христа произвели на нее сильное впечатление.
Спустя несколько дней Ниночка отпросилась в церковь, посещение которой, как всегда – вызывает целый ряд вопросов.
31 марта 1913 (7 л. 5 м).
Сегодня Н. попросилась пойти со М. Д. (знакомая дама) церковь. Я решила пустить ее, чтобы посмотреть – какое впечатление произведет на неё церковное пение и вся обстановка. Придя, Н. рассказала, что там очень странно пели певчие «все то вверх, то вниз так, как я горы рисую, был один красивый священник в красивом золотом платье, а другой не красивый и весь в черном. Народу было очень много и М. Д. несколько раз становилась на колени. Затем она рассказала о детях, которых кормили хлебцем и давали пить вино. Смеясь, она сказала мне, что на вопрос «что за гроб стоит в церкви и кто в нем похоронен?» М. Д. сказала, что там лежит Бог, который встает и палкой бьет деток, когда они не слушаются мамы. Н., блестя умными глазенками, с слегка ехидной улыбкой рассказала мне об этом курьезном объяснении М. Д. Самую же М. Д. она тактично выслушала и в глаза ей ничего не сказала.
19 окт. 1913 (7 л. 2 м.).
Я замечаю, что религиозные вопросы тревожат умишко Н. Вчера мы с ней долго говорили. Я прямо спросила ее: «Н., ты хочешь иногда помолиться Богу? Бывает у тебя такое желание?» Словоохотливая девочка вся сжалась и ни слова мне не ответила. Я ласково повторила свой вопрос. Смущение на личике, и ни слова в ответ. Тогда я спросила, почему она мне не отвечает. «Ты не за меня будешь в этом, мамочка! Что же мне ответить тебе?» «Почему ты думаешь, что я буду против, Нинуся?» и мы стали с ней говорить. Девчурка сказала мне, что она иногда очень хочет помолиться Богу, но не знает, как это сделать, не знает молитв «А своими словами, как тебе думается, ты не пробовала молиться? – Нет, я не умею. – И потом, мамочка, я не знаю, есть ли Бог?» Я стала говорить Н., как раньше считали богами солнце, море и т.д. Н. слушала меня явно недоброжелательно настроенная и своим капризным, своенравным голосом спросила меня: «а ты во что веришь?» Я уклонилась от ответа, а она продолжала: «в совесть?» «А я хочу верить в Бога и в ад, и в рай». Я сказала ей, что это её дело и напрасно она думает, что я имею что-либо против. Любит она ходить по церквам и очень часто, придя с прогулки, говорит мне что была в церкви, слушала, как поют там маленькие мальчики и что пение это ей очень нравится. Она обо всем, что видела, расспрашивает с большим вниманием. Сегодня она нарисовала «рай» и «ад». Мария Дорофеевна, рассказывая об аде, говорила о весах, на которых взвешивают добрые и злые дела; Н. не забыла в своем рисунке поместить их.
24 янв. 1914 (7 л. 5 м.).
Сегодня Н. сказала: «Я знаю, что Бога нет, но как это Адам и Ева разговаривали с Богом?» Посмеявшись вместе с ней вволю над «Мадамом» (вместо Адама), я рассказала ей миф о происхождении людей.
Редкое издание
14 авг. 1914 (8 л).
Сегодня Нина спросила меня, кто она еврейка или русская, или крещеная еврейка? Спросила, почему её не крестили и надо ли за крещение платить деньги и сколько, причем она ставила в зависимость вопрос о крещении с платой за этот обряд. Ее очень прельщает иметь золотой крестик, и она справлялась: дает ли крестный отец по своему вкусу или предоставляет выбор крестившейся.
Дневник Ниночки заканчивается коротенькой, но очень многозначительной записью, показывает каков был эпилог душевной драмы маленькой девочки.
Сент. 1914 (8 л. 1 м.).
«Летом Н. была крещена. Крещение и подготовка, к нему - заучивание молитвы вызывало в Н. живейшую радость. И теперь она часто говорит мне, что рада, что она уже не еврейка, потому что она не может любить евреев и не хочет быть еврейкой. Радуется она и тому, "что у русских" можно быть именинницей 2 раза и два раза в год собирать к себе подруг и получать подарки».
Таков эпилог этой драмы: ребенок потребовал, чтобы он был крещен. Куда же девалась та ирония, тот скепсис, который так усиленно насаждался старшими? Откуда эта радость во время подготовки к крещению? Неужели только от того, что можно быть два раза «у русских» именинницей? Несомненно, огромная роль во всем этом принадлежит «национальному» вопросу, желанию стать русской, не быть еврейкой, так как еврей в глазах ребенка - что-то достойное презрения, жалкое, необразованное и т. д. Несмотря, на все усилия семья не смогла изменить у ребенка этого пониманья еврейства. Жизнь оказалась сильнее теории. Такое же крушение испытывают теории и по-другому вопросу -религиозному. Ребенок в конце концов принимает то, по поводу чего ему внушались определенно скептические взгляды. Процесс религиозного развития прошел как-то мимо семьи, мимо матери, которая совершенно не поняла детских запросов, не сумела дать на эти запросы приемлемые для ребенка ответы. С самых первых шагов по этому пути ребенок инстинктивно почувствовал, что они с матерью говорят на разных языках, что им не понять друг друга: «я для этого еще маленькая» дипломатично заявляет этот, рано развившийся ребенок по поводу мудрствований матери о совести. Эта же «дипломатичность» сквозит и в других ответах подозрительно скоро соглашающейся с матерью девочки, обычно очень мало-сговорчивой. И какой холодностью, какой отчужденностью веет от ответа семилетнего ребенка, когда он определенно заявляет, что, вопреки всем её умствованиям, он «хочет верить в Бога, в ад, в рай!» Долго колеблется этот чуткий ребенок, открыть-ли скептически-настроенной матери свои затаенные мысли. «Словоохотливая девочка вся сжалась и ни слова мне не ответила. Я ласково повторила свой вопрос. Смущение на личике и ни слова в ответ. Тогда я спросила, почему она мне не отвечает! “Ты не за меня будешь в этом, мамочка! Что же мне ответить тебе?"» И в этом ответе вылилось то, что долго накоплялось в душе ребенка, не получившего то, на что он имел право. Душа ребенка развивается как бы «от противного», отрешаясь от тех взглядов, которые ему навеваются старшими, забывающими, что ребенок прежде всего ребенок и что отвлеченными рассуждениями его конкретный ум, жаждущий живой, «материальной», пищи, не удовлетворится. В конце этой знаменательной беседы мать читает целую лекцию по эволюции религиозных идей, закончив ее указанием на то, что «в каждом человеке есть
Редкое издание
частичка божества – совесть человеческая». Ниночка явно недоброжелательно слушает свою мать и определенно заявляет, что она хочет верить не в совесть, а в Бога.
Откуда это страстное желание верить в Бога? Ведь «национальный» вопрос здесь не все объясняет. Быть может, он обострил характер детских переживаний, побудил девочку сделаться «русской». Но именно эти переживания показывают, что не только это желание быть «русской» побудило девочку искать вполне определенного религиозного содержания, а не обрядовой лишь его стороны. Этого религиозного содержания не сумела дать его пробуждающемуся религиозному чувству семья. И в этом огромная её ошибка.
Н. Рыбников
- 174 -
Список литературы Н. Рыбников. РЕЛИГИОЗНАЯ ДРАМА РЕБЕНКА (Психологический этюд)
- Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. : М–Я / Редкол.: Давыдов В. В. и др. М. : Большая рос. энцикл., 1999. С. 301–302.
- Рыбников Н.А. Религиозная драма ребенка : (психологический этюд). М.: [б. и.], 1918. 12 с.