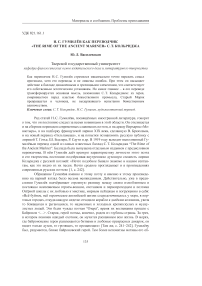Н. С. Гумилёв как переводчик "The rime of the ancient mariner" С. Т. Кольриджа
Автор: Василевская Юлия Леонидовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
Как переводчик Н. С. Гумилёв стремился максимально точно передать смысл оригинала, хотя его переводы и не лишены ошибок. При этом он насыщает действие в балладе динамичными и зрелищными элементами, что соответствует его собственным эстетическим установкам. Но самое главное – в его переводе трансформируется основная мысль, заложенная С. Т. Кольриджем: из героя, смирившегося перед властью божественного промысла, Старый Моряк превращается в человека, не выдержавшего испытания божественным одиночеством.
С. т. кольридж, н. с. гумилев, художественный перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/146278382
IDR: 146278382 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Н. С. Гумилёв как переводчик "The rime of the ancient mariner" С. Т. Кольриджа
Ряд статей Н. С. Гумилёва, посвящённых иностранной литературе, говорит о том, что он постоянно следил за всеми новинками в этой области. Он откликается и на сборник переводов современных славянских поэтов, и на драму Верхарна «Монастырь», и на подборку французской лирики XIX века, сделанную В. Брюсовым, и на новый перевод «Гильгамеша», и на попытки познакомить русскую публику с лирикой Т. Готье, Ш. Бодлера, Р. Саути и др. В 1919 году выходит выполненный Гумилёвым перевод одной из самых известных баллад С. Т. Кольриджа “The Rime of the Ancient Mariner”. Баллада была выпущена отдельным изданием с предисловием переводчика. В нём Гумилёв даёт краткую характеристику личности этого поэта и его творчества, постоянно подчёркивая внутреннюю духовную схожесть лирики Кольриджа с русской поэзией: «Нечто подобное бывало знакомо и нашим сектантам, как это видно из их песен. Нечто сродное проглядывает и в произведениях современных русских поэтов» [1, с. 242].
Обращение Гумилёва именно к этому поэту и именно к этому произведению на первый взгляд было весьма неожиданным. Действительно, уже в предисловии Гумилёв подчёркивает огромную разницу между своим излюбленным и постоянно воспеваемым героем-воином, охотником и первопроходцем и поэтами Озёрной школы с их любовью к мистике, мирным пейзажам и погружению в себя: «Всё буйное, всё героическое английской жизни сосредоточивалось у моря, в портовых городах, откуда каждую неделю отходили корабли к далёким колониям, увозя то божащихся и ругающихся, то надменных и холодных крепкоскулых и мускулистых людей. Эти были чужды поэтам “Озера”, время их воспевания пришло с Байроном <…>. Старик, герой поэмы, конечно, родом из глубины страны. За грех, в котором повинен каждый охотник, он мучится раскаянием всю жизнь. В морях, где байроновские герои развлекаются битвами и любовью прекрасных дикарок, он видит только духов, то грозящих, то прощающих» [Там же, с. 241–242]. Гумилёву был, разумеется, ближе байроновский герой. Тем более непонятны мотивы его об- ращения к этой балладе, пронизанной одной мыслью: есть природные силы, гораздо более могущественные, чем слабые человеческие, и человеку необходимо смирить гордыню и с почтением склониться перед ними – и к этому герою, которого поэт называет «заблудившимся ребёнком». Ключом к пониманию такого неожиданного выбора объекта перевода служат, как мы полагаем, последние строки предисловия:
«Ведь каждый из нас хоть раз в жизни был одинок, подобно старому моряку, так одинок, как, может быть,
Бывает только Бог, и каждый, прочтя эту поэму, почувствует, подобно свадебному гостю, что и он “углублённей и мудрей”
Проснулся поутру» [Там же, с. 242].
Гумилёв приравнивает одиночество Старого Моряка к одиночеству Бога и тем самым ставит на первый план мотивы байронической поэзии – мотивы богоборческие. У героя Кольриджа, в интерпретации Гумилёва, была возможность познать божественное одиночество, но слабая человеческая природа не выдержала такого испытания.
Из сравнения перевода Гумилёва с первоисточником видно, что поэт подошёл к нему серьёзно, и его перевод во многих случаях гораздо более точен, чем перевод В. Левика, который в настоящее время и предлагается русскому читателю в большинстве изданий.
Моряки, застигнутые штилем, мучаются от невыносимой жажды. В переводе В. Левика: «Пришли дурные дни. Гортань / Суха. Темно в глазах. / Дурные дни! Дурные дни! / Какая тьма в глазах!» [2, с. 59]. В переводе Гумилёва: «Так скучно дни идут. У всех / Стеклянный блеск в глазах. / Как скучно нам! Как скучно нам! / Как страшен блеск в глазах!» [Там же, с. 444]. В оригинале, действительно, используется эпитет “weary” (утомительный, надоедливый; скучный).
Описывая муки Старого Моряка, В. Левик объясняет его неспособность молиться внутренней душевной пустотой: «На небеса гляжу, но нет / Молитвы на устах. / Иссохло сердце, как в степях / Сожжённый солнцем прах» [Там же, с. 71]. Гумилёв же указывает на некую грозную силу, которая препятствует герою облегчить душу молитвой: «Гляжу на небо и мольбу / Пытаюсь возносить, / Но раздаётся страшный звук, / Чтоб сердце мне сушить» [Там же, с. 449]. Этот вариант больше соответствует оригинальному: “A wicked whisper came, and made / My heart as dry as dust” [Там же, с. 70].
В финале поэмы Старый Моряк, закончив рассказ, идёт не на пир с Брачным Гостем, а в храм на вечернюю службу. Тем самым Кольридж показывает, что рассказ Старого Моряка занял совсем немного времени: гости ещё не успели разойтись, и пир был в самом разгаре. О вечернем звоне, призывающем к молитве, говорится и у Гумилёва. А В. Левик раздвигает временные рамки рассказа до целой ночи: колокол зовёт к заутрене.
Стоит отметить, что и в том, и в другом переводе есть места, которые довольно сильно расходятся со смыслом оригинала. Кольридж если и описывает эмоции персонажей, то максимально сильно, «на пределе». Такова, например, сцена смерти команды корабля: “One after one, by the star-dogged Moon, / Too quick for groan or sigh / Each turned his face with a ghastly pang, / And cursed me with his eye” [Там же, с. 66].
И Гумилёв, и В. Левик «приглушают» эмоции моряков. Гумилёв: «И каждый месяцем гоним, / Безмолвие храня, / Глазами, полными тоски, / Преследует меня» [Там же, с. 447]. В. Левик: «И друг за другом все вокруг / Ко мне оборотились вдруг / В гнетущей тишине, / И выражал немой укор / Их полный муки тусклый взор, / Остановясь на мне» [Там же, с. 67].
По-разному Гумилёв и В. Левик подошли к описанию необычного происшествия, случившегося с кораблём, на котором остался только Старый Моряк и мёртвые матросы. Перед тем как Моряк лишается чувств и слышит неведомые голоса, пророчащие ему кару за убийство альбатроса, корабль, дотоле стоявший неподвижно, совершает “a short uneasy motion” назад и вперёд, а затем внезапный скачок, подобно “a pawing horse”. Гумилёв создаёт из этого ещё более эффектную зрелищную сцену: «Над мачтой Солнце поднялось, / Идти нам не даёт: / Но через миг опять корабль / Вдруг подскочил из вод, / Почти во всю свою длину / Он подскочил из вод. / Как конь, встающий на дыбы, / Он сразу подскочил: / В виски ударила мне кровь / И я упал без сил» [Там же, с. 455].
Ни один из двух переводчиков не передал верно эпизод, в котором Старый Моряк, мучающийся от жажды, получает спасение свыше: идёт ливень. Запросы героя Кольриджа малы: он мечтает наполнить росой хотя бы маленький черпак. Когда же он совсем обезумел от жажды, внезапно пошёл дождь. Глагол dream имеет два значения: 1) видеть сон; сниться, 2) мечтать, воображать. Старый Моряк именно мечтает о глотке воды, но Гумилёв и В. Левик создают из этого эпизода фантасмагорическое видение, в котором герою являются бочки воды (В. Левик), чан воды (Гумилёв).
Гумилёв и В. Левик каждый на свой лад попытались перевести оксюморонное имя одного из персонажей баллады – страшной фигуры, которую моряки видят на мёртвом корабле. В оригинальном тексте оно – Life-in-Death ( Жизнь-в-Смерти ). Смерть выигрывает жизни матросов, Жизнь-в-Смерти забирает себе Старого Моряка. Тем самым Кольридж подчёркивал, что единственный выживший, Старый Моряк, ещё более мёртв, чем его товарищи: они мертвы телом, а он – душой. Гумилёв переводит имя как «Жизнь по Смерти», В. Левик – «Жизнь-и-в-Смерти». И тот, и другой вариант не соответствуют замыслу Кольриджа.
И, наконец, ни один из переводчиков не смог адекватно замыслу поэта перевести финальную реплику Старого Моряка, обращённую к Брачному Гостю. Гумилёв цитирует эти строки в своём предисловии и именно их считает выражением главной мысли баллады: «О, Брачный Гость, я был в морях / Пустынных одинок, / Так одинок, как, может быть, / Бывает только Бог» [Там же, с. 465]. В переводе В. Левика эта строфа выглядит так: «О, Брачный Гость, я был в морях / Пустынных одинок. / В таких морях, где даже Бог / Со мною быть не мог» [Там же, с. 107].
У Кольриджа: “…that God himself / Scarce seemed there to be” [Там же, с. 106]. То есть у Старого Моряка сложилось впечатление , что Бог был вдали от него. Оттенок всякого сомнения в этом пропадает из перевода В. Левика, а Гумилёв создаёт новый смысл, не характерный для данной баллады и творчества Кольриджа в целом. Герой английского поэта учится смирению, а сравнение с Богом задаёт его духовной эволюции совсем другое направление.
Соблюдение точности при переводе всё же оказывается недостаточным: «Поэма о Старом Моряке» Гумилёва зачастую не имеет того, что для переводной поэзии не менее важно – эмоционального эффекта. В этом перевод В. Левика, при всех его вольностях, значительно лучше перевода Гумилёва. Для сравнения обратимся к важному для баллады эпизоду, когда Старый Моряк смог исповедаться Отшельнику в содеянном и сбросить с души непосильный груз, то есть отринуть состояние «жизни-в-смерти». Очистительную силу исповеди герой характеризует следующим образом: “Forthwith this flame of mine was wrenched / With a woful agony, / Which forced me to begin my tale; / And then it left me free” [Там же, с. 104]. Фраза очень непростая для перевода, наполненная сложными метафорами. Версия Гумилёва: «И пал с меня тяжёлый груз / С мучительной тоской, / Что вынудила мой рассказ; / И я пошёл иной» [Там же, с. 464]. В. Левик, используя паузы и перечислительные конструкции, изображает, каким громадным облегчением обернулась для Старого Моряка его исповедь, чтобы такое же облегчение ощутил и читатель: «И тут я, пойманный в силки, / Волнуясь и спеша, / Всё рассказал. И от цепей, / От страшной тяжести своей / Избавилась душа» [Там же, с. 105].
В стремлении не уходить далеко от текста оригинала Гумилёв вводит только те повторы, метафоры и сравнения, которые есть в балладе. Как следствие его перевод лишён эмоциональных пиков (даже там, где они предполагаются по смыслу).
Старый Моряк, описывая ужасы своего одинокого путешествия в окружении мертвецов, восклицает: “Seven days, seven nights, I saw that curse, / And yet I could not die” [Там же, с. 72]. Гумилёв точно передаёт смысл этих строк: «Но, ах! Проклятье мёртвых глаз / Ужасней во сто крат! / Семь дней и семь ночей пред ним / Я умереть был рад» [Там же, с. 449]. В. Левик же не побоялся использовать игру слов, и восклицание Старого Моряка приобретает бо́льшую выразительную силу: «Но верь, проклятье мёртвых глаз / Страшнее во сто крат. / Семь суток Смерть я в них читал / И не был Смертью взят!» [Там же, с. 71].
Гумилёв, при всём его стремлении к точности изложения, всё же убирает из текста ряд важных символических деталей. Убитого альбатроса вешают на шею Старому Моряку вместо креста (“instead of the cross”). Этот символический крест он и несёт до того самого момента, как впервые ощущает любовь ко всему живому и благословляет Божий мир. Команда корабля приветствует появление альбатроса “in God’s name”, “as if it had been a Christian soul”, а в переводе Гумилёва – «Как, если б был он человек, / С ним обходились мы». Эти и другие важные детали, связанные с духовным, крестным путём героя, Гумилёв опускает.
Он значительно увеличивает динамику описываемых событий, в то время как Кольридж подводит к ним своего читателя постепенно, оттягивая момент явления истины. Один из таких моментов – появление корабля на горизонте, когда моряки уже стали готовиться к самому худшему. Сначала они видят туманное пятнышко, затем становится понятно, что это корабль, затем – что это странный корабль, который движется на большой скорости при полном штиле, и, наконец – что это не корабль, а скелет корабля. Гумилёв сокращает все эти «этапы», сразу же называя туманное пятнышко кораблём. Он не даёт, как Кольридж, своему герою порадоваться грядущему спасению; его Старый Моряк сразу же пессимистично изрекает, что странное судно, которому нипочём штиль, «не даст счастья».
Необъяснимым кажется устранение многих эффектных подробностей. Так, например, Кольридж, описывая скелет корабля, на котором странствуют Смерть и Жизнь-в-Смерти, создаёт очень яркий образ: у судна нет обшивки, и шпангоуты торчат, как рёбра; вместо парусов и такелажа – лохмотья. Но из всех этих деталей в перевод Гумилёва попали только изорванные в клочья паруса.
Финальное духовное преображение Брачного Гостя под влиянием рассказа Старого Моряка не просто расходится с оригиналом в буквальной передаче смысла, но и не соответствует ему в символическом. Последняя строфа баллады: “He went like one that hath been stunned, / And is of sense forlorn. / A sadder and a wiser man, / He rose the morrow morn” [Там же, с. 108]. Перевод Гумилёва: «Побрёл, как зверь, что оглушён, / Спешит в свою нору: / Но углублённей и мудрей / Проснулся поутру» [Там же, с. 466]. Кольридж, напротив, хотел показать, что Брачный Гость становится человечнее, ведь Старый Моряк передаёт ему своё выстраданное «знание» – любовь ко всякому Божьему творению.
В целом отношение Гумилёва к переводу иллюстрирует известную среди профессиональных переводчиков истину: не всякий точный перевод точен. Особенно это касается перевода поэзии, в которой смысл целого складывается не только из значений составляющих произведение слов. Кроме того, Н. С. Гумилёв, желая видеть в Старом Моряке свой любимый тип бесстрашного странника, изменяет смысл баллады. В его «редакции» это поэма о сильном человеке, который бросил вызов ещё более могучим силам и с почётом капитулировал.
Tver State University
About the author:
VASILEVSKAYA Yuliya Leonidovna – Candidate of Philology, Associate Professor at the Department of Philological Basics of Publishing and Literary Creation, Tver State University (170100, Tver, Zhelyabov str., 33), e-mail: yuliya-vasilevskaya@yandex. ru.
Список литературы Н. С. Гумилёв как переводчик "The rime of the ancient mariner" С. Т. Кольриджа
- Гумилёв Н. С. Письма о русской поэзии. М.: Современник, 1990. 383 с.
- Кольридж С. Т. Стихотворения. М.: Радуга, 2004. 512 с.