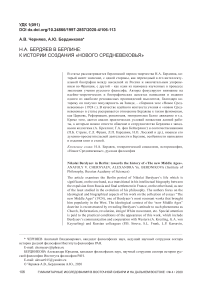Н.А. Бердяев в Берлине: к истории создания "нового средневековья"
Автор: Черняев Анатолий Владимирович, Бердникова Александра Юрьевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 4 (54), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается берлинский период творчества Н.А. Бердяева, который имеет значение, с одной стороны, как переходный в его интеллектуальной биографии между высылкой из России и окончательным укоренением во Франции, с другой - как один из наименее изученных в процессе эволюции учения русского философа. Авторы фокусируют внимание на идейно-теоретических и биографических аспектах написания и издания одного из наиболее резонансных произведений мыслителя, благодаря которому он получил популярность на Западе, - сборника эссе «Новое Средневековье» (1924 г.). В качестве идейного контекста учения о «новом Средневековье» в статье раскрывается отношение Бердяева к таким феноменам, как Церковь, Реформация, революция, эмигрантское Белое движение и т.д. Кроме того, дается анализ практических условий появления данной работы, к которым можно отнести общение и сотрудничество Бердяева с западными коллегами (А. Креслинг, Г.А. фон Кейзерлинг) и соотечественниками (П.Б. Струве, С.Л. Франк, Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский и др.), нюансы его духовно-просветительской деятельности в Берлине, особенности написания и издания книг и статей.
Н.А. Бердяев, теократический социализм, историософия, «Новое Средневековье», русская философия
Короткий адрес: https://sciup.org/170175959
IDR: 170175959 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24866/1997-2857/2020-4/106-113
Текст научной статьи Н.А. Бердяев в Берлине: к истории создания "нового средневековья"
Идеи, легшие в основу выпущенных Н.А. Бердяевым за время его пребывания в Германии трудов, начали формироваться еще в предшествующий его высылке за границу период, фактически начавшийся сразу после Октябрьской революции 1917 г. и прихода к власти большевиков. Сама революция и последовавшие за ней первые годы советской власти были восприняты Бердяевым неоднозначно: с одной стороны, эти события трактовались мыслителем как неизбежный «кризис старого мира» и «слом эпох», с другой же, Октябрьская революция выступала для Бердяева как символ начала «новой эры», прихода эпохи «нового Средневековья» – явления, имеющего особое значение не только в судьбе России, но и в глобальном масштабе1. Одним из следствий Октябрьской революции в России, по мнению Бердяева, стал конец эпохи «духовного Ренессанса», в связи с чем особой задачей для пореволюционного времени, которую Бердяев ставил в том числе и перед самим собой, виделось ему «возрождение духовных исканий» русского народа [11, с. 52]. «Возвращение» русской интеллигенции «к духовной жизни и духовным интересам», «отвлечение» ее представителей от «исключительной поглощенности политикой» Бердяев видел в качестве одной из основных задач для себя и своего творчества сразу после эмиграции в Германию в 1922 г., свидетельством чему служат его письма той поры к А.В. Тырковой-Вильямс [22].
Не будет преувеличением утверждать, что выполнению данной задачи была подчинена вся деятельность мыслителя в 1918–1922 гг. и позже, на протяжении всех лет эмиграции, вплоть до его смерти в 1948 г. Уже в 1918 г. у него дома начали проходить заседания, так называемые «бердяевские вторники», на базе которых затем в 1919 г. была создана Вольная академия духовной культуры (ВАДК), просуществовавшая до самого момента высылки мыслителя из России в 1922 г. Другим видом реализации духовно-просветительской деятельности философа в данный период явилась его работа вместе с
Б.А. Грифцовым и Б.К. Зайцевым в Книжной лавке писателей, целью которой было поддержание книгоиздательства и книготорговли в годы, когда интерес к чтению у большинства людей стремительно падал. В 1920 г. к этому добавилось чтение лекций в Московском университете, куда Бердяев был приглашен несмотря на отсутствие ученой степени.
В 1922 г. Бердяев вместе с другими представителями русской интеллигенции (С.Л. Франком, И.А. Ильиным, Б.П. Вышеславцевым, М.А. Ильиным (Осоргиным) и др.) был выслан за границу на печально известном «философском пароходе» «Обербургомистр Хаген» («Oberbürgermeister Haken»)2. «Изгнание» из России мыслитель воспринял неоднозначно: с одной стороны, «положительным» аспектом своего вынужденного отъезда он считал возможность осуществления «особой миссии в Западной Европе»3, на которую его «благословил» настоятель церкви Св. Николая на Маросейке в Москве отец Алексий Мечёв4; с другой же стороны, Николай Александрович, как и многие его соотечественники, считал вынужденную эмиграцию личной трагедией, отрывающей его от Родины, свидетельством чему являются вос- поминания Н.О. Лосского, в квартире которого в Санкт-Петербурге Бердяев вместе со своей семьей останавливался на несколько дней перед отплытием в изгнание [14, c. 195]. Положительную роль заграничного периода своей деятельности сам мыслитель также подчеркивал впоследствии в своей автобиографической работе «Самопознание» (1948), называя себя «человеком западной культуры»: «Я приехал на Запад со своими русскими идеями. Но эти русские идеи были вместе с тем идеями универсальными. Я всегда был универсалистом по своему жизнепониманию и вместе с тем всегда ощущал этот универсализм как русский. Я был человеком западной культуры. Можно даже про меня сказать, что западная культура мне имманентна и что я имманентен ей» [7, с. 497].
Стоит отметить также, что пребывание Бердяева в Германии, достаточно непродолжительное по времени и связанное со многими материальными и жизненными трудностями, стало весьма продуктивным в творческом плане и принесло ему множество интеллектуальных связей с известными европейскими мыслителями: Ж. Мари-теном, Ф. Либом, А. Кейзерлингом, П. Тиллихом, Х. Эренбергом, С. Фюме, О. Шпенглером и др. Именно в Германии вышли такие значительные его работы, как «Миросозерцание Достоевского» (1923), «Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы» (1923), «Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии» (1923)5 и наиболее известная работа, сделавшая русского мыслителя популярным во всем мире, – сборник эссе «Новое Средневековье (размышления о будущем русской и европейской культуры)» (1924)6. По тематике, объединяющей все вышеназванные работы, впоследствии многими исследователями творчества Бердяева (в частности – В.В. Зеньковским и Н.П. Полторацким) немецкий период его творчества был обозначен как «историософский» или «исторический» этап эволюции его идей7.
Первые годы, проведенные Бердяевым за границей, были полны как ощутимых трудностей, так и заметных успехов8. В 1921–1923 гг. именно Берлин в силу разных причин, в том числе экономико-политических, представлял собой «главный центр русской эмиграции»9. Активная творческая и просветительская деятельность Бердяева, начатая им после Октябрьской революции в России, продолжилась и после высылки. Почти сразу после переезда в Берлин возобновились собрания у Бердяева на съемной квартире; вместе с другими русскими эмигрантами он принимал активное участие в заседаниях Клуба писателей, проходивших в кафе «Леон» на Ноллендорфсплац (в число участников Клуба входили также С.Л. Франк, В.Ф. Ходасевич, М.А. Осоргин и др.) [15, с. 228]. Уже 26 ноября 1922 г. по инициативе Бердяева и С.Л. Франка, а также при активном участии и помощи Американского христианского союза молодых людей (Young Men’s Christian Association – YMCA) и личном содействии его секретаря Пола Андерсена (1894–1985) в Берлине была основана Религиозно-философская академия – прямая наследница московской Вольной академии духовной культуры10. Как впоследствии вспоминал сам Бердяев, «решение образовать Религиозно-философскую академию было принято на квартире секретаря YMCA – П.Ф. Андерсена11, прекрасного человека, очень много сделавшего для русских» [7, с. 493–494]. На открытии академии Бердяев выступил с речью «О Духовном Возрождении России и задачах Религиозно-философской Академии», в которой еще раз подчеркнул, что для борьбы с мировыми «антихристианскими силами» должно быть «создано единение всех христианских сил Востока и Запада» [18]. После этого заседания публичные выступления в Академии происходили один раз в неделю вплоть до ее закрытия в 1927 г. Кроме этого, Бердяев (совместно с С.Л. Франком и Н.О. Лосским) был занят в то время подготовкой к изданию журнала «София», призванного стать официальным печатным органом Религиозно-философской академии. К сожалению, его издание ограничилось единственным номером, увидевшим свет в 1923 г. с подзаголовком «Проблемы духовной культуры и религиозной философии» (в число авторов данного выпуска входили С.Л. Франк, Л.П. Карсавин, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, П.И. Новгородцев и др.). Сам Бердяев опубликовал в нем очерк «Конец Ренессанса (к современному кризису культуры)», в котором впервые в творчестве мыслителя прозвучала мысль о Первой мировой войне как конце эпохи «Нового времени» и наступлении эры «нового Средневековья»12. Кроме него в данный сборник статей вошла также работа Бердяева «“Живая Церковь” и религиозное возрождение России», в которой те же сюжеты были рассмотрены мыслителем уже в контексте русской пореволюционной эпохи (в частности, жесткой критике мыслителя подверглось обновленческое церковное движение в России) [3]. В 1923 г. деятельность Бердяева по «возрождению духовности» среди русской эмигрантской молодежи в Берлине продолжилась в рамках созданного при поддержке YMCA Русского студенческого христианского движения, возрожденного на первом съезде РСХД в чехословацком Пшерове (пригороде Праги) Братства Святой Софии13, а также Русского науч-
-
12 «Если мы переживаем конец Ренессанса в новых течениях в искусстве, в футуризме, в новых течениях философии, в критической гносеологии, в течениях теософических и оккультических, наконец в социализме и анархизме, занимающих такое преобладающее место в общественной жизни нашей эпохи, то мы переживаем его также и в религиозных и мистических течениях. В одних течениях гуманизм внутренне разлагается и в этот процесс разложения вовлекает и образ человека, формы человека. В других течениях гуманизм преодолевается высшими началами и человек ищет спасения своего образа, своих форм в божественных основах жизни. Но и в том и в другом случае исторический Ренессанс кончается и происходит возврат к средневековым началам, то темным началам средневековья, то светлым его началам. … По многим признакам мы подходим к новой исторической эпохе. К эпохе, схожей с ранним темным еще средневековьем, к VII, VIII, IX векам, до средневекового возрождения. И многие из нас должны себя чувствовать последними римлянами» [4].
-
13 Председателем Братства был избран о. Сергий Булгаков, секретарем – В.В. Зеньковский.
ного института, в котором Бердяев возглавлял факультет духовной культуры14.
Отдельного упоминания заслуживает неприятие Бердяевым идеологии эмигрантского Белого движения и возникший на этой почве конфликт между ним и П.Б. Струве. Отголоски этого конфликта преследовали мыслителя и многие годы спустя, уже во время его жизни во Франции. Так, Лидия Юдифовна Бердяева в своих дневниковых записях в мае 1939 г. приводит следующие слова мужа: «Ты знаешь, когда нас высылали за границу, у меня было твердое решение никогда не иметь сношения с рус<-ской> эмиграцией. И вот по приезде в Берлин первое же столкновение... Ты помнишь, вечером пришел к нам Струве с своими единомышленниками, и у нас возник спор, окончившийся чуть ли не скандалом... Отношения были порваны. Вскоре после этой встречи Струве написал в “Возрождении” статьи, где обливал меня грязью...» [8, с. 172]. Ключевой точкой конфликта стало собрание высланных из России мыслителей, состоявшееся в берлинской квартире Бердяева в конце 1922 г. В нем приняли участие С.Л. Франк, И.А. Ильин, А.С. Изгоев и др. Бердяев на этом собрании выступил с резкой критикой идеологии сторонников «Белого дела», указывая на невозможность свержения большевизма насильственным путем «извне». Сам Бердяев вспоминал впоследствии об этом споре следующим образом: «Встреча у меня на квартире с белой эмиграцией кончилась разгромом. Я очень рассердился и даже кричал, что было не очень любезно со стороны хозяина квартиры. Я относился совершенно отрицательно к свержению большевизма путем интервенции... Я уповал лишь на внутреннее преодоление большевизма. Русский народ сам освободит себя. Я был убежден, что мы вступаем в совершенно новую историческую эпоху. Тип “белого” эмигранта вызывал во мне, скорее, отталкивание.
В нем была каменная нераскаянность, отсутствие сознания своей вины и, наоборот, гордое сознание своего пребывания в правде... На меня мучительно действовала злобность настроений эмиграции... Первое время за границей я решил избегать общения с русской эмиграцией, держался больше общения с группой высланных. Только по переезде в Париж у меня началось общение с более широкими кругами эмиграции, но, главным образом, с левыми, которые были для меня более выносимы» [7, с. 492]. Позицию Бердяева поддержал С.Л. Франк, высказав мнение о внутреннем, духовном пути преобразований как единственно возможном способе преодоления коммунистического режима в России [10]. П.Б. Струве ответил на это рядом критических статей, обозначив в них позицию оппонента термином «бердяевщина».
Наиболее значительным эпизодом из всей творческой деятельности Бердяева в первый, немецкий, период его жизни за границей можно признать историю написания и издания его работы «Новое Средневековье (размышления о будущем русской и европейской культуры)», в окончательный вариант которой вошли три эссе мыслителя: «Размышление о русской революции», «Демократия, социализм и теократия» и «Новое Средневековье». С изданием этой работы и дальнейшим ее успехом, сделавшим Бердяева самым известным на Западе русским философом, было связано немало трудностей. Как впоследствии вспоминала супруга мыслителя Л.Ю. Бердяева, сам Николай Александрович никогда не воспринимал «Новое Средневековье» как «ключевую» работу в своем творчестве, считая ее явно переоцененной и по-своему поверхностной [8, с. 153]. Свидетельство этому мы можем найти и в мемуарной работе мыслителя «Самопознание», где он весьма противоречиво отзывается о «Новом Средневековье», с одной стороны, частично «оправдывая» европейский успех этой «маленькой книжки» тем, что именно в ней проявилось его «обостренное» «чувство истории», и здесь же признаваясь в том, что «историю» саму по себе он «мучительно не любил» [7, с. 496].
Из-за стесненного материального положения Бердяев долго не мог найти в Берлине издательство для публикации «Нового Средневековья» и других своих работ. Данная дилемма разрешилась, когда на издание работ Бердяева согласилось издательство «Обелиск», основанное в 1922 г. историком Н.А. Котляревским и филосо- фом Л.П. Карсавиным. Этим же издательством был выпущен и вышеупомянутый единственный номер эмигрантского журнала «София», а также немало других публикаций русских мыс-лителей15. «Новое Средневековье» выходит в этом издательстве в 1924 г., при этом, в отличие от многих других работ берлинского периода Бердяева, работа над всеми тремя «этюдами», вошедшими в данную книгу, по признанию самого философа, велась в течение «последних полутора лет» [5, с. 217], а значит – началась уже в эмиграции. Примечательно, что практически сразу после выхода «Нового Средневековья» появляется его перевод на немецкий язык, выполненный А. Креслингом (также занимавшимся переводами на немецкий язык работ С.Н. Булгакова) при деятельном участии графа Г.А. фон Кейзерлинга. Дружба с последним у русского мыслителя завязалась почти с первых дней его пребывания в Берлине. Сам Бердяев даже давал ему впоследствии весьма лестную характеристику, называя «одним из самых блестяще одаренных людей Европы» [7, с. 495]. Интересно также, что при деятельной поддержке Кейзерлинга вышел и перевод работы Бердяева «Смысл истории» на немецкий язык (выполненный эстонским лингвистом О. фон Таубе в 1925 г.), к которому он сам лично написал предисловие. Не заставили себя долго ждать и переводы «Нового Средневековья» на французский (1927 г.) и английский (1933 г.) языки (всего работа была переведена на 14 языков, включая японский, хорватский, румынский и др.). Практически сразу после публикации данной книги по всей Европе (а затем и по всему миру) начали выходить отклики философов, литера- торов, историков и исследователей культуры, а за Бердяевым закрепилась репутация «самого значимого посредника между российской и западной мыслью» [25, p. 119], в идеях которого «православный Восток» встречается с протестантским и католическим Западом.
Берлинский период жизни и творческой деятельности Бердяева завершился двумя поездками: лето 1923 г. он вместе с семьей, а также С.Л. Франком и Б.К. Зайцевым провел в немецкой колонии Преров, близ Штральзунда (район Северная Передняя Померания), отдыхая на Балтийском море. Осенью того же года Бердяев вместе с С.Л. Франком и П.П. Муратовым, М.А. Осоргиным и Б.П. Вышеславцевым по приглашению известного неаполитанского слависта профессора Этторе Ло Гатто (1890–1983) выступил с публичными лекциями в Институте Восточной Европы Instituto per Europa Orientale) в Риме. Летом 1924 г. из-за прогрессирующей в Германии инфляции и постоянно ухудшающегося экономического положения Бердяев был вынужден уехать во Францию, где вместе с семьей до 1938 г. снимал квартиру в пригороде Парижа Кламар, а затем переехал в собственный дом, оставленный ему в наследство другом семьи англичанкой Флоранс Вест. С переездом Бердяева во Францию уже в Париже продолжились и многие его проекты, в частности – деятельность Религиозно-философской академии, сотрудничество с YMCA и РСХД, издание журнала «Путь», начатое мыслителем в 1925 г., и т.д.
Как вспоминал потом сам Николай Александрович, вместе с переездом в Париж, который стал следующим после Берлина центром русской эмиграции в Европе, закончился этап его «вхождения в жизнь на Западе», в результате чего он сам осознал себя в полной мере не только русским, но и «европейским философом» [7, с. 497]. Во многом этому осознанию поспособствовало повсеместное признание идей Бердяева в Европе и за ее пределами, в особенности изложенных в «Новом Средневековье», центральном для немецкого этапа деятельности и творчества Бердяева произведении.
Список литературы Н.А. Бердяев в Берлине: к истории создания "нового средневековья"
- Андерсон П.Ф. Бердяевские годы 19221939 (Из книги воспоминаний) // Вестник Русского христианского движения. 1985. № 1. С. 244-291.
- Базанов П.Н., Шомракова И.А. Русские издательства в Берлине, 1920-1924 гг. // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2017. № 4. С. 6-11.
- Бердяев Н.А. «Живая Церковь» и религиозное возрождение России // София. Проблемы духовной культуры и религиозной философии / Под ред. Н.А. Бердяева. Берлин: Обелиск, 1923. С. 125-134.
- Бердяев Н.А. Конец Ренессанса (к современному кризису культуры) // София. Проблемы духовной культуры и религиозной философии / Под ред. Н.А. Бердяева. Берлин: Обелиск, 1923. С. 36-39.
- Бердяев Н.А. Новое Средневековье // Бердяев Н.А. Смысл истории. Новое Средневековье. М.: Канон+, 2017. С. 217-308.
- Бердяев Н.А. Письма к П.Б. Струве (19221923) // Колеров М.А. Изнутри: Письма Бердяева, Булгакова, Новгородцева и Франка к Струве. Переписка Франка и Струве (1898-1905 / 19211925). М.: Издание книжного магазина «Циолковский», 2018.
- Бердяев Н.А. Самопознание. Русская идея. М.; Владимир: АСТ; Астрель; ВКТ, 2011.
- Бердяева Л.Ю. Профессия: жена философа. М.: Молодая гвардия, 2002.
- Волкогонова О.Д. Бердяев. М.: Молодая гвардия, 2010.
- Гапоненков А.А. Эпистолярный диалог С.Л. Франка и Н.А. Бердяева (1923-1947) // Вопросы философии. 2014. № 2. С. 119-130.
- Дмитриева Н.К., Моисеева А.П. Философ свободного духа (Николай Бердяев: жизнь и творчество). М.: Высшая школа, 1993.
- Зеньковский В.В. История русской философии. М.: Академический проект; Раритет, 2001.
- Квакин А.В. Высылка интеллигенции в 1922-1923 годы: мифы и реальность // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2013. № 1. С. 93-106.
- Лосский Н.О. Воспоминания. Жизнь и философский путь. М.: Викмо-М; Русский путь, 2008.
- Нобл И., Бауерова К., Нобл Т., Парушев П. Пути русского богословия на Запад в ХХ веке. М.: Изд-во ББИ, 2016.
- Половинкин С.М. Бердяев и православие // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2017. № 3. С. 142-148.
- Полторацкий Н.П. Бердяев и Россия. (Философия истории России у Н.А. Бердяева). Нью-Йорк: Общество Друзей Русской Культуры, 1987.
- Религиозно-Философская Академия в Берлине // София. Проблемы духовной культуры и религиозной философии / Под ред. Н.А. Бердяева. Берлин: Обелиск, 1923. С. 135-138.
- Флоренский П.А. Отец Алексей Мечёв // Флоренский П.А. Сочинения: в 4-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 621-627.
- Цвален Р.М. Спутники по разным путям: Николай Бердяев и Сергей Булгаков // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник 2008-2009 / Под ред. М.А. Колерова и Н.С. Плотникова. М.: РЕГНУМ, 2012. С. 334-424.
- Черняев А.В. Духовно-исторические корни революции в русской полеоктябрьской историософии (концепция Н.А. Бердяева) // Революция, эволюция и диалог культур. Доклады к 100-летию русской революции на Всемирном дне философии в Институте философии РАН 14 и 16 ноября 2017 г.. М.: Гнозис, 2018. С. 194-208.
- Янгиров Р. Против течения: Николай Бердяев и его спор с «Белым делом» о России // Отечественные записки. 2007. № 3. С. 324-340.
- Hertfelder-Polschin, O., 2013. Verbanntes Denken - verbannte Sprache: Übersetzung und Rezeption des philosophischen Werkes von Nikolaj Berdjaev in Deutschland. Berlin: Frank & Timme.
- Lampert, E., 1946. Nicolas Berdiyaev and the New Middle Ages. London: James Clarke & Co.
- Reichelt, S.G., 1999. Nikolaj A. Berdjaev in Deutschland 1920-1950. Eine rezeptionshistorische Studie. Leipzig: Universitätsverlag.
- Stroop, Ch., 2018. 'A Christian solution to international tension': Nikolai Berdyaev, the American YMCA, and Russian Orthodox influence on Western Christian anti-communism, c. 1905-60. Journal of Global History, Vol. 13, no. 2, pp. 188-208.