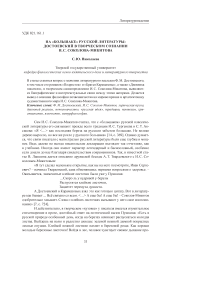На "большаке" русской литературы: Достоевский в творческом сознании И. С. Соколова-Микитова
Автор: Николаева Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится вопрос о значении литературного наследия Ф. М. Достоевского, в том числе его романов «Подросток» и «Братья Карамазовы», а также «Дневника писателя», в творческом самоопределении И. С. Соколова-Микитова, выявляются биографические и интертекстуальные связи между этими авторами. Делается вывод о влиянии философии почвенничества на мировоззрение и архитектонику художественного мира И. С. Соколова-Микитова.
Ф. м. достоевский, и. с. соколов-микитов, лирическая проза, духовный реализм, почвенничество, "русская идея", традиции, пантеизм, христианство, язычество, натурфилософия
Короткий адрес: https://sciup.org/146281287
IDR: 146281287 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи На "большаке" русской литературы: Достоевский в творческом сознании И. С. Соколова-Микитова
Сам И. С. Соколов-Микитов считал, что с «большаком» русской классической литературы его связывают прежде всего традиции И. С. Тургенева и С. Т. Аксакова: «Я <…> как последняя береза на русском забытом большаке. Не велико дерево выросло, но все же росло у русского большака» [14, с. 369]. Однако думается, что связи писателя с магистралью русской литературы были еще глубже и мощнее. Ведь далеко не всегда писательские декларации выглядят так отчетливо, как в учебнике. Иногда они имеют характер легендарный и баснословный, особенно если дошли до нас благодаря свидетельствам современников. Так, в известной статье В. Лакшина дается описание дружеской беседы А. Т. Твардовского с И. С. Со-коловым-Микитовым:
«Я тут сделал маленькое открытие, как вы на него посмотрите, Иван Сергеевич? – начинал Твардовский, едва обменявшись первыми вопросами о здоровье. – Оказывается, знаменитые клейкие листочки были уже у Пушкина:
…Скоро ль у кудрявой у березы Распустятся клейкие листочки, Зацветет черемуха душиста.
А Достоевский в Карамазовых взял это как готовую цитату. Вот в литературе как бывает… Всё связано со всем. <…> А еще бы! А еще бы! – Соколов-Микитов одобрительно хмыкает. Слова о клейких листочках вызывают у него свое воспоминание» [7, с. 724].
И действительно, в творческом «кузовке» у писателя имеется изумительное стихотворение в прозе, достойный ответ на поэтический вызов Пушкина: «Есть в русской природе особенный день, когда на березах начинает распускаться молодая листва. Выйдешь на волю и радостно ахнешь: зеленой нежной дымкой покрылись лесные опушки. Клейкой нежной листвою пахнет в березовой роще. Как хороши молодые березовые листочки! Войдя в лес, человек чувствует свежее дыхание про-
Вестник ТвГУ. Серия «Филология». 2018. № 3. С. 33–38 будившейся земли. Пройдет день-другой – и все березы покроются молодой густой свежей листвою» («На теплой земле»).
В мемуарах В. Лакшина говорится не только о Пушкине, но и о Достоевском, воспоминания о котором тоже имеют для Соколова-Микитова особое значение: «– Не помню, случалось ли мне вам рассказывать, благодаря чему или, вернее сказать, кому появился я на белый свет? – Нет… – А благодаря старцу Зосиме из “Братьев Карамазовых”. – Как так?! – А так, – продолжает довольный произведенным эффектом Иван Сергеевич. – Если б не Зосима (так Достоевский старца Амвросия назвал), меня бы и на свете не было».
И далее следует необыкновенная история о том, как матушка писателя, надумав выходить замуж, пошла в Оптину пустынь советоваться к старцу Амвросию. Три жениха сватались: начальник станции, молодой купчик и лесник Сергей. И хотя лесник был не слишком состоятельным человеком, тогда как два других жениха позавиднее, «Амвросий расспросил ее ласково и сказал: “Выходи, Машенька, за Сергия”. В первую минуту она изумилась, но дело было решено. “Она вышла за Сергея. У них родился мальчик. Это был я”, – объявлял с торжеством Иван Сергеевич. – Вот что значит, – заключает свой рассказ Иван Сергеевич, – и в жизни всё со всем связано. Так и я, выходит, связан с “Братьями Карамазовыми”» [Там же, с. 725].
Вот он, семейный миф: писатель Соколов-Микитов появился на свет Божий по завету старца Зосимы… Этот миф имеет важное значение: он не только раскрывает семейную историю родителей Соколова-Микитова, но прежде всего проясняет литературный генезис писателя.
Философия природы, любовное воссоздание жизни природы как проявления ее божественной сущности – эти принципы легли в основу творческой программы Соколова-Микитова, опиравшегося на традиции великого предшественника. Отношением к природному миру как миру Божьему Достоевский наделил своих старцев и странников, простых людей крестьянского сословия. В рассказе старца Зосимы, например, есть фрагменты, близкие по своей стилистике и содержательной глубине к текстам произведений Соколова-Микитова: «Ночь светлая, тихая, теплая, июльская, река широкая, пар от нее поднимается, свежит нас, слегка всплеснет рыбка, птички замолкли, все тихо, благолепно, все Богу молится. <…> Всякая-то травка, всякая-то букашка-то, муравей, пчелка золотая, все-то до изумления знают путь свой, не имея ума, тайну Божию свидетельствуют <…>. Поведал он мне, что лес любит, птичек лесных; был он птицелов, каждый их свист понимал, каждую птичку приманить умел; лучше того, как в лесу, ничего я, говорит, не знаю <…> все создание и вся тварь, каждый листик устремляется к Богу, Богу славу поет» [3, с. 267]. Близкие суждения высказывают и другие герои Достоевского. В частности, Маркел, брат старца Зосимы, особенно умиляется, глядя на птиц: «Птички Божии, птички радостные, простите и вы меня, потому что и перед вами я согрешил… Была такая Божия слава кругом меня: птички, деревья, луга, небеса, один я жил в позоре, один все бесчестил, а красы и славы не приметил вовсе» [Там же, с. 263]. Такое же чувство овладевает и странником Макаром Долгоруким в «Подростке»: «Во всем тайна Божия. В каждом дереве, в каждой былинке эта самая тайна заключена. Птичка ли малая поет, али звезды все сонмом на небе блещут в ночи <…>. Красота везде неизреченная!» [5, с. 287, 290].
Литературовед М. М. Дунаев высказал мнение о том, что Соколову-Мики-тову не удалось «совершить подлинное раскрытие глубинных религиозных процессов, совершавшихся в недрах народной жизни» [6, с. 197], что писатель был далек от пантеизма и христианства, «далек от религиозной постановки вопроса» о любви к родной земле, так как «переживал природу эстетически, но не религиозно» , «сочувствовал язычеству» [Там же, с. 194]. М. М. Дунаев не сближает, а противопоставляет Соколова-Микитова и Достоевского, отрицает связь образа старца Зо-симы с образом повествователя или лирического героя Соколова-Микитова [Там же, с. 192]. Впрочем, как справедливо пишет В. А. Редькин, в своем пространном труде этот известный литературовед-богослов «фактически отлучает от православной духовности почти всех русских классиков ХIХ и ХХ века» [12, с. 75], слишком прямолинейно истолковывает их произведения.
На самом деле почвенническая философия Достоевского, воплощенная в его произведениях, его творческая манера, несомненно, оказали влияние на Соко-лова-Микитова, на выбор тематики, сюжетов, на саму топику писателя. Вместе с тем его авторская позиция далека от дидактизма, учительности, назидательности, публицистической страстности, стиль этого последователя Достоевского оказался лишенным всякой чрезмерности и чрезвычайности, отмечен истинной гармонией, безупречным чувством меры в выборе красок, звуков, слов. У Соколова-Микитова абсолютный слух в области музыки русской речи.
Какова сущность художественного мира Соколова-Микитова? Это тот самый мир Божий, которым восхищаются герои Достоевского. Причем основу словесной ткани в текстах Соколова-Микитова составляют прежде всего положительные понятия, образы, концепты. Например, в цикле «На теплой земле» наиболее частотны следующие лексемы: солнце, радость, веселье, восторг, торжество, луч, свет, восход, детство, счастье, мед, медовый, медвяный, душистый, золотой, золотистый, чудесный, чистый, любоваться, радоваться, сиять, жить, оживать, приживаться, обживаться, оживлять. Нет слова «Бог», но понятие Бога и Божьего мира, безусловно, есть, а тайна Божия раскрывается перед читателем в каждом слове, в каждом описании птиц, деревьев, растений, животных, времен года.
Конечно, картина мира, созданная И. С. Соколовым-Микитовым, восходит не только к Достоевскому. Истоки ее связаны и с «Шестодневом» Василия Великого, и с поучением Владимира Мономаха, и с торжественным красноречием Кирилла Туровского («Слово на антипасху»), и с художественным миром А. П. Чехова («Свирель», «Агафья», «Святою ночью», «Леший», «Дядя Ваня»), и с романом Бунина «Жизнь Арсеньева», и многими другими произведениями русской литературы, объединенными так или иначе христианской натурфилософской проблематикой и религиозным чувством героев и авторов (об этой традиции см.: [8; 9; 10]).
Назовем еще один мотив, который указывает на тесное родство Соколо-ва-Микитова как писателя с Достоевским. Это мотив «земля и дети» (по названию главки «Дневника писателя»). Достоевский много размышлял о разрыве между городской, буржуазной, машинной цивилизацией и землей, национальной почвой, писал об опасности утраты национальной идентичности (например, уже 150 лет назад сделал наблюдение о том, что французы этнически и ментально перестали быть французами) и пришел к выводу: «По-моему, дети, настоящие то есть дети, то есть дети людей, должны родиться на земле, а не на мостовой. Можно жить потом на мостовой, но родиться и всходить нация, в огромном большинстве своем, должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут» [4, с. 81].
В записных книжках Соколова-Микитова, автора множества лирических страниц о детстве, сохранились мысли, близкие суждениям Достоевского о губительности «неволи душных городов»: «Вчера вышел по дороге на поле. Остано- вился потрясенный. <…> И вновь почувствовал себя по ту сторону жизни. Так же радостно кричали дергачи и тысячу, и десять тысяч лет назад, когда еще не было на земле мерзких вонючих и шумных человеческих городов. Не было войн и не было рабов и жестоких насилий. Я стоял, слушал дергача, и текли по щекам слезы» [2, с. 499]. Здесь явственно подчеркивается контраст между природой и плодами рук человеческих.
Как бы в ответ на размышления и роковые вопросы Достоевского (такова логика литературного развития, литературного процесса) Соколов-Микитов посвящает свое творчество изучению русской почвы, того русского начала, которое заложено в природе и отражается в национальном характере. Одним из ключевых в этом отношении является цикл «На теплой земле», где образ автора становится носителем сердечного тепла, любви к матери-земле, детского ликования и радости. «Русская идея» воплощается у Соколова-Микитова не в политической концептосфере, выражается не публицистическим языком, она раскрывается в жанрово-стилевом русле лирической прозы. Соколов-Микитов трансформирует почвеннические идеи Достоевского, предвосхищая одновременно такие литературные явления XX века, как «тихая лирика» и «деревенская проза».
Высокочастотным является у Соколова-Микитова эпитет «русский», который звучит ненавязчиво, естественно и просто: русский лес, русская природа, русские деревни, русские крестьяне, русские печи. Если персонаж Бунина рефлексирует: «…коснулось меня сознанье, что я русский и живу в России» («Жизнь Арсеньева»), то рассказчику у Соколова-Микитова не нужно понимать это – он испытывает непосредственное, живое чувство. Вот, например, о рябине сказано: «Есть что-то веселое, радостное, русское в этом деревце, которое всегда и всем улыбается»; о зиме: «Хороши, чисты русские снежные зимы», «Необыкновенны русская зима, яркие зимние дни, лунные светлые ночи!»; о природе в целом: «Наступает особенный торжественный час в русской природе. Как бы до самого неба распахнутся невидимые голубые ворота. Вместе с полой водой покажутся косяки пролетных птиц. От теплого юга до студеного моря, над всей обширной страною, будут слышны их весенние веселые голоса». Эпитет «русский» органически вплетается в ткань повествования и становится доминантой идиостиля писателя.
В данной статье представлен всего лишь один из возможных подходов к теме, которая в последнее время становится все чаще целью обширных, монографических научных исследований [1]. Творчество И. С. Соколова-Микитова действительно остается недооцененным литературоведами, не до конца изученным, его место и значение в русском литературном процессе еще должно уточняться, выявляться. Многие заявки сделаны, но не реализованы вполне. Так, например, требует детального рассмотрения вопрос о влиянии модернизма, и в частности А. М. Ремизова, на прозу И. С. Соколова-Микитова, не выявлены отличия принципов «природоведения» И. С. Соколова-Микитова от творческой манеры К. Паустовского, В. Бианки, М. Пришвина, хотя, казалось бы, их соотнесение стало общим местом. Проблема «духовного реализма» (см.: [11; 12; 13]) как творческого метода И. С. Соколова-Микитова давно ждет серьезного исследователя, и решать эту проблему мимоходом, в одном-двух абзацах, конечно же, нельзя, так же как нельзя принять точку зрения М. М. Дунаева об отсутствии у Соколова-Микитова религиозного чувства и о том, что писатель не имел возможности и потому не смог «дать эпическое осмысление событий в России третьего десятилетия XX века» [6, с. 197]. Рассмотрение творчества таких писателей, как И. С. Соколов-Микитов, в аспекте метода духовного реализма позволяет сделать вывод: «У ряда писателей главные ценности из мира внешнего, социального перемещаются во внутренний мир человека. Эти ценности не всегда доступны рациональному сознанию» [12, с. 76], и в произведениях И. С. Соколова-Микитова присутствует глубокий смысловой, духовно-нравственный подтекст. Их нельзя толковать рационалистично, понимать буквально.
Авторы новейшей книги о Соколове-Микитове [1] проделали большую работу: попытались, и небезуспешно, дать общую характеристику творческой эволюции И. С. Соколова-Микитова (прежде всего на уровне жанра и стиля), ввели в научный оборот новые интересные материалы и источники, дали оригинальную интерпретацию ряда произведений писателя, расшифровали многие литературные параллели и переклички, прокомментировали интертекстуальный слой. По сути дела, они попытались опровергнуть концепцию М. М. Дунаева об ограниченности и несостоятельности Соколова-Микитова как эпического художника и крупного мыслителя. Однако наследие Соколова-Микитова нуждается в дальнейшем изучении, в том числе в русле почвенничества Достоевского.
Список литературы На "большаке" русской литературы: Достоевский в творческом сознании И. С. Соколова-Микитова
- Василевская Ю. Л., Громова П. С., Косоурова Н. Р. Литературное наследие И. С. Соколова-Микитова: проблемы художественного метода и творческой эволюции: монография. Тверь: Издатель А. Н. Кондратьев, 2017. 259 с.
- Воспоминания об И. С. Соколове-Микитове. М.: Сов. писатель, 1984. 544 с.
- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 14: Братья Карамазовы. Л.: Наука, 1976. 510 с.
- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 23: Дневник писателя. Л.: Наука, 1981. 423 с.
- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 13: Подросток. Л.: Наука, 1975. 656 с.
- Дунаев М. М. Православие и русская литература: В 6 ч. Ч. VI. Кн. I. М.: Христианская литература, 2004. 512 с.
- Лакшин В. Я. «Я сам был Россия…»//Соколов-Микитов И.С. Возвращение. М.: Худож. лит., 2010. С. 714-736.
- Николаева С. Ю. Тема «оскудения» в русской литературе конца XIX -начала XX века и рассказ Л. Н. Толстого «Зерно с куриное яйцо»//Яснополянский сборник -2008. Тула: Изд. Дом «Ясная поляна», 2008. С. 145-163.
- Николаева С. Ю. Чехов и древнерусская культура. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2000. 168 с.
- Николаева С. Ю. «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского в творческом сознании А. П. Чехова//Славянская культура в Европе -история, настоящее и будущее: сб. материалов. М.: София: Академия медиаиндустрии, 2015. С. 158-163.
- Редькин В. А. Вячеслав Шишков: Новый взгляд. Тверь: ТОКЖИ, 1999. С. 36-82.
- Редькин В. А. Духовный реализм как художественный метод современной литературы//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 1. С. 71-78.
- Редькин В. А. Поэтическое Верхневолжье: Очерки тверской поэзии XX-XXI веков. Тверь: Волга, 2017. С. 47-54.
- Соколов-Микитов И. С. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. Л.: Худож. лит., 1987. 369 с.