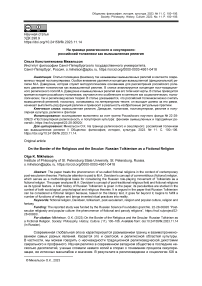На границе религиозного и секулярного: российский толкинизм как вымышленная религия
Автор: Михельсон О.К.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена феномену так называемых вымышленных религий в контексте современных теорий постсекуляризма. Особое внимание уделяется концепции вымышленной (фикциональной) религии М.А. Дэвидсена, которая служит методологическим основанием для рассмотрения российского ролевого движения толкинистов как вымышленной религии. В статье анализируется концепция пост-традиционного религиозного поля М.А. Дэвидсена и вымышленных религий как его типичной черты. В статье приводится краткая история российского толкинизма, изучаются его особенности в контексте как социологических, психологических, так и религиоведческих теорий. В статье доказывается, что российский толкинизм можно считать вымышленной религией, поскольку, основываясь на литературном тексте, он выходит далеко за его рамки, начинает выполнять ряд функций религии и привносит в реальность изобретенные ритуальные практики.
Вымышленная религия, дэвидсен, толкинизм, постсекуляризм, религия и популярная культура, религия и фэнтези
Короткий адрес: https://sciup.org/149144710
IDR: 149144710 | УДК: 298.9 | DOI: 10.24158/fik.2023.11.14
Текст научной статьи На границе религиозного и секулярного: российский толкинизм как вымышленная религия
Институт философии Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия, ,
Institute of Philosophy of St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, ,
для интерпретации современной религиозной ситуации преобладает концепция постсекуляризма (Узланер, 2020). Одна из особенностей постсекулярной эпохи – то, что, наряду с устоявшимися религиозными институтами, для современного мира характерен новый тип религиозного синкретизма. Он находит свое воплощение в религиозном бриколаже и «религиозном супермаркете», которые возникают как ответ на кризис так называемой традиционной религиозности. В частности, мы видим небывалую популярность восточных практик на Западе, а также включение популярной культуры в сферу религиозного. Эти процессы ведут к переосмыслению религии: возникает явление, которое было метко обозначено Хью Маклеодом как «вера в спасение через искусство, литературу и музыку» (McLeod, 2007: 25).
Одной из значимых черт постсекуляризма являются вымышленные религии. Очевидно, что любая дискуссия о религии, в том числе и о вымышленной, упирается в особенности интерпретации самого понятия «религия». Здесь хотелось бы процитировать Ч. Тейлора и заметить, что к счастью, как он замечает в «Секулярном веке», мы можем проявить интеллектуальное малодушие и убедиться, что нам и не требуется выдумывать такую дефиницию религии, которая охватывала бы все «религиозное» во все эпохи человеческой истории (Тейлор, 2017: 20). Если еще в конце XX в. в религиоведении практически не исследовались «религии» популярной культуры, то сейчас проводится разделение на исторические религии, которые существовали и существуют в реальности, и религии вымышленные, причем, последние, как мы могли заметить, обозначаются целым рядом терминов – «изобретенные» ( invented ) К. Кьюсака (Cusack, 2010), «гиперреальные» ( hyperreal ) А. Поcсамэ (Possamai, 2005), «неинституциональные» ( non-institutional ) М. Борга (Borg, 2008), наконец, «вымышленные» или «фикциональные» ( fictional ) М.А. Дэвидсена (Davidsen, 2013).
В данном исследовании российского толкинизма, как вымышленной религии, методологическим основанием послужит именно концепция фикциональной религии голландского религиоведа Маркуса Алтены Дэвидсена. Свою концепцию М.А. Дэвидсен базирует на теориях постсекуляризма и указывает, что для современного Запада характерно пост-традиционное религиозное поле, определяющееся тремя ключевыми процессами религии: детрадиционализацией, деинституционализацией, дедогматизацией. В результате этих процессов посттрадиционная религия не встроена в одну конкретную религиозную традицию, но характеризуется смешением элементов из различных религиозных традиций друг с другом и с материалом из других культурных источников, таких как художественные и научно-популярные произведения. Как таковая она включает в себя и формальные посттрадиционные организации (такие как Теософское общество), и посттрадиционную индивидуальную религию или духовность ( spirituality ).
Fictional religion, то есть религия, основанная на художественном вымысле, рассматривается им как подтип посттрадиционной религии (Davidsen, 2012: 48–95). Изначально М.А. Дэ-видсен предлагал различать религии, сконструированные в том или ином художественном произведении ( fictional ), и религии, основывающиеся на вымышленных религиях ( fiction-based ), но дальше уже функционирующие в реальной жизни. Это важное замечание, поскольку в популярной культуре мы видим великое множество изображений религии, они-то и являются исключительно вымышленными и не имеющими какого-то воздействия, кроме, разве что, сугубо косвенного, на реальную религиозную жизнь. Однако часть этих религий в результате начинает трансформировать реальную религиозность. Именно эти религии и называются М.А. Дэвидсеном fiction-based , то есть основывающимися на художественных нарративах, но далее функционирующими за их пределами. Для М.А. Дэвидсена, fiction-based религия – это религия, в которой художественные нарративы используются в качестве авторитетных текстов. При этом она «никогда не основывается исключительно на вымысле. Она также всегда опирается на устоявшиеся религиозные традиции». Религия, основанная на художественном вымысле, по М.А. Дэвидсону, включает оценку онтологического статуса, во-первых, сверхъестественных элементов в тех вымышленных повествованиях, которые используются в качестве авторитетных текстов, а во-вторых – сверхъестественных элементов, существование которых предполагается в религиозной практике, основанной на этих текстах (Davidsen, 2012: 34).
Позднее М.А. Дэвидсен усложнил свою концепцию, предложив тройственную классификацию основывающихся на вымысле ( fiction-based ) религий:
-
1) религии, вдохновленные художественными произведениями в широком смысле ( fiction-inspired) . В данном случае речь идет о религиозных явлениях, которые вдохновляются и поддерживаются художественной литературой, с которой они разделяют проблемы и идеи. Более того, произведения популярной культуры могут предлагать свои трактовки исторических религий, которые в дальнейшем воспринимаются в сообществах этих исторических религий;
-
2) религии, интегрирующие художественные произведения ( fiction ‐ integrating ). В данном случае интегрируются элементы веры из художественных нарративов, воспроизводятся вымыш-
- ленные в этих нарративах ритуалы и/ или адаптируются иные черты вымышленных в художественных произведениях религий. К этому подтипу можно отнести так называемое неоязычество или нативистские религии;
-
3) религии, основанные на художественных произведениях в узком смысле ( fiction ‐ based ). Они имеют общее с религиями, вдохновленными художественным вымыслом ( fiction-inspired ), т. е. элементы из художественного нарратива интегрируются в религиозную практику и верования реальных людей в реальном мире, например, путем присвоения онтологического статуса вымышленным существам или концепциям (таким как Сила из франшизы «Звездные войны»).
Особый научный интерес для М.А. Дэвидсена представляют именно вариации вымышленной религии, основанные на произведениях Дж.Р.Р. Толкина, поскольку фэндомам нидерландских толкинистов была посвящена диссертация религиоведа1. Вероятно, этим можно объяснить успешность методологии М.А. Дэвидсона для исследований различных сообществ, основанных на увлечении произведениями Дж.Р.Р. Толкина, в частности, отечественных сообществ так называемых ролевиков или толкинистов.
Перед тем как говорить о российском толкинизме, как варианте вымышленной религии, стоит кратко проследить историю популярности произведений Дж.Р.Р. Толкина в нашей стране. Впервые фрагментарно изданный в СССР в 1982 г., а неофициально – еще в 1960-е гг. (Борисов, 2002), «Властелин колец» стал ошеломляющим открытием для русскоязычного читателя, поскольку познакомил с совершенно новым жанром литературы – фэнтези. Мир, существующий по совсем другим законам, но при этом артикулирующий значимые вопросы и ценности, вызвал чрезвычайный интерес в среде советской образованной молодежи. Попытки самостоятельного перевода произведений Дж.Р.Р. Толкина способствовали созданию элитарного статуса этого увлечения и впоследствии формированию отдельной субкультуры – толкинизма.
Вероятно, из-за новины самого жанра фэнтези для советских читателей, легендариум Дж.Р.Р. Толкина – «Хоббит», «Властелин колец» и особенно «Сильмариллион» – мог настолько глубоко вовлекать некоторых поклонников, что начинал восприниматься как своеобразное откровение или даже пророчество, особенно в свете общественно-политических событий, происходящих в 80-е и 90-е годы. Сам Дж.Р.Р. Толкин выступал в качестве творца вселенной, что вполне соответствовало действительности, разве что, его вселенная была литературной. Ощущение общности с субкультурой толкинизма, а главное – возможность эмпирически «проживать» события в мире, созданном британским профессором – позволяли участникам ролевого движения ответить на вопросы самоидентификации, особенно остро стоявшие в момент кризиса и слома политической и государственной системы. Создание ролевых игр живого действия буквально переносило игроков в фэнтезийную вселенную Дж.Р.Р. Толкина, наполняя их жизнь новыми смыслами и содержанием. Но эмпирический опыт погружения в легендариум Дж.Р.Р. Толкина не просто позволил игрокам выступать действующими лицами истории Средиземья. Глубокое ощущение причастности к этому волшебному миру в результате также способствовало тому, что российские толкинисты, по примеру европейских, начали определять себя в качестве иных или азеркинов (от англ. otherkin ) (Kirby, 2014).
Стоит сказать, что феномен ролевых игр прямого действия, движений реконструкции и косплея (от англ. costume play – костюмированная игра) – одно из заметных явлений постсекулярной (или новой) религиозности. С момента своего появления ролевые игры и косплей оказались в центре внимания психологов (DeRenard, Kline, 1990; Fine, 1983; Douse, Manus, 1993; Hodkinson, 2002) и социологов2, на Западе ими также пристально интересовались некоторые теологи, видя в них «проявления сатанизма», «язычество» и даже опасность для христианства (Bromley, 1991). Большинство ученых, исследовавших ролевые игры живого действия, подчеркивают именно аспект эскапизма – уникальной возможности бегства от реальности, которые эти игры дают своим участникам. Так, австралийский социолог Д. Уолдрон писал: «Ролевые игры создают гибкий механизм открытия виртуальных миров, идентичностей, социальных структур, символов и культурных норм внутри общественной среды, отделенной и обособленной от повседневной жизни. Подобный потенциал рефлексивности, формирования идентичности, тесных уз социального взаимодействия и бегства от реальности, бесспорно, явился ключевым фактором популярности ролевых игр и их более поздних компьютерных и онлайн эквивалентов» (Waldron, 2005: 52).
Американский психолог Ш. Тёркл в изучении ролевых игр основывалась на концепции идентичности Э. Эриксона. Она отмечала, что участник ролевого движения «не столько играет роль, сколько «играет личность», поскольку, используя фантастические и внеземные персонажи, игроки могут создать достаточную психологическую дистанцию для того, чтобы в действительности поверить, что вышли за рамки собственной социально-культурной идентичности» (Turklе, 1995: 26). Действительно, у персонажа в игре есть имя, физические атрибуты и личность, отличная от собственной личности игрока. Соответственно, Ш. Тёркл закономерно отмечала возникающую таким образом у игроков возможность избежать культурных и социальных преград, существующих в реальности, и найти собственную идентичность в виртуальном игровом контексте.
Выглядящее как эскапизм и уход от внешних социальных проблем и исторического кризиса, развитие ролевых игр в постсоветском пространстве скорее определяло для молодых людей, лишенных возможности повлиять на реальность, желание стать действующими акторами сакральной истории, основанное на вере в существование «вторичных миров». Привлекательным было и разнообразие персонажей: маги, эльфы, хоббиты, гномы и другие виды существ, наделенные определенным набором устойчивых качеств и способностей, которые можно было соотнести с собственными или развить в процессе игры.
Определяющим для отечественного толкинизма стал литературный творческий импульс: помимо создания ролевых игр прямого действия заметным явлением были так называемые апокрифы – тексты, созданные внутри российского фэндома толкинистов. Один из наиболее известных – «Черная книга Арды» Н. Васильевой (Ниенна) и Н. Некрасовой (Иллет) (Васильева, Некрасова, 2008). Книга описывает события Арды – первых эпох легендариума Толкина – с точки зрения темных сил. Главными действующими лицами являются падший айну Мелькор, его сторонники и ученики. В каноническом варианте события сотворения мира описаны в книге «Сильма-риллион», сконцентрировавшей в себе всю мифологическую основу произведений Дж.Р.Р. Толкина. Эта мифология имеет синтетическую структуру, внутри которой присутствуют как дохристианские, так и христианские элементы. История антагониста Мелькора, взбунтовавшегося против Творца и низвергнутого за это, имеет очевидную параллель с историей Люцифера. В «Черной книге Арды» авторы предпринимают попытку свергнуть дуалистическую толкиновскую догматику и объяснить историю с точки зрения Мелькора. Частью толкинистов этот текст был воспринят как «апологетика тьмы» и как «ересь». Та же часть сообщества, которая оказалась восприимчива к яркому эмоциональному повествованию книги, сформировала самостоятельное течение внутри субкультуры, называемое «ниеннизмом».
Авторитет «Черной книги Арды» среди различных групп российских толкинистов подкреплялся утверждением ее авторов о том, что содержание книги явилось им в «откровении» и в реальном воспоминании об описанных событиях, которое они в результате воплотили в слове. С этим связан еще один феномен, распространенный среди различных фэндомов иных, а в случае отечественного толкинизма – получивший наименование «глюколовство» или «мироглядство». Внутри сообщества эти смежные термины разделяются. «Мироглядами» называют себя визионеры, якобы способные к отчетливому восприятию и детальному воспроизведению других миров, существующих параллельно нашему. Приведем цитату одного из «мироглядов»: «Мы выкладывали друг другу историю, географию и физику “изобретаемых” нами миров. Мы оба осознали, что по сути дела не столько “изобретаем”, сколько “открываем” их; поскольку в том же за тридцать лет до нас признался профессор Толкин, нас это мало смущало. А вот когда, изложив друг другу все, мы поняли, что описываем один и тот же мир, увиденный с разных сторон, – нас проняло. В течение нескольких лет мы совместно “открывали“ этот мир. Находясь далеко друг от друга, мы записывали наши “открытия”, и все сходилось воедино до последней черточки. Более того: сверяя и сравнивая нашу информацию, мы постепенно обнаруживали скрытые в ней планы, законы и явления, о которых мы не подозревали. Эти прозрения превратились из одиночных в постоянные»1. Под «глюколовством» понимается некая индивидуальная память об ином или даже «истинном» воплощении в мире, описываемом Дж.Р.Р. Толкиным, которая определяет поведение человека внутри сообщества. Фраза «я помню себя там» становится часто употребляемой, что фиксирует твердую веру в существование иного мира и ощущение себя причастным именно к нему.
Так как ролевые игры зачастую были командными, то внутри российского толкинизма довольно быстро сложилась традиция формирования узких групп, где под руководством капитана собирались люди, наиболее соответствующие друг другу по мировоззрению, интересам и навыкам. Эти группы именовались по-разному: команды, стаи, дома, кланы и т. д. Внутри этих групп выстраивалась особая иерархия и психоэмоциональные связи (часто основанные как раз на «глюколовстве» и взаимных «воспоминаниях» друг о друге в ином мире).
В этом контексте важное значение у групп отечественных толкинистов придается именам и «ритуалу наречения». Имя можно получить в ходе игры (если отыгрываемый персонаж выглядел объективно реалистично), можно получить некое прозвище в среде толкинистов, но также можно быть нареченным – получить имя от какого-либо авторитетного участника движения или лидера группы, который становится для нарекаемого «крестным». Нередко имя может явиться в уже упомянутых «глюках», как кому-то стороннему, так и самому нарекаемому. Имена, зачастую эльфийские, проходят этап расшифровки и одобрения. Если соответствие имени спорно или же человек берет себе имя одного из центральных персонажей мира Толкина, он должен пройти процедуру «защиты имени», доказав свое право его носить. «Всегда есть причина, по которой человеку дается то или иное имя: по возникающему образу, по ассоциации, по знаку... Бывает и так, что человек потом теряет имя по тем или иным причинам»1. В среде упомянутых ниеннистов (и особенно «глю-коловов») имени придается определяющее значение. Сама Ниенна пишет: «И когда находишь, обретаешь свое имя, вспоминая себя – твое когда-то существовавшее “я” врастает в тебя… если бы вы знали, как это больно – помнить свои рождения-смерти-рождения, как больно это вспоминать, как страшно – и как не веришь себе, уже осознавая, что это и есть ты, что этот человек был тобой, а ты, единожды – вспомнив, будешь нести в себе теперь обретенный, бережно хранимый отпечаток того “я”»2. Наречение именем – это признание участника «своим» в сообществе. Обретя имя, участник обретает и новую «истинную» идентичность, ощущает свою причастность к миру иных.
Отечественными группами толкинистов проводилась и ритуализация своих практик, часто не сводящаяся к толкиновскому канону, а основанная на так называемых апокрифах или вообще иных обрядах, и вдохновленная богатой мировой историей религии и эзотеризма. Как вспоминает одна из активных участниц движения толкинистов Любелия: «Ниеннизм (независимо от воли и желания самой Ниенны) начинает превращаться в религию. Причем – сколько бы ни твердили, что это не так, – в религию с отчетливо сатанинским оттенком. Эдакий суррогат христианства, дублирующий и искажающий большинство догматов, – об искуплении, о двух природах Христа – и добавляющий некоторые установки, общие для “нью-эйджевских учений”, – реинкарнация, отсутствие принципиальных отличий между человеком и Богом»3. Заимствование религиозных или спиритуалистических практик восполняло существующую в текстах Дж.Р.Р. Толкина лакуну в описании ритуалов. В отсутствие прямых регламентаций в легендариуме Дж.Р.Р. Толкина начинался интуитивный поиск подходящих элементов ритуально-обрядовой деятельности в широком религиозном поле, их смешение и наложение на мир, описанный им.
Если обратиться к терминологии, используемой участниками отечественного ролевого движения, мы увидим значительное количество лексики, традиционно присущей описаниям религиозной сферы. В частности, Л. Бочарова, российский «мастер» ролевых игр, отмечала: «У нашего ролевого движения, как и у всех человеческих ролевых игр, один отец и одна мать – Время и Книга. И одна цель – сдвинуть Время и воплотить Книгу»4 (авторская орфография и пунктуация сохранены). Развивая свою мысль, Л. Бочарова указывала: «Доминирующим текстом был Толкиен, который осмыслялся как Писание (в двух заветах: Ветхий – Сильмариллион и Новый – Властелин колец)»5. В этих словах Л. Бочаровой мы можем проследить сходство российского толкинизма с феноменом «текстуального сообщества», описанного Б. Стоком (Stock, 1983). Последним исследователь называет социальную группу, которая возникает и развивается вокруг интерпретации определенного текста.
Бесспорно, будет неверным утверждать, что увлечение ролевыми играми однозначно сродни религиозности. Большинство участников ролевого движения рассматривают его как интересное хобби, сближающее с природой (сродни увлечению турпоходами) и добавляющее игровой элемент в жизнь. Однако нередко в ролевом движении встречаются элементы, выходящие за рамки игры: например, игровая смена пола (если этого требует роль) распространяется на повседневную жизнь6, вера в возможность иных воплощений и предшествующих жизней в иных мирах, а также в воспоминания об этой жизни, в частности, способность «вспомнить» свое «истинное имя»7. В связи с этим совершенно закономерно рассматривать увлечение ролевыми играми прямого действия в целом, и российский толкинизм, в частности, как варианты вымышленной религии.
Перефразируя теорию П. Лукмана о первичных поддерживающих институтах, к которым социолог относил религию (Luckmann, 1967), можно сказать, что человек как homo ludens , т. е. человек играющий, в качестве вторичных поддерживающих институтов, находит новые формы религиозного в ритуализации повседневности и, конечно, в игре. При этом невероятные современные технологии компьютерных игр RPG ( role playing games ) не вытесняют обычные ролевые игры прямого действия, напротив, популярность такого феномена, как косплей, дает последним новое дыхание. Функционально эти игры способны подменять религию, выполняя компенсаторную функцию, поскольку мало что может так успешно удовлетворить стремление к эскапизму, как чудеса виртуальной реальности, будь то описанные в книгах, просмотренные на экране, разыгранные во плоти или с помощью джойстика. В результате популярная культура генерирует различные формы неинституциональных вымышленных религий, которые начинают жить своей жизнью и формируют новую религиозность.
В заключение следует подчеркнуть, что российский толкинизм, исследованный на основании методологии М.А. Дэвидсена, выступает как вымышленная религия, основанная на художественной литературе ( fiction-based ). При этом стоит отдельно отметить, что поскольку это движение нарративо-центрично, его участники, в отсутствие достаточного количества текстов, необходимых для «разыгрывания» толкиновского легендариума, написанных самим британским профессором, создавали свои так называемые «апокрифы», позволявшие восполнять эти лакуны. Таким образом можно утверждать, что отечественный толкинизм стоит рассматривать как подтип посттрадиционной религии, свойственной современному постсекулярному миру. Представители движения российских толкинистов не просто изображали события произведений Дж.Р.Р. Толкина, но значительно расширили вселенную писателя, обогатив ее как текстами, созданными участниками российского движения толкинистов, так и ритуалами, постепенно развитыми в их среде. В результате можно сказать, что отечественный толкинизм имеет все черты вымышленной религии: основываясь на литературном тексте, он выходит далеко за его рамки, начинает выполнять ряд функций религии и привносит в реальность изобретенные ритуальные практики.
Список литературы На границе религиозного и секулярного: российский толкинизм как вымышленная религия
- Борисов В. Предначальный мир // Если. 2002. № 3. С. 12-19.
- Васильева Н., Некрасова Н. Черная книга Арды. СПб., 2022. 768 с.
- Тейлор Ч. Секулярный век / пер. с англ. А. Васильева, Л. Колкера, А. Лукьянова. М., 2017. 967 с.
- Узланер Д. Постсекулярный поворот. Как мыслить о религии в XXI веке. М., 2020. 410 с.
- Borg M.B. ter. Non-institutional Religion in Modern Society // Implicit Religion. 2008. Vol. 11, no. 2. Pp. 127-141. https://doi.org/10.1558/imre.v11 i2.127.
- Bromley D. The Satanic Cult Scare // Culture and Society. 1991. Vol. 28, no. 5. Pp. 55-66. https://doi.org/10.1007/BF02695610.
- Cusack C.M. Invented Religions: Faith, Fiction, Imagination. Surrey, Burlington, 2010. 179 p.
- Davidsen M.A. Fiction-based Religion: Conceptualising a New Category against History-Based Religion and Fandom // Culture and Religion. 2013. Vol. 14, no. 4. Pp. 378-395. https://doi.org/10.1080/14755610.2013.838798.
- Davidsen M.A. The Spiritual Milieu Based on J.R.R. Tolkien's Literary Mythology // Handbook of Hyper-real Religions / ed. by A. Possamai. Boston, 2012. Pp. 185-204. https://doi.org/10.1163/9789004226944_011.
- DeRenard L., Kline L. Alienation and the Game Dungeons and Dragons // Psychological Reports. 1990. No. 66. Pp. 12191222. https://doi .org/10.2466/pr0.1990.66.3c. 1219.
- Douse N., Manus I.C. The Personality of Fantasy Gamers // British Journal of Psychology. 1993. No. 84. Pp. 505-509. https://doi.org/10.1111/J.2044-8295.1993.TB02498.X.
- Fine G. Shared Fantasy Role Playing Games as Social Worlds. Chicago, 1983. 308 p.
- Hodkinson P. Goth: Identity Style and Subculture. Oxford, 2002. 289 p.
- Kirby D. Fantasy and Belief: Alternative Religions, Popular Narratives and Digital Cultures. London; New York. 2014. 194 p.
- Luckmann T. The Invisible Religion. The Problem of Religion in a Modern Society. New York, 1967. 127 p.
- McLeod H. The Religious Crisis of the 1960-s. Oxford, 2007. 300 p.
- Possamai A. Religion and Popular Culture: A Hyper-Real Testament. Brussels, 2005. 176 p.
- Stock B. The Implications of Literacy: Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries. Princeton, 1983. 604 p.
- Turkle Sh. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York, 1995. 277 p.
- Waldron D. Role-Playing Games and the Christian Right: Community Formation in Response to a Moral Panic // The Journal of Religion and Popular Culture. 2005. No. 9. Pp. 50-78. https://doi.org/10.3138/jrpc.9.1.003.