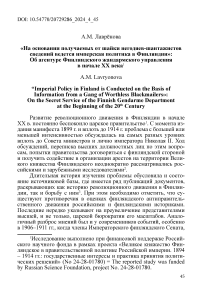"На основании получаемых от шайки негодяев-шантажистов сведений ведется имперская политика в Финляндии": об агентуре Финляндского жандармского управления в начале XX века
Автор: Лаврнова А.М.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 4 (82), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые в российской исторической науке реконструируется история и оценивается опыт агентурной работы сотрудников Финляндского жандармского управления на территории Великого княжества Финляндского. Источниковой базой исследования послужили неизвестные ранее документы Департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи, Штаба Отдельного корпуса жандармов и Финляндского жандармского управления, которые хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. Особое внимание уделяется неизвестной ранее деятельности временных учреждений политического розыска, созданных на территории Великого княжества Финляндского, - Выборгского охранного отделения и Финляндской розыскной агентуры. Проанализированы численность и качество секретной агентуры Финляндского жандармского управления, содержание донесений начальников Финляндского жандармского управления в Департамент полиции и реакция директоров Департамента полиции на сообщаемые им сведения о революционном движении в Финляндии. Оцениваются внутриведомственные претензии и обвинения в адрес Финляндского жандармского управления в непрофессионализме, подлогах и фальсификации агентурных данных. Делается вывод, что в начале XX в. деятельность начальников Финляндского жандармского управления привела, за редким исключением, к полному краху агентурной работы и стала причиной формирования индустрии фальсификаций сообщений секретных сотрудников. В контексте планирования правительственных мероприятий в Финляндии информация, исходившая от жандармов, служивших на финляндской территории, была не только бесполезна, но даже вредна, поскольку базировалась на вымышленных данных.
Департамент полиции, отдельный корпус жандармов, охранное отделение, политическая полиция, жандармский офицер, бюрократия, агентура, политические настроения
Короткий адрес: https://sciup.org/149146728
IDR: 149146728 | DOI: 10.54770/20729286_2024_4_45
Текст научной статьи "На основании получаемых от шайки негодяев-шантажистов сведений ведется имперская политика в Финляндии": об агентуре Финляндского жандармского управления в начале XX века
“Imperial Policy in Finland is Conducted on the Basis of Information from a Gang of Worthless Blackmailers»:
On the Secret Service of the Finnish Gendarme Department at the Beginning of the 20th Century
Развитие революционного движения в Финляндии в начале ХХ в. постоянно беспокоило царское правительство1. С момента издания манифеста 1899 г. и вплоть до 1914 г. проблема с большей или меньшей интенсивностью обсуждалась на самых разных уровнях вплоть до Совета министров и лично императора Николая II. Ход обсуждений, переписка высших должностных лиц по этим вопросам, попытки правительства договориться с финляндской стороной и получить содействие в организации арестов на территории Великого княжества Финляндского неоднократно рассматривались российскими и зарубежными исследователями2.
Длительная история изучения проблемы обусловила и состояние источниковой базы, где имеется ряд публикаций документов, раскрывающих как историю революционного движения в Финляндии, так и борьбу с ним3. При этом необходимо отметить, что существуют противоречия в оценках финляндского антиправительственного движения российскими и финляндскими историками. Последние нередко указывают на преувеличение представителями высшей, и не только, царской бюрократии его масштабов. Аналогичный разброс мнений был и у современников событий, особенно в 1906–1911 гг., когда члены Императорского финляндского Сената, министр статс-секретарь по делам Великого княжества указывали российской стороне на преувеличение масштабов антиправительственного движения и отсутствие реальной опасности для российской стороны4. Напротив, П.А. Столыпин подчеркивал, что «русским властям приходится считаться уже с наличностью широкой системы революционных и террористических организаций, беспрепятственно устроившихся в Финляндии»5. Очевидно, что такая позиция основывалась на соответствующих данных, но при этом нет ответа на вопрос о качестве и содержании информации, которой располагали в официальном Петербурге, разрабатывая решения и меры противодействия революционному движению в Финляндии.
* * *
Предполагалось, что наблюдение за политическими преступлениями и антиправительственной деятельностью на территории Великого княжества в рассматриваемый период должно было осуществлять Финляндское жандармское управление (ФЖУ), созданное в числе прочих управлений в ходе реформы органов жандармского надзора в 1867 г. Однако сапог русского жандарма впервые вступил на финскую землю еще задолго до того, как жандармский мундир обрел свой зловещий ореол: первые жандармские команды появились на территории Финляндии (в гг. Куопио и Выборге) тогда же, когда и во всей империи – в 1817 г. С учреждением должности Шефа жандармов и образованием жандармских округов в 1826– 1827 гг. Великое княжество Финляндское было отнесено к I округу с центром в столице, а квартира финляндского штаб-офицера помещена в Гельсингфорс.
Инструкциями 1827 и 1867 гг. формально никаких ограничений полномочий жандармских чинов на территории Финляндии не устанавливалось, однако закон 19 мая 1871 г., согласно которому производство всех дознаний по государственным преступлениям возлагалось на жандармов, входил в противоречие с законами Финляндии и потому на ее территорию не распространялся. Это серьезно ослабляло позиции чинов политической полиции, но все дальнейшие попытки качественно изменить нормативно-правовую базу деятельности синих мундиров на финской земле существенного успеха не имели. Помимо иноязычной среды и шаткого правового положения, политический сыск в этом крае был осложнен тем, что здесь у него не было ни социальной, ни административной опоры, и даже наружное наблюдение в силу местных условий (масса островов и водных путей сообщения, разбросанность и изолированность жилья) являлось делом опасным и трудозатратным.
А между тем к началу XX в. территория Великого княжества Финляндского сделалась постоянным убежищем русских революционеров всех мастей, которые оттуда руководили агитацией и подготовкой террористических актов по всей империи. При наличии широкой системы революционных и террористических организаций, беспрепятственно устроившихся в нескольких верстах от Петербурга, а также невозможности применения открытых полицейских мер, одним из немногих средств в руках защитников государства являлась агентура. Однако приобретение ее в отсутствие благоприятной обстановки, создаваемой обыкновенно следственными действиями – в Финляндии для чинов русской политической полиции недоступными, – было затруднено.
До начала XX в. говорить о систематической агентурной работе не приходится, и даже учреждение охранного отделения в Выборге, никак не изменило ситуацию. Выборгское охранное отделение (ОО), оказавшееся сколь малоэффективным, столь и недолговечным, было создано 5 марта 1903 г. и закрыто уже 27 ноября 1904 г. На содержание отделения и расходы по розыску ежегодно отпускалось 12 710 руб. Начальником его состоял причисленный к Министерству внутренних дел коллежский секретарь Петр Ильич Борисов, ранее служивший Чериковским уездным исправником в Могилевской губернии6. Борисов так описывал обстановку, которую ему пришлось лицезреть на новом месте службы: «Чины Отдельного корпуса жандармов в Финляндии никакими правами не пользуются; бывали случаи, что их официальные требования финляндскими присутственными местами не исполнялись только потому, что не были оплачены листовым сбором, установленным для частных просителей»7.
За время своего существования Выборгское ОО самостоятельной розыскной деятельности почти не вело, а оказывало содействие чинам Летучего отряда Департамента полиции и С.-Петербургского охранного отделения. В распоряжении Борисова состояло восемь агентов наружного наблюдения8. В записке полицейского чиновника Л.П. Меньщикова (который впоследствии переметнется на сторону противника и станет разоблачителем своих бывших коллег и одним из главных информаторов В.Л. Бурцева) упоминается, будто у Борисова был единственный агент фотограф Харф, которого тот, в конце концов, сам прогнал за пьянство9. Однако в ведомости Выборгского охранного отделения на выдачу денежных пособий личному составу к Пасхе 1904 г. значится четыре секретных сотрудника: Эмиль Харф, Франц Лайне, Василий Левошка и некто Нюгольм10. Впрочем, Борисов и сам признавал, что хорошей агентурой не обладает, и жаловался, что столичное охранное отделение активно ведет свои дела в Финляндии, не считаясь с ним, а добытыми сведениями не делится11.
Результаты работы Выборгского ОО ограничились задержанием нескольких транспортов нелегальной литературы, из-за чего ему сперва было решено сократить штат12, но с отъездом из Финляндии Борисова отделение решено было и вовсе упразднить. Последним делом Выборгского ОО стала ликвидация «Комитета пролетари-ев»13. Борисов, как гражданский чиновник, причисленный к Министерству внутренних дел, но не занимавший штатных должностей, по закону, по истечении года терял права государственной службы14. Это обстоятельство заставило его искать нового назначения, которое состоялось 2 ноября 1904 г., когда он получил должность Сен-ненского уездного исправника и распрощался с Финляндией15.
Вместе с тем необходимость приобретения секретных сотрудников на финской земле была очевидна даже тем чинам полиции, которые не соприкасались с политическим сыском напрямую. 5 января 1903 г. Гельсингфорсский полицмейстер писал: «…При нормальных условиях течения общественной жизни, может быть, и можно было бы обойтись без тайных агентов, … но в настоящее время необходима в стране политическая полиция, агенты которой должны быть абсолютно скрыты от взоров общества»16. Тем более не могли этого не осознавать те, кого этот вопрос касался непосредственно. Так, целесообразность организации внутреннего освещения революционных происков в Финляндии сознавалась директором Департамента полиции МВД А.А. Лопухиным, на необходимость скорейшего устроения этого дела настойчиво указывал и помощник финляндского генерал-губернатора В.Ф. Дейтрих17. Кое-какие действия в этой сфере были предприняты летом 1904 г. жандармским подполковником А.Ф. Шределем, командированным к Гельсингфорс, однако его миссия ограничивалась участием в расследовании обстоятельств, связанных с убийством генерал-губернатора Н.И. Бобрикова18.
Следует отметить, что начальнику ФЖУ вплоть до 1904 г. по распоряжению Департамента полиции отпускалось на приобретение секретных сотрудников по 3 000 руб. В 1904 и 1905 гг. ФЖУ предоставлялся кредит из финляндской казны, но с 1 января 1906 г. он был отменен. «Этих средств едва хватало на внутреннюю агентуру, когда чины управления имели твердые устои в отдельных жандармских и унтер-офицерских пунктах в 22 городах Финляндии, – жаловался начальник ФЖУ Ю.Э. Фрейберг, – но в настоящее время, … подобная сумма будет далеко недостаточна, тем более, что вся местная администрация, начиная от сената и до последнего полицейского, таможенного досмотрщика и линейного сторожа на железной дороге, враждебно настроенная против русского правитель- ства, не только не будет содействовать мероприятиям его, а прямо им противодействовать»19.
В начале января 1906 г. Фрейберг возбудил ходатайство об отпуске средств, однако в Департаменте полиции было решено испробовать другой способ обеспечить агентурное освещение, а затем Фрейберг был и вовсе заменен подполковником Н.М. Яковлевым – вопрос о выделении средств ФЖУ был временно отложен20. Альтернативным способом решения проблемы стало учреждение в январе 1906 г. розыскной агентуры под руководством старшего помощника делопроизводителя Департамента полиции титулярного советника Л.П. Меньщикова. Непосредственным поводом к созданию розыскной агентуры стало прямое указание председателя Совета министров С.Ю. Витте, ставшее откликом на соответствующие просьбы со стороны финляндского генерал-губернатора Н.Н. Герарда. Последний в своих представлениях премьеру высказался за установление в Финляндии «особого секретного наблюдения при посредстве имперских органов полицейской власти»21. 22 декабря 1905 г. в письме к министру внутренних дел П.Н. Дурново Витте кратко, но емко поделился своим видением проблемы организации борьбы с противоправительственными силами в Финляндии:
«1) […]Покуда положение для революционеров останется в Финляндии прежним, борьба будет крайне затруднительна и всегда будет возможность ожидать сюрпризов.
-
2) Жандармская полиция (по крайней мере, форменная) не может принести пользу – а скорее вред.
-
3) Необходимо устроить в Финляндии агентуру – как это было и, кажется, ныне устроено в некоторых заграничных государствах (как было устроено в Париже Рачковским).
-
4) Наши агенты не должны вмешиваться в финляндские дела – не должны касаться финляндцев. Только в таком случае можно ожидать содействия финляндских властей – т.е. арестования наших революционеров и препровождения их до нашей границы»22.
Выбор кандидатуры руководителя объяснялся тем, что Мень-щиков уже был несколько знаком с положением дел в Финляндии: летом 1904 г. он был так же, как и Шредель, был командирован туда по делу об убийстве Бобрикова, а затем – по делу ограбления отделения Государственного банка в Гельсингфорсе. Сам Меньщиков в 1913 г. писал: «Назначение мое в Финляндию не имело серьезного характера. Высшее начальство знало, что для организации розыска в Финляндии, мое пребывание там бесполезно, так как я местных языков совершенно не знал. … Для министра внутренних дел это назначение было лишь средством удаления меня, под благовидным предлогом, из Петербурга»23. (Дело в том, что Меньщикова небеспочвенно подозревали в посылке эсерам анонимной записки, разоблачающей секретных сотрудников Е.Ф. Азефа и Н.Ю. Татарова). Таким образом, финляндскую агентуру возглавил человек, совершавший последние приготовления для перемены лагеря.
Расходы вновь учрежденной Финляндской розыскной агентуры были определены в 6200 руб. в год, местопребывание начальника – его собственная дача на ст. Куоккала, где Меньщиков жил уже два года и являлся собственником земельного участка, что вызывало бы менее всего подозрений среди местных обывателей24.
Войдя в курс дела, Меньщиков разразился потоком беспощадной критики в адрес ФЖУ25. Диагноз его предшественникам на ниве организации агентуры был неутешителен: «ничего существенного не сделало и теперь, в силу общих политических причин, атрофи-ровалось»26. Оказалось, что, несмотря на ассигновавшиеся ранее суммы, в распоряжении Фрейберга никакой сколько-нибудь ценной секретной агентуры не имелось, не считая двух-трех лиц нравственно неблагонадежных27. В официальных донесениях подобное положение дел новый глава розыскной агентуры был склонен объяснять «строгой официальностью», в рамках которой приходилось существовать ФЖУ, которое в осуществлении своих розыскных функций жило исключительно содействием общей администрации. Так, единственный агентурный источник в г. Стокгольме, которым располагал генерал Фрейберг (некто Ройне), был приобретен благодаря бывшему Нюландскому губернатору, а затем Московскому градоначальнику генерал-майору А.А. Рейнботу28.
После перемены лагеря Меньщиков и вовсе не щадил мрачных красок. Еще в ходе своей работы в Финляндии он обратил внимание Департамента полиции на недобросовестную деятельность агента жандармского ротмистра В.С. Лявданского «Финна», железнодорожного служащего, изготавливавшего фальшивые воззвания от имени Союза «Войма». Впоследствии своими наблюдениями и умозаключениями Меньщиков щедро поделился с общественностью в ходе разбирательства по делу Союза «Войма» в Абосском гофге-рихте в сентябре 1913 г29. В фонде Меньщикова в ГА РФ (Ф. 1723) хранится записка, датированная 5 сентября 1913 г.30, легшая в основу его свидетельских показаний на процессе, растиражированных прессой, и помещенная им год спустя в книге «Русский политический сыск за границей»31. Меньщиков публично обвинил Лявдан-ского в провокаторских действиях, выразившихся в предоставлении редакции газеты «Новое время» ложных сведений, полученных от недобросовестного агента, и попытках тем самым оказать влияние на общественное мнение32. («Листки эти сочинялись не затем, чтобы поднять финляндцев против русских, а затем, чтобы восстановить русских против финляндцев»33). Как показало будущее, откровения Меньщикова стоили Лявданскому душевного здоровья34.
К слову, на тот момент это было уже не первое громкое разбирательство, в котором фигурировало имя Лявданского. Еще весной 1907 г. Лявданский и переводчик ФЖУ коллежский регистратор Николай Генрихович Хейкель были вызваны в Гельсингфорский рат-гаузский суд для дачи показаний по делу Иогана Хегдаля35. Хегдаль был арестован финской полицией по подозрению в совершении крупной кражи, но при обыске обнаружились сфабрикованные им и предназначенные к последующей продаже жандармам заметки о поставках различного оружия, и в том числе партии в 9 тысяч браунингов, совершаемые, якобы, по распоряжению финского политического деятеля Конни Циллиакуса. У переводчика Хейкеля, который непосредственно общался с подозреваемым, был произведен обыск. Вышел большой скандал: впервые в Финляндии местными властями был обыскан чиновник жандармского управления36.
Примечательна также характеристика Вячеслава Степановича Лявданского, которую Меньщиков поместил в черновике записки, но затем вычеркнул, посчитав излишним публиковать: «Как человек ротмистр Лявданский производил на меня впечатление субъекта болезненного, желчного и не особенно далекого в умственном отношении. Финляндцев он ненавидел не только по долгу службы, но и “за совесть”. В данном случае проявлялось, видимо, глубокое, накопившееся годами раздражение болезненного самолюбия амбициозного жандармского офицера, сознававшего свою полную бесполезность и чувствовавшего презрение, с которым относится к “синим мундирам” общество не только в Финляндии, но и в России»37.
Кроме того, Меньщиков утверждал, что случай с «Финном» не был чем-то уникальным, так как ФЖУ «принуждено было пользоваться в качестве агентурных сведений газетными и обывательскими сплетнями, вздорными слухами, которые улавливали невежественные жанд[армские] унт[ер]-офицеры, и лживыми доносами немногочисленных “осведомителей” – людей, большею частью весьма низкой нравственности». Также Меньщиков указывал на «любимое занятие» финских жандармов – сообщать в Департамент полиции массу тенденциозно подобранных вырезок из периодических изданий, выходивших за границей, содержащих не конкретные данные, а бессодержательные и фантастичные слухи о провозе массы оружия, военных приготовлениях и т.д.38 Обращая внимание на лживость некоторых донесений ФЖУ, Меньщиков объяснял ее «характером тех агентурных источников, из которых оно черпало материал»39. Впрочем, по его словам, в Департаменте полиции донесениям ФЖУ не доверяли и никаких особенных мер по ним не предпринимали40.
Примечательно, что за исключением уничижительных эпитетов в адрес работы ФЖУ, между донесениями Меньщикова-чинов-ника и излияниями Меньщикова-разоблачителя практически нет разницы. Так, еще 7 марта 1906 г. касательно нелегального ввоза в Финляндию оружия и боеприпасов он писал, что таковой, несомненно, существует, но «производится не в таких размерах, как принято думать»41. В то же самое время он указывал на провокаторский и шантажистский характер агентуры ФЖУ42.
В 1913 г. беглый полицейский чиновник, по понятным соображениям, был склонен преуменьшать масштаб своей розыскной деятельности. Так, он утверждал, будто занимался только семьей и дачей, а его филеры – пьянством, и писал лишь о двух агентах – прапорщике Конраде Шуберте и еврее Борисе Зайде, чьи донесения он, якобы, даже не отправлял в Департамент полиции, настолько они были бессодержательны43. Однако это заявление не вполне соответствует действительности. Сообщения Меньщикова в Департамент полиции носили хоть и поверхностный, но достаточно систематический характер44. Он обнаружил в Гельсингфорсе террористку 3.В. Коноплянникову и передал наблюдение за ней столичной охран-ке45. Согласно документам Департамента полиции, на июль 1906 г. в распоряжении Меньщикова было 5 наблюдательных агентов (трое в Выборге, двое в Гельсингфорсе), четыре секретных сотрудника: «Карпинен» (Выборг), «Югансон» (Гельсингфорс), «Чайковский» (Вильманстранд) и «Хлебников» (Териоки), каждый из которых получал по 50 руб. в месяц. Был еще и шестой – «Минаев», но он выбыл по непригодности46.
Как это часто бывает, когда несколько органов на одной территории занимаются одним и тем же делом, работа Меньщикова и местных жандармов не обходилась без казусов. Так, агенты Мень-щикова, освещавшие делегатский съезд учителей и деятелей низшей школы, проходивший в июне 1906 г. в финскому лесу, сообщили о поимке участниками съезда переодетого вахмистра Растворова, командированного начальником Выборгской крепостной жандармской команды. Растворов не нашел ничего лучше, чем спрятаться в кустах возле народного дома, в котором проходили собрания. Когда его заметили, он попытался выдать себя за делегата от тверской группы, но был вскоре опознан и заперт на чердаке на два дня, затем его перевели в сарай, откуда он по окончании съезда бежал. Сидя под замком, Растворов, опасаясь расправы, плакал и умолял его пощадить, говоря, что служит лишь ради семьи, чем растрогал женщин-делегаток, которые не дали пленника в обиду своим товарищам, желавшим его «поучить». Вскоре настороженные участники съезда обнаружили еще одного переодетого визитера – унтер-офи- цера Сильта, подчиненного ротмистра Н.И. Кунакова, – но он вовремя заметил косые взгляды и поспешил убраться47. Инциденты с жандармами серьезно подпортили условия наблюдения соглядатаям Меньщикова.
13 июля 1906 г. новый директор Департамента полиции М.И. Трусевич, не питавший к Меньщикову доверия, спустя месяц после своего воцарения на Фонтанке, распорядился закрыть финляндскую агентуру. Меньщиков был вызван в Петербург48, где ему было предложено сдать средства, получаемые на агентуру, начальнику ФЖУ и в С.-Петербургское охранное отделение, а всех филеров передать в распоряжение столичной охранки. Официально упразднение финляндской розыскной агентуры последовало 1 августа 1906 г49. После этого руководство розыском в Финляндии было сосредоточено в С.-Петербургском охранном отделении, которое время от времени посылало в Выборг и Гельсингфорс своих чинов (Ивана Васильевича Доброскока, титулярного советника Ивана Клементьевича Ксензенко50, отставного младшего чиновника для поручений С.-Петербургского ОО губернского секретаря Георгия Никитича Сачкова51).
Несмотря на то, что деятельность крупных партий освещалась секретными сотрудниками ведущих охранных отделений, а также Заграничной агентуры Департамента полиции, обстановка все же требовала, чтобы действия представителей противоправительственных сил, как из русского населения, так и уроженцев княжества, освещались и агентами местных жандармских органов. Вот только ситуация с агентурой в ФЖУ оставалась стабильно неудовлетворительной, и замена Фрейберга на Яковлева, а Яковлева на Утгофа положительного влияния на нее не оказала.
Перед тем как попасть в Финляндию, Николай Михайлович Яковлев заведовал Шлиссельбургским жандармским управлением и нес службу по охране выдающихся государственных преступников, заточенных на Ореховом острове. Шлиссельбургский завхоз, ротмистр В.В. Парфёнов в своих воспоминаниях охарактеризовал его так: «Яковлев, как человек, был не злой, большой домосед, кулинар, и, конечно, лентяй, главной страстью его было собирание осенью грибов и настаивание наливок»52.
Осенью 1907 г. полковник Яковлев, ссылаясь на сведения, полученные от секретного сотрудника, в деталях описывал приготовления к большому вооруженному восстанию. Поперек этого донесения красуется резолюция Трусевича: «Удивительный вздор. Надо обратить внимание Яковлева на то, как его морочит этот со-трудник»53. Когда Яковлев продолжил бомбардировать Департамент полиции аналогичными донесениями, на очередном таком Трусе- вич написал: «…думаю, что Яковлева надо заменить»54. Донесения Лявданского с грозными предзнаменованиями надвигающейся революционной бури перемежаются краткими, но вескими донесениями из столичной охранки: «…о якобы подготовлявшемся в Финляндии восстании во вверенном мне отделении сведений никаких не имеется»55. Очевидно, по этой причине в справки, подаваемые министру внутренних дел, попадала лишь малая часть поступающих от начальника ФЖУ сведений, но она туда все-таки попадала.
На начало 1908 г. ФЖУ все еще не могло похвастаться ни численностью своих секретных сотрудников, ни изобретательностью в выборе их кличек – постоянных было всего пятеро: «Швед», «Интеллигент», «Иванов», «Латыш» и «Переводчик». Агент «Швед» доставлял сведения о шведоманских революционных кругах, его вознаграждение колебалось от 200 до 300 руб. в месяц. Под кличкой «Интеллигент » работал финн, провинциал, принадлежавший к финноманской партии, получавший около 100 руб. и оплату почтовых расходов. «Иванов», имевший по 150 руб., принадлежал к составу Выборгского кружка русских эсеров. «Латыш» и впрямь был латышом, давно поселившимся в Финляндии. Он являлся деятелем «Красной гвардии» и был знаком с местными революционными организациями (отчасти виду знания латышского и финского, что позволяло ему выполнять роль переводчиком при сношениях латышей с местными революционерами). Получал он 100 руб. в месяц и оплату расходов на дорогу в Гельсингфорс. «Переводчик» же был принят в качестве сотрудника (75 руб. в месяц) ввиду того, что служил переводчиком при письменных сношениях местных революционеров с проживающими за границей русскими. Также было несколько случайных сообщений от «штучников». Агентура имелась и у помощника начальника ФЖУ в г. Або и начальников крепостных команд56. В фокусе внимания подавляющего числа секретных сотрудников ФЖУ в этот период была пресловутая «Войма»57.
В Департаменте полиции сочли такое положение неудовлетворительным, и вот, 30 октября 1908 г. начальник управления полковник Карл Рудольф Карлович Утгоф докладывает в столицу о наличии уже 40 секретных сотрудников!58 Агента «Цветкова», студента С.-Петербургского университета, видимо, как наиболее интеллигентного, Утгоф даже решился представить начальнику С.-Петербургского охранного отделения М.Ф. фон Котену. Котен с недоумением выяснил, что этот сотрудник ни в какой организации не состоит, а на свидания с ним, проходящие в ресторане, Утгоф ходит в мундире59. Подозревая неладное, весной 1910 г. Котен командировал для ознакомления с постановкой политического розыска в ФЖУ подполковника В.И. Еленского.
Обстоятельный доклад Еленского не оставил камня на камне от репутации Утгофа60. В результате 30 апреля 1910 г. последний получил от директора Департамента полиции Н.П. Зуева суровое внушение: «Хотя у Вас и имеется значительное число секретных сотрудников, но большинство из них ни в каких организациях не состоит и доставляет сведения или со слов других, или на основании циркулирующих слухов. Те немногие сотрудники, которые состоят в партиях, настолько далеки от центра, что давать серьезных сведений не могут»61. Утгофу было предложено немедленно озаботиться приобретением центральной агентуры. Кроме того, ему было поставлены на вид трения между офицерами, ведущими розыск, и отсутствие должной конспирации. Как оказалось, сотрудники принимались в квартирах жандармских унтер-офицеров, носящих форму, а некоторых и вовсе открыто приводили в управление. В довершение всего оказалось, что часть сведений от секретных сотрудников ФЖУ попросту не доходила до районного охранного отделения, дневники наружного наблюдения оформлялись неверно, а филеры были расквартированы казарменным порядком62.
Оценить работу над ошибками была призвана предпринятая на следующий год ревизия полковника Н.И. Балабина. (Интересно, что в 1906–1907 гг. он руководил флотилией, курсировавшей у побережья Прибалтики с целью пресечения нелегального ввоза оружия и поимки контрабандистов63).
Доклад Балабина о положении секретной агентуры в ФЖУ64 лег на стол директора Департамента полиции 21 февраля 1911 г. и удостоился следующей резолюции: «Чрезвычайно грустная картина в отношении полковника Утгофа. На основании сообщаемых им и получаемых от шайки негодяев-шантажистов сведений ведется ведь имперская политика в Финляндии!!! Так компрометировать Д[епартамен]т подчиненные ему органы не вправе! Это доказывает совершенное отсутствие у полковника Утгофа не желания (он добросовестно работает в смысле времени и труда), но способности разбираться в деле – столь важном. Отрадно, что ротмистр Пети и подполковник Провольский, видимо, дельные офицеры, но грустно, что они находятся под таким руководством»65. Утгофу вновь было предложено обзавестись центральной агентурой и немедленно избавиться от негодных сотрудников66.
Помимо трудностей с приобретением сотрудников, полковник Утгоф проявлял небрежность и промедление в предоставлении денежных отчетов о расходе на секретную агентуру. Когда после неоднократных напоминаний Утгоф предоставил отчет об истраченных с сентября 1910 г. по октябрь 1911 г. суммах, оказалось, что из 54 сотрудников только четверо («Рабочий», «Корел», «Серебряков» и
«Василич») принадлежали в Финской социал-демократической партии, и на них было израсходовано менее 7 тыс. марок из получаемых Утгофом 60 тыс. А еще 50 тыс. начальник ФЖУ потратил на штучников и вспомогательных агентов, из которых более-менее полезными было признано только 6 человек67.
В мае 1912 г. была предпринята новая ревизия ФЖУ, причем на этот раз она должна была касаться не только постановки секретной агентуры, но и всей организационной и хозяйственно-денежной части управления. С этой целью в Гельсингфорс были командированы генерал-майор Ю.Х. Карнаковский, полковник Балабин и коллежский советник департаментский чиновник В.И. Дидрихс68. Результаты новой ревизии были не менее удручающими, нежели итоги двух предыдущих. Краткий доклад о результатах ревизии Балабин представил уже 9 июня69, а развернутая версия была окончена к 30 августа 1912 г70.
Ревизия констатировала – за редким исключением – полный развал политического розыска в ФЖУ. В очередной раз проанализировав состав агентуры, Балабин отметил подозрительную щедрость Утгофа, с которой тот тратил казенные суммы на шантажистов, в то время как располагающие приличной агентурой подполковники Д.Д. Провольский и В.И. Пети и инициативный ротмистр А.Е. Ильин вынуждены были ограничивать расходы до минимума и даже рассчитываться с сотрудниками из собственных средств71.
В распоряжении лучшего из жандармских офицеров Финляндии, помощника начальника ФЖУ по Або-Бьернеборгскому району Провольского было семеро агентов. Сотрудник «Мильт» (38 руб. в месяц), швед, осведомленный член Конституционной партии, состоял управляющим ученым клубом, служившим центром деятельности партийных окружных учреждений. «Матти» (45 руб. в месяц), «весьма серьезный и, безусловно, правдивый» член окружного комитета Финской социал-демократической партии, был в курсе всех партийных дел. «Сундблюм» (от 60 до 22 руб. в разное время) являлся бывшим командиром полуроты «Красной гвардии» и был необходим для проверки сведений «Матти». Более того, помимо вспомогательных агентов, получавших жалованье нерегулярно, были у Провольского интеллигентные информаторы, которые соглашались сотрудничать и вовсе бесплатно72. Сам Провольский был суров, педантичен, требователен к подчиненным, свободно владел шведским и финским языками73. Результаты работы подполковника (у которого, к слову, были парализованы правая рука и нога) вполне опровергали бытующее в среде финских жандармов убеждение о невозможности приобретения в Финляндии солидных партийных сотрудников.
Помощник начальника ФЖУ по Выборгскому району подпол- ковник Пети выдающимися сотрудниками не располагал, но все его 12 агентов были признаны вполне полезными. Услуги по приобретению агентуры Пети оказывал его переводчик губернский секретарь М.П. Крохин, заслуживший, несмотря на свое пристрастие к спиртному, лестные отзывы своих сослуживцев74.
Агентура, состоявшая в распоряжении Утгофа, вновь подверглась разгромной критике Балабина. Так, он небезосновательно предположил, что сотрудник Утгофа «Цветков» попросту фабриковал секретные документы с помощью своего брата (у которого он их, якобы, выкрадывал), и затем вместе с ним же и пропивал агентурные деньги в кабаке75. «Василича» Балабин также уличил в фабрикации документов и смехотворной лжи, когда тот, «желая давать новые и новые сенсационные сведения, договорился до блока капиталистов с пролетариатом»76. «Хольмберг» и «Грибков» получали более 100 руб. в месяц за сведения о несуществующих организаци-ях77. Апофеозом абсурда было, конечно, присутствие в числе центральных агентов неоднократно разоблаченного ранее сотрудника «Финна», который все эти годы продолжал сочинять прокламации и рассылать их затем малоразвитым агентам из рабочих, которые, ничтоже сумняшеся, несли его творения Утгофу. Это и ряд других обстоятельств позволило Балабину предположить, что львиная доля сотрудников Утгофа в действительности были завербованы «Финном» и действовали, согласно его указаниям («Огурцов», «Ху-плякс», «Зигзагов», «Хомен», «Фрукт»)78. Одну из ключевых ролей в данной комбинации играл упоминавшийся ранее ловкий переводчик коллежский секретарь Хейкель79. Ложь сотрудников-шантажистов, сколь наглая, столь и наивная, касалась в основном таких тем, как подготовка вооруженных восстаний и покушений на высокопоставленных лиц, а потому не могла не привлекать внимание начальника ФЖУ, которым, однако, никакой разработки и проверки полученных сведений не предпринималось.
Офицеры, состоящие при управлении в Гельсингфорсе (подполковники П.А. Зякин, В.М. Зеленко и В.Я. Федоров, ротмистры В.П. Нечогин и А.Ф. Степанов) были апатичны и ни малейшего интереса к делу политического розыска не проявляли. Начальник Выборгской крепостной жандармской команды подполковник Н.И. Кунаков, неспособный к ведению агентуры, но желавший обратить на себя внимание, интриговал против подполковника Пети и мешал ему работать. Начальнику Свеаборгской жандармской команды ротмистру Николаю Мартынову разоблаченную секретную сотрудницу «Сороку» «подарил» его младший брат Петр, начальник Бакинского охранного отделения80. Провальная постановка агентурной работы оказалась не единственным недугом ФЖУ: Утгоф был нечист на руку и рассматривал прогонный кредит, как источник собственного обогащения81.
Доклад, составленный на базе данных, добытых Балабиным и Дидрихсом, поданный министру внутренних дел в феврале 1913 г., по числу сенсационных скандальных разоблачений оставил далеко позади самые смелые выпады ренегата-Меньщикова82. По итогам проверки Утгоф был заменен бывшим заведующим Особым отделом Департамента полиции полковником (затем генерал-майором) А.М. Ереминым83. Тот избавился от агентурного «балласта» из лодырей и шантажистов84 и даже попытался удалить от себя решившего повздорить с начальником хворого и нерадивого Лявданского85.
С уходом Утгофа обнаружился и ряд ложных донесений подполковника Пети, сообщавших о противоправительственном характере различных мероприятий, которые либо в действительности вообще не проводились, либо оказывались обычными празднествами без какого-либо политического подтекста. Так, он сообщил о, якобы, имевшей место 20 июля 1914 г. в д. Кирвус демонстрации революционного и враждебного России характера, которая на деле оказалась молодежным танцевальным вечером в д. Инкеля Кирвусского прихода. Дезинформация была обнаружена командиром 22-го армейского корпуса генерал-лейтенантом бароном А.Ф. фон ден Бринкеном, инициировавшим проведение дознания по данному вопросу86. На сей раз начальник ФЖУ, хоть и подверг Пети дисциплинарному взысканию, был склонен отчасти оправдывать подчиненного, объясняя его донесение излишней доверчивостью к заявителю, констеблю Аарне, а также поспешностью в предоставлении сведений коменданту Выборгской крепости и Выборгскому губернатору, до их проверки87. Парируя обвинения со стороны военных, Еремин заявил, что «как по настоящему делу, так и по прежней службе и характеру подполковника Пети, я не имею никаких оснований обвинять названного штаб-офицера в том, что он “в целях узко-личных выгод” умышленно занимается предоставлением начальству вымышленных сведений»88.
Но эта история ничему не научила подполковника. Казалось, он получал предписания о необходимости проверки агентурных сведений едва ли не чаще, чем сами сведения: 14 августа 1913 г., 28 февраля 1914 г., 14 марта 1915 г., 28 марта 1915 г. и 6 апреля 1915 г. Терпение Еремина, наконец, лопнуло, когда сообщение о произнесении противоправительственных речей на вечере в гостинице «Сосьете» (где, якобы, проходили проводы бывшего коронного фохта Каяндера) также оказало сь выдумкой. Когда в результате неоднократных указаний Еремина, Пети все-таки удосужился произвести проверку сообщенных им данных, обнаружилось, что вечер не только не носил никакой политической окраски, но и не имел никакого отношения к Каяндеру, который в гостинице даже не присутствовал, а состоявшееся мероприятие носило исключительно увеселительный характер. Утомленный беспечностью и легкомыслием Пети, а также нарушением им су-бординации89, Еремин распорядился отправить его на трое суток под домашний арест, а историю с вечером в «Сосьете» пересказал в приказе по ФЖУ90.
В случае с Пети странно не то, что его репутация в конечном итоге рухнула, а то, что она рухнула так поздно. Пети, «очень недалекий господин, сухой педант», являлся сослуживцем Яковлева по Шлиссельбургской крепости, служба в которой ничего общего с розыском не имела. Из воспоминаний того же Парфёнова известно, что Пети был заядлый игрок, и перед карточными вечерами его жена, чтобы избавиться от по стоянных проигрышей супруга, запирала всю его одежду, и он сидел дома в одном бе-лье91.
С началом Первой мировой войны усилия ФЖУ, в основном, были направлены на предотвращение германского шпионажа и деятельности вербовочных бюро92, а наблюдение за политическими партиями отошло на второй план, и потому результаты деятельности Еремина с итогами работы предшественников сравнивать было бы некорректно.
* * *
Таким образом, в планировании и реализации административных мероприятий центральная имперская власть не могла позволить себе основываться на информации, исходящей от финских жандармов. Для составления объективной картины политического ландшафта Финляндии донесения ФЖУ были не просто непригодны – они были вредны. В течение многих лет они основывались сначала на скудных, а затем на недостоверных или вовсе сфабрикованных данных.
Крайне маловероятно, чтобы начальник управления Утгоф и все его подчиненные поголовно являлись невинными агнцами или наивными жертвами коварства агента «Финна» и переводчика-прохвоста Хейкеля. Если обвинения Меньщикова, выводы Елен-ского, Балабина и Еремина хотя бы и вполовину верны, то в случае с ФЖУ можно наблюдать одну из наиболее масштабных мистификаций жандармских чинов, осуществленную не с целью опорочить финнов, как утверждал Меньщиков, а с целью банальной наживы, а то и вовсе ставшую следствием непрофессионализма и безалаберности.
Вместе с тем, удовлетворительная постановка политического розыска была вполне возможна даже в условиях ограничений полномочий жандармских чинов, вот только офицерам ФЖУ такая задача оказалась не по плечу.
Список литературы "На основании получаемых от шайки негодяев-шантажистов сведений ведется имперская политика в Финляндии": об агентуре Финляндского жандармского управления в начале XX века
- Майзель М. Страницы революционной истории финляндского пролетариата. Ленинград, 1928; Смирнов В. Из революционной истории Финляндии 1905, 1917, 1918 гг. Ленинград, 1933.
- Куяла А. Россия и Финляндия в 1907 – 1914 гг.: планы введения военного положения // Отечественная история. 1998. № 2. С. 65–74; Бахтурина А.Ю. Великое княжество Финляндское в годы Первой русской революции // Вопросы истории. 2006. № 11. С. 39–53; Постников Н.Д. Шведская народная партия Великого княжества Финляндского в революции 1905 – 1907 гг. // Журнал политических исследований. 2022. Т. 6. № 2. С. 3–20; Jussila O. Nationalismi ja vallankumous venä lä is-suomalaisissa suhteissa 1899 – 1914. Helsinki, 1979. P. 256–264; Luntinen P. F.A. Seyn, 1862 – 1918: A Political Biography of a Tsarist Imperialist as Administrator of Finland. Helsinki, 1985.
- Красный архив. 1924. № 5. С. 107–116; Революция 1905 г. и самодержавие: Сборник документов Москва; Ленинград, 1928; Столыпин П.А. Переписка. Москва, 2004. С. 37–42.
- Запросы на финляндском Сейме о современном положении. Санкт-Петербург, 1908. С. 7–14; Luntinen P. The Imperial Russian Army and Navy in Finland, 1808 – 1918. Helsinki, 1997. P. 208.
- Российский государственный исторический архив. (РГИА). Ф. 1361. Оп.1. Д. 59. Л. 3об. (Письмо П.А. Столыпина А.Ф. Лангофу 5 декабря 1907 г.).
- Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 102. ОО. 1902 г. Оп. 230. Д. 825. Ч. 4. Л. 8.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1902 г. Оп. 230. Д. 825. Ч. 4. Л. 32
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1902 г. Оп. 230. Д. 825. Ч. 4. Л. 49.
- ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 2. Д. 73. Л. 120.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1902 г. Оп. 230. Д. 825. Ч. 4. Л. 49об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1902 г. Оп. 230. Д. 825. Ч. 4. Л. 54об.–57об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1902 г. Оп. 230. Д. 825. Ч. 4. Л. 58–58об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1904 г. Оп. 232. Д. 2. Ч. 5. Л. 88–93; ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1902 г. Оп. 230. Д. 825. Ч. 4. Л. 124–124об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1902 г. Оп. 230. Д. 825. Ч. 4. Л. 42–43.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1902 г. Оп. 230. Д. 825. Ч. 4. Л. 96, 97.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 г. Оп. 316. Д. 2. Ч. 1. Л. 26–29.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 г. Оп. 316. Д. 2. Ч. 1. Л. 11–15.
- ГА РФ. Ф. 102. Д-1. 1904 г. Оп. 24. Д. 549. Л. 2; ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1904 г. Оп. 232. Д. 2. Ч. 5. Л. 77об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 г. Оп. 316. Д. 825. Ч. 28. Л. 17–18, 26.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 г. Оп. 316. Д. 825. Ч. 28. Л. 38–39.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 г. Оп. 316. Д. 2. Ч. 1. Л. 3–6, 10.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 г. Оп. 316. Д. 2. Ч. 1. Л. 2–2об.
- ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 2. Д. 73. Л. 118об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 г. Оп. 316. Д. 2. Ч. 1. Л. 20–21.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 г. Оп. 316. Д. 2. Ч. 1. Л. 118.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 г. Оп. 316. Д. 2. Ч. 1. Л. 118.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 г. Оп. 316. Д. 2. Ч. 1. Т. 1. Л. 13–16.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 г. Оп. 316. Д. 2. Ч. 1. Л. 11–15.
- ГА РФ. Ф. 110. Оп. 14. Д. 158. Л. 1–33.
- ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 2. Д. 73. Л. 117–126об.
- Меньщиков Л.П. Русские охранники в Финляндии // Русский политический сыск за границей. Париж, 1914. С. 219–243.
- ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 2. Д. 73. Л. 124–126.
- ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 2. Д. 73. Л. 126об.
- ГА РФ. Ф. 110. Оп. 2. Д. 19053. Л. 4.
- Финляндская газета (Гельсингфорс). 1907. 27 марта (9 апр.). С. 1.
- ГА РФ. Ф. 110. Оп. 6. Д. 1588. Л. 1, 21–21об.
- ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 2. Д. 73. Л. 123.
- ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 2. Д. 73. Л. 118.
- ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 2. Д. 73. Л. 120.
- ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 2. Д. 73. Л. 120об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 г. Оп. 316. Д. 2. Ч. 1. Т. 1. Л. 16.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 г. Оп. 316. Д. 2. Ч. 1. Т. 1. Л. 16.
- ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 2. Д. 73. Л. 120об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 г. Оп. 316. Д. 2. Ч. 5. Л. 80–84об.,147–147об., 123–124об., 125–133.
- Бакушин А.Ю. Одиссея Леонида Меньщикова, или Азеф наоборот // Отечественная история. 2004. № 5. С. 162–177.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 г. Оп. 316. Д. 2. Ч. 1. Л. 37–38.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 г. Оп. 316. Д. 2. Ч. 5. Л. 119–119об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 II. Оп. 236. Д. 652. Л. 2.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 г. Оп. 316. Д. 2. Ч. 1. Т. 1. Л. 36, 47.
- ГА РФ. Ф. 102. Д-1. 1912 г. Оп. 32. Д. 835. Л. 2–7; ГА РФ. Ф. 494. Оп. 1. Д. 31. Л. 55, 62.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1906 г. Оп. 316. Д. 1034.
- Парфёнов В.В. Крепость Шлиссельбург: Из записок жандармского офицера // Лаврёнова А.М. Тонкая синяя линия: Жандармы и общество на закате империи. Москва; Берлин: 2023. С. 405.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1907 г. Оп. 237. Д. 587. Л. 10.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1907 г. Оп. 237. Д. 587. Л. 60.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1907 г. Оп. 237. Д. 587. Л. 26–30
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1908 г. Оп. 316. Д. 112. Ч. 29. Л. 2–3.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1908 г. Оп. 316. Д. 112. Ч. 29. Л. 4–4об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1908 г. Оп. 316. Д. 112. Ч. 29. Л. 5–6об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1910 г. Оп. 316. Д. 1. Ч. 87 л. Д. Л. 3.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1910 г. Оп. 316. Д. 1. Ч. 87 л. Д. Л. 6–23.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1910 г. Оп. 316. Д. 1. Ч. 87 л. Д. Л. 39–40.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1910 г. Оп. 316. Д. 1. Ч. 87 л. Д. Л. 39–40.
- Павлов Д.Б. Японские деньги и первая русская революция = Японские деньги для первой русской революции. Москва, 2011. С. 170.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1911 г. Оп. 316. Д. 150. Л. 8–41об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1911 г. Оп. 316. Д. 150. Л. 6.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1911 г. Оп. 316. Д. 150. Л. 51.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1912 г. Оп. 316. Д. 315. Л. 1–23.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1912 г. Оп. 316. Д. 315.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1912 г. Оп. 316. Д. 315. Л. 29–37об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1912 г. Оп. 316. Д. 315. Л. 39–106об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1912 г. Оп. 316. Д. 315. Л. 37об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1912 г. Оп. 316. Д. 315. Л. 33–34.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1912 г. Оп. 316. Д. 315. Л. 95об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1912 г. Оп. 316. Д. 315. Л. 98об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1912 г. Оп. 316. Д. 315. Л. 55.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1912 г. Оп. 316. Д. 315. Л. 52–53 об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1912 г. Оп. 316. Д. 315. Л. 60–61.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1912 г. Оп. 316. Д. 315. Л. 56об.–58.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1912 г. Оп. 316. Д. 315. Л. 97об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1912 г. Оп. 316. Д. 315. Л. 77об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1912 г. Оп. 316. Д. 315. Л. 88об.
- ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1912 г. Оп. 316. Д. 315. Л. 112–128.
- ГА РФ. Ф. 494. Оп. 1. Д. 39.
- ГА РФ. Ф. 102. Оп. 314. Д. 471. Л. 1об.–2.
- ГА РФ. Ф. 110. Оп. 2. Д. 19053. Л. 6–9об.
- ГА РФ. Ф. 494. Оп. 1. Д. 90. Л. 1–3 об.
- ГА РФ. Ф. 494. Оп. 1. Д. 90. Л. 22об.
- ГА РФ. Ф. 494. Оп. 1. Д. 90. Л. 23.
- ГА РФ. Ф. 494. Оп. 1. Д. 46. Л. 1.
- ГА РФ. Ф. 494. Оп. 1. Д. 46. Л. 2–3.
- Парфёнов В.В. Крепость Шлиссельбург: Из записок жандармского офицера // Лаврёнова А.М. Тонкая синяя линия: Жандармы и общество на закате империи. Москва; Берлин: 2023. С. 407, 409.
- ГА РФ. Ф. 102. Оп. 314. Д. 19; ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1916 г. Оп. 316. Д. 245. Ч. 87.