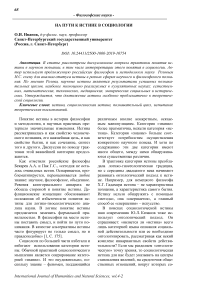На пути к истине в социологии
Автор: Иванов О.И.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 4-2 (31), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены дискуссионные вопросы трактовки понятия истины в научном познании, в том числе интерпретации этого понятия в социологии. Автор использует предложенную российским философом и методологом науки Розовым Н.С. схему для анализа статуса истины в разных сферах научного и философского познания. По мнению Розова, научные истины являются результатами успешных познавательных циклов, наиболее полноценно реализуемых в кумулятивных науках: естественных, математических, технических, медицинских, эмпирических социальных и исторических. Утверждается, что достижение истины особенно проблематично в теоретической социологии.
Истина, социологическая истина, познавательный цикл, испытание теоретических высказываний
Короткий адрес: https://sciup.org/170186149
IDR: 170186149 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10754
Текст научной статьи На пути к истине в социологии
Понятие истины в истории философии и методологии, в научных практиках претерпело значительные изменения. Истина рассматривалась и как свойство человеческого познания, его важнейшая цель, и как свойство бытия, и как сочетание, синтез того и другого. Дискуссии по поводу трактовки этой важнейшей категории продолжаются.
Как отметили российские философы Бекарев А.А. и Пак Г.С., «сегодня не осталось очевидных истин. Оспаривается, про-блематизируется, переоценивается любое знание: научное, философское, обыденное. Ревизия категориального аппарата не обошла стороной и понятие истины. Де-фляциониские концепции обосновывают положения об избыточности понятия истины для логико-гносеологического анализа науки. В логике понятие истины предлагается заменить формальной правильностью. В философии на место истины поставить смысл, и пойти по пути понимания. В качестве альтернативы истины часто фигурирует не только смысл, но и правдоподобие» [1, С. 175].
Социологи по большей части избегали и избегают использования категории истины. Обычной практикой социологического мышления является оперирование категорией «знание». И это неудивительно, поскольку знание – феномен, поддающийся различным вполне конкретным, осязаемым манипуляциям. Категория «знание» более прагматична, нежели категория «истина». Категория «знание» больше соответствует потребностям осуществления конкретного научного поиска. И хотя по содержанию эти две категории имеют много общего, между ними обнаруживаются существенные различия.
В трактовке категории истины преобладала логико-гносеологическая традиция, но с середины двадцатого века начинают развивать онтологический подход к истине. Например, для немецкого философа Х.Г. Гадамера истина – не характеристика познания, а характеристика самого бытия. Истину нельзя обнаружить с помощью «метода», она «свершается», а главный способ ее «свершения» – искусство.
В поисках социологической истины наш современник Ю.Л. Качанов тоже использует онтологический подход. Он спрашивает: «является ли «истина» всего лишь категорией языка описания социальной действительности или ее необходимо онтологизировать, рассматривая как некий комплекс инвариантных свойств действительности? Если мы разделяем «онтологическую» точку зрения, то социологическая истина для нас будет указывать на центры становления явлений, на средоточия общественных отношений, вокруг которых со- циальные силы организуют пространство позиций»» [2, С. 175].
По его мнению, «истина» не есть атрибут социолога как такового, но она и не находится в социальной действительности. Истина представляет собой самоотносимое «событие» встречи социологического исследования с социальной действительностью. Эта встреча является «событием» в том смысле, что она делает возможным изменение «социальной науки, и социальной действительности. Сущность истины есть возможность изменения самовоспро-изводящегося социального порядка, трансформация повседневности. В том, что не может привести к сдвигу структурного равновесия социальной действительности, нет «истины» [2, С. 143-144]). Встреча, о которой говорит Качанов, это в контексте его рассуждений, наверно, образ, метафора? Но зачем использовать образы, метафоры, когда существует достаточно точная терминология. Если уж говорить о возможной встрече в смысле Качанова, то, видимо, надо бы говорить о встрече, взаимодействии конкретного социолога или группы социологов с индивидуальным или групповым социальным актором (акторами). Ведь социальная действительность есть особого рода целостность, и никакое социологическое производство, социологические практики, социологические исследования не в состоянии с ней встретиться, пересечься.
Изощренное философствование (в котором, конечно, Качанов преуспел) при обсуждении реальных проблем развития социологии и ее отношений с государством, политикой, экономикой, обществом не только ничего не проясняет, а, напротив, отдаляет от реальности. Онтологическим критерием эмпирической истинности, по Качанову, «может служить «открытость», интерпретируемая как пересечение, взаимопроникновение производства научных знаний и исследуемой этим производством действительности» [2, С. 120]. Социологическая истина для Качанова – это специфическое социальное отношение и некая (не раскрытая автором) социальная структура. «Истина социальной науки призвана раскрыть смысл «бытия – в – ис- тине», а потому производна от социального бытия человека. Она не имеет объективного и конкретно-эмпирического референта, а указывает на то, какими могут быть практики агента в тех или иных социальных условиях, в рамках тех или иных социальных структур» [2, С. 127]. По мысли Качанова, истина способствует структурным изменениям социальной действительности в направлении становления общностей без отношений господ-ство/подчинение. «Событие» истины ведет в сторону увеличения социальной справедливости [2, С. 114]). Но под «событием» истины Качановым подразумевается и качественное изменение социологического производства, сбывающееся вследствие внутренних свойств этого производства. Но, к сожалению, автор не разъяснил, в чем на самом деле состоит это качественное изменение. Качанов говорит: «по сей день российская социология не может предъявить ни одного «события» истины» [2, С. 115]). Впрочем, автор признается, что у него нет рецептов – как это можно и нужно сделать. Тем не менее, было бы полезно посмотреть: были ли вообще в истории отечественной и зарубежной социологии прецеденты «события» истины? Ведь сам Качанов говорит, что социологическая истина не производится постоянно, а лишь изредка случается, носит характер события [2, С. 142].
Как видно, назначение, функции социологической истины – становление общностей без отношений господ-ство/подчинение и увеличение социальной справедливости. Но об этих задачах социальных наук говорилось многократно. Азбучной истиной является и то, что в развитии социологии правящие, господствующие группы никогда не были заинтересованы. Но такая простая формула Качанова не устраивает. Он, используя понятийные схемы П. Бурдье, пишет: «доминирующие позиции, «правые» силы, не только не поощряют социологических открытий, но и делают все возможное для того, чтобы редуцировать социальную науку в лучшем случае к преподавательской деятельности, повторению пройденного, пережевыванию классических текстов, «объективную» по- требность в социологической истине испытывают лишь доминируемые, которые не могут унаследовать доминирующую позицию в сложившейся социальной игре» [2, С. 171]. Заметим, что доминируемые «объективную» потребность в социологической истине вообще не испытывали и не испытывают.
На наш взгляд, фактически все, что написано Качановым об истине, - это наукообразное философское, временами даже поэтически-романтическое, переформулирование традиционной проблематики о социальной обусловленности научного познания, об отношениях социологии и общества, о тотальной зависимости социологических исследований от государства, политики, экономики, о социальной ответственности и безответственности социальных ученых, о назначении социальной науки, о необходимости ее гуманизации, о роли социологии в переустройстве общественных отношений. Отметим, авторская концепция социологической истины, ее онтологическая трактовка создана и фундирована на основе новейших философских и социально-философских работ западных авторов, новых социологических схем, нового концептуального аппарата. Но, к сожалению, ничего принципиально нового в традиционную проблематику Качанов не привносит. Давно известные и неоднократно обсуждавшиеся положения преподносятся в новом концептуальном обличии. Упрек, который Качанов, делает российской социологии (а не конкретным социологам) в том, что она погружена в тематику западной социологии, проводит схоластические изыскания (разрабатывает «теоретическую» теорию), находится в трясине доксических представлений, можно отнести и к самому Качанову.
В начале книги автор заявляет, что для него онтологические принципы социологии - это принципы строения социологического знания, механизмы его объективации и реализации в практиках социологов, основания различия истина/заблуждение [2, С. 9]. Но тщетно искать ответы на обозначенные вопросы. Усилия Качанова направлены на обоснование мифической «встречи» и даже взаимопроникновения производства социологического дискурса с социальной действительностью». Время, правда, показало, что такая трактовка социологической истины социологическому сообществу вообще не нужна.
По нашему мнению, эмпирикоаналитическая социология, за которую ратует Качанов, совершенно не нуждается в онтологизации социологической истины. Свои основные задачи эта социология в состоянии решать, опираясь на логико-гнесеологическую трактовку истины, т.е. рассматривая ее как свойство знания. В этом смысле для социолога не потеряли своей значимости известные концепции истины: как соответствия знания реальности (концепция корреспонденции); внутренней согласованности элементов знания (концепция когерентности); практической эффективности знания (концепции, утверждающие, что истинность знаний подтверждается или опровергается опытом, практикой). И хотя в этих концепциях обнаружены недостатки, их содержание напрямую связано с конкретным научным поиском и может служить ориентиром в этом поиске истины. Впрочем, эмпирикоаналитическая социология вполне может обходиться и без категории «истина». Научный статус эмпирико-аналитической социологии не вызывает сомнений, Она способна создавать краткосрочные и среднесрочные прогнозы массового поведения людей, перемен в многих социальных процессах и ситуациях. А способность к прогнозированию является главным критерием принадлежности области знания к научной сфере. Для социолога задача выработки достоверных и обоснованных научных знаний о социальных явлениях была и остается первостепенной. Исследователи достоверность знания обычно связывают с адекватностью представления в нем предмета изучения, такого представления, которое носит объективный и (или) интерсубъективный характер. Но, по Качанову, «единственной достоверностью для социологии выступает социологический опыт, включающий волю и желание самого изучающего агента: устойчивая достоверность есть то, что удостоверено и при- знано социологом, вписывается в его представления о социальном мире, удобно и выгодно для него. Стремление к достоверности социологического познания есть сублимация Libido dominanti социолога» [2, С. 14]. Как видно, Качанов утверждает такое понимание достоверности, которое исключает вопрос о соотношении знания и социальной действительности. Вряд ли такое понимание достоверности устроит исследователей, изучающих социальные явления как теоретическими, так и эмпирическими методами.
Теперь рассмотрим предложение российского философа и методолога Розова Н.С для анализа статуса истины в разных сферах научного и философского познания рассматривать полный цикл решения интеллектуальной проблемы, который он представил через семь этапов (шагов): постановка проблемы, разработка альтернативных подходов, установление набора критериев успешности решения, попытки решения в согласии с этими критериями, проверка корректности решения, при успехе – включение решения в систему знаний, обнаружение недостатков решения и постановка новых проблем. Он показал, что все эти шаги характерны для естествознания и математики, где открытия, новые знания, получающие общее согласие ученых, есть сдвигающийся фронт проблем и накопление результатов, к спорам относительно которых обычно уже не возвращаются. В других сферах познания — технических, медицинских, военных, социальных, гуманитарных науках и философии — состав шагов в цикле видоизменен или крайне редуцирован. По мнению Розова, научные истины являются результатами успешных познавательных циклов, наиболее полноценно реализуемых в кумулятивных науках: естественных, математических, технических, медицинских, эмпирических социальных и исторических» [3, С. 175]. Полагаем, что если социологи действительно желают приближаться к истине, им полезно использовать доказавшие свою эффективность практики реализации полного цикла решения интеллектуальной проблемы.
Сегодня некоторые российские социологи придерживаются мнения о том, что в российской социологии нет теоретической социологии. При этом нет четких пояснений, что такое теоретическая социология. Но если к ней относить все формы теоретизирования, то станет очевидно, что теоретической социологии в России с избытком [о формах теоретизирования см., например, 4, С. 18-19] В теоретической социологии достижение истины особенно проблематично. Все дело в том, что отечественные социологи не завершают свои теоретические разработки их эмпирическим испытанием. А без такого испытания эти разработки остаются метафизическими размышлениями. Как известно, эмпирические испытания теоретических высказываний включают в себя верификацию, фальсификацию и репликацию. Однако российские социологи эти процедуры используют очень редко, хотя их применение может оказаться полезным и эффективным для повышения качества научного поиска.
Список литературы На пути к истине в социологии
- Бекарев А.А., Пак Г.С. Истина, правда, правдоподобие в науке // Революция и эволюция: модели развития в науке, культуре, социуме. Сборник научных статей. Под научной редакцией И.Т. Касавина, А.М. Фейгельмана. Нижний Новгород. Издательство Нижегородского госуниверситета. 2017. С. 49-51
- Качанов Ю.Л. Эпистемология социальной науки. - СПб: Изд-во «Алетейя», 2007. - С. 173-184.
- Розов Н.С. Статус истины в разных сферах научного и философского познания // Революция и эволюция: модели развития в науке, культуре, социуме. Сборник научных статей. Под научной редакцией И.Т. Касавина, А.М. Фейгельмана. - Нижний Новгород. Издательство Нижегородского госуниверситета. - 2017. - С. 14-17.
- Иванов О.И. Методология социологии. Учебно-методическое пособие. - СПб., 2011. - С. 66