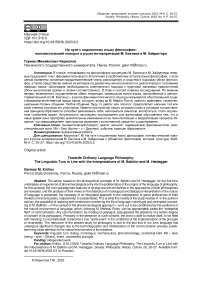На пути к подлинному языку философии: лингвистический поворот в русле интерпретаций М. Бахтина и М. Хайдеггера
Автор: Кириллов Г.М.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 9, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье, основываясь на философских концепциях М. Бахтина и М. Хайдеггера, впервые предпринят опыт феноменологического вступления в проблематику истоков языка философии, с этой целью выявлены основные парадигматические черты расхождения и сходства в подходах обоих философов, а также представлен анализ их взглядов на диалектику монологического и диалогического толкования природы языка; обоснована необходимость комплексного подхода к трактовке жанровых предпочтений обоих мыслителей (роман и поэзия соответственно). В этом и состоит новизна исследования. По мнению автора, возможность осуществления обеих тенденций, касающихся жизни языка: центробежной и центростремительной (по М. Бахтину) - в русле феноменологического подхода оказывается обусловленной существованием естественной среды языка, которую, вслед за М. Мерло-Понти, уместно именовать «экзистенциальным полем» общения. Любое общение, будь то диалог или полилог, предполагает наличие той или иной степени согласия его участников. Именно при наличии такого согласия слово в условиях осуществления принципа обратимости способно реализовать себя, наполниться смыслом, воплотиться, стать подлинным «событием мира». Актуальность настоящего исследования для философии обусловлена тем, что в наше время язык претерпел значительные изменения из-за технологизации и медиатизации процесса общения, что предопределяет пристальное внимание к естественной среде его существования.
Лингвистический поворот, диалог, монолог, герменевтика, феноменология, экзистенциальное поле, mit - sein (бытие - с - другими), событие, принцип обратимости
Короткий адрес: https://sciup.org/149144061
IDR: 149144061 | УДК: 101:316.6 | DOI: 10.24158/fik.2023.9.2
Текст научной статьи На пути к подлинному языку философии: лингвистический поворот в русле интерпретаций М. Бахтина и М. Хайдеггера
Язык – одно из фундаментальных свойств, присущих бытию человека. Во многом благодаря языку человек стал субъектом культуры, оказался способен к познавательной деятельности. Поэтому «расшифровать» язык, его природу и тайну происхождения – во многом означает разгадать загадку происхождения и самого человека. Сделать это непросто. Язык – чрезвычайно динамичное и многоликое явление, он с трудом поддаётся фиксации и интерпретации. Уже со времён античности исследователями языка прилагаются огромные усилия в данном направлении, выдвигаются самые разнообразные, порой взаимоисключающие версии его происхождения, ибо история науки о языке – лингвистике – насчитывает уже тысячи лет. В ХХ–ХХI вв. язык оказывается также объектом пристального внимания философии. Безусловный интерес представляет осмысление природы языка М.М. Бахтиным и М. Хайдеггером, в чьём творчестве данная проблематика занимала центральное место. Современные исследователи рассматривают философию языка как многогранное явление, напоминающее о подлинном весе слова, о необходимости вернуть «ценность нашим речам». Так, целью исследования А.В. Источниковой1 является рассмотрение герменевтического толкования экзистенциальных установок М. Бахтина и М. Хайдеггера. Автор приходит к выводу, что понятия «диалог» и «коммуникация» у этих философов связаны с феноменом «понимание», выступающим в качестве активного волеизъявления – поступка, что и позволяет говорить о коммуникативном аспекте герменевтики данных мыслителей. Однако точки схождения М. Бахтина и М. Хайдеггера не исчерпываются одной лишь герменевтикой, к тому же философское учение обоих философов впоследствии переросло рамки этой школы, затронув онтологическую проблематику (Даренский, 2017). По словам Даренского, в творчестве М. Бахтина концептуализирована основная онтологическая проблема, лежащая в основе «философии диалога». А.Ю. Апаева в статье «М. Хайдеггер о поэзии бытия и о бытии поэзии Гёльдерлина» (Апаева, 2014) уделяет внимание онтологической проблематике в интерпретации Хайдеггером творчества немецкого поэта. Ю.А. Бедаш в статье «О «скрытом родстве» философии и поэзии у М. Хайдеггера» (Бедаш, 2004) пытается «поразмыслить о значении поэзии для философии в целом и философской антропологии, в частности». Работа С.С. Аванесова посвящена «центральному понятию ранней бахтинской философии» – событию, толкуемому им как «бытие – событие», т. е. активное ответственное участие человека в жизни, позволяющее ему приблизиться к онтическим «последним границам бытия» (Аванесов, 2017). Важное признание Бахтина, приводимое в статье, состоит в том, что таким событием должно стать для человека буквально всё: «каждое движение, жест, переживание, мысль». Видимо, к поступкам человека должны принадлежать и каждая реплика человека, и любое сказанное им слово. Философии поступка М. Бахтина посвящена также работа «Слово и событие» В.В. Бибихина, переводчика и исследователя творчества М. Хайдеггера (Бибихин, 2020). Тем не менее, на данный момент отсутствуют работы, в которых были бы сопоставлены представления обоих мыслителей о языке в онтологической перспективе. Восполнению этого пробела и посвящена настоящая статья.
Лингвистический поворот второй половины минувшего века означал переход от инструментария разума и мысли, характерного для классической философии, к парадигме, в основе которой лежат «слово» и «смысл». Однако новая лингвистическая парадигма, в отличие от классической, с самого начала была чревата «конфликтом интерпретаций». Тематизация языка, осуществлённая Бахтиным, Хайдеггером и их современниками , оказалась не менее сложным и рискованным предприятием, чем тематизация познавательных способностей человека. Высказывались опасения, что люди являются существами, которые никогда не смогут вырваться за пределы языка (Витгенштейн, 1989). К тому же осмысление языка – это всегда область «гетерологии», теории, направленной на постижение становления, разнородности и множественности явлений. Поэтому ключевыми понятиями для М. М. Бахтина стали «Другой» и «Диалогизм». Характерно, что философа, кроме условного Другого, явленного Другого, Другого – для – меня, интересовал нередуцируемый Другой – для – себя, ускользающий от понимания, трансцендентный. Воплощением диалога – полифонии и полилога – Бахтин считал роман, прежде всего, романы Ф.М. Достоевского. Философ подчёркивал, что романы этого писателя по своему сюжету, структуре, изображённым мирам отличаются от романов монологического типа: «… событие, раскрываемое … романом [Достоевского], не поддается обычному сюжетно-прагматическому истолкованию, так как … самая установка [в них] должна быть совершенно иной, чем в романах монологического типа»2.
Заметим, что для Бахтина роман и тяготеющие к нему жанры представляют центробежные тенденции в языке, в то время как в поэзии им отводится роль центростремительной силы, господствующей в речи, поэзия часто связана с «верхами» и официальной идеологией, реже – с «низами», где идёт «живая игра с языком». По словам Бахтина, язык поэзии обращён на самого себя. Поэт ищет и обретает свой материал внутри языка. Для прозаика, по мнению философа, важны экстралингвистические компоненты, слово в романе предполагает широкий социальный контекст и оттуда черпает свои возможности. Надо ли говорить, что обе тенденции важны для нормальной жизни языка. Ведь главное богатство и сила языка состоит в разнообразии его возможностей. Поэтому для понимания его сущности необходимо обратить внимание и на его «центростремительный» аспект. Особый интерес к нему обнаруживается в творчестве Мартина Хайдеггера.
Для немецкого философа характерно обращение к языку как основе всех основ, мосту над онтологическими безднами, обозначенными неклассическими философами, прежде всего Ф. Ницше, – как к «дому бытия». При этом подлинным образцом для Хайдеггера является язык поэзии, который, в интерпретации Бахтина, монологичен. Нам представляется, что в чём-то с Бахтиным солидарен и Хайдеггер, для которого весь «язык есть монолог». Речь человека, напротив, для него «как ответная всегда остается соотнесенной» (Хайдеггер, 1993: 273–302). Соотнесённой, то есть находящейся в соотношении, соотнесении, предполагающем самореализацию. Поэтому диалог тоже оказывается нечуждым для философии немецкого мыслителя, представляющего речь как диалектическое единство говорения и слушания, другими словами, как диалогическую речь. Он убеждён, что философский разум обречён на «бытийно-исторический диалог» с поэзией. Не случайно одно из важнейших произведений Хайдеггера, посвящённое языку, имеет оригинальное название «Из диалога о языке. Между японцем и спрашивающим». Это произведение написано в диалогической форме. В нём происходит разговор между японцем и Спрашивающим (в другом переводе – между философом и филологом), причём свою роль в беседе немецкий мыслитель обозначает как «Спрашивающего». Филолог же – японец. Для европейской культуры, начиная со времён древних греков, точкой отсчёта в диалоге было именно вопрошание, в то время как для представителя японской культуры, прежде всего, характерно умение слушать, безмолвно внимать голосу мира. Разговор персонажей показывает движение мысли, устремляющейся за пределы известных определений культуры, к миру, не имеющему определения. Неопределенность и недосказанность речи раскрываются в диалоге и находят своё воплощение в японской культуре молчания. Поэтому в разговоре персонажей «Из диалога о языке…» большую роль играет слушание. По мысли Хайдеггера, «говорение есть … даже не одновременно, но прежде всего слушание», слушание языка, которым мы говорим (Хайдеггер, 1993: 266). В речь входят производные от этого слова экзистенциалы: «Lage» – «расположение», «Verständnis» – «понимание», Zuhören – «слушание», Schweigen – «молчание». Эти экзистенциалы можно назвать важнейшими в межличностном взаимодействии. Мерло-Понти, всю жизнь неустанно искавший онтологические основания феномена человеческой речи, «особенно значительным считал момент речи, когда высказываемое собеседником воспринимается Другим» (Кириллов, 2016).
За внешней словесной вопросно-ответной оболочкой диалога явственно проглядывает исходная структура – всеобъемлющая пустота мира, которую в европейской трактовке можно назвать «экзистенциальным полем», средой существования языка. Участники диалога уделяют пристальное внимание языку, ими используются элементы философского вопрошания: вопросы собеседников скорее адресованы не партнеру, а самим себе, поэтому разговаривающие не всегда ожидают ответа. Здесь, безусловно, играет роль японская манера вести диалог. Беседа лишь пролог к подлинному диалогу о языке, «вступление к отношению к языку», Gespräch, по замечанию Бибихина. Японец убеждён, что «ход такого диалога должен был бы иметь особенный характер, которому отвечало бы больше молчание, чем говорение» (Хайдеггер, 1993: 301).
Недосказанность, как известно, восполняется в подобном диалоге жестами, мимикой, позой, смехом, плачем и др. Эти средства общения порой выразительнее, чем слово. Хайдеггер противопоставляет подобное молчание, когда слова уже не нужны, «болтовне», противоположному полюсу человеческой коммуникации, которая извращает фундаментальное отношение человека к миру. Подобная «болтовня», т. е. Gerede (нем. разговор, болтовня, рассуждение), является одним из свойств неаутентичного Dasein, представляющего собой некую спонтанную повседневную речь, когда неважно, кто говорит, о чём и как говорит1. В самом деле, «экстаз коммуникации», наблюдаемый ныне, не располагает к подлинному общению, поскольку количество сказанного отнюдь не всегда определяет его качество. Проза, являющаяся основным способом коммуникации, близка к естественному языку, к его структуре, однако не всегда в многоголосье речи можно услышать голос отдельного человека. В то же время эта форма языка позволяет передавать мысли и чувства. Язык поэзии многообразен, он является объектом непрерывной рефлексии. Поэзия способствует выражению внутренней речи. Внутренний диалог позволяет человеку обрести язык, связывающий его с безмолвной природой, обретающей в результате «общения» свой особый, иносказательный язык, язык символов и метафор. Поэтическое слово выражает то, что трудно передать при помощи обычного языка.
Язык поэзии многообразен, это подлинный язык, он представляет собой объект непрерывной рефлексии. По мнению М. Хайдеггера, поэзия является воплощением языка, аутентичного Dasein. Специфика языка поэзии заключается в том, что поэтическое творчество не говорит о чём-либо определённо, а лишь указывает на что-то, намекает. Поэзия, как «сестра философии», по мнению Хайдеггера, выполняет лучше других жанров номинативную функцию языка. (Этой теме посвящена статья философа «Слово», в которой приводится одноимённое стихотворение Ш. Георге). Норна, героиня произведения, жрица судьбы, глубокомысленно изрекает: «Не быть вещам, где слова нет»1. В самом деле, называя вещи, человек непостижимым магическим образом присваивает их себе. Тем не менее в своём стремлении овладеть окружающим миром ему оказалось недостаточно одного лишь естественного языка, и он берёт себе на вооружение всё новые искусственные языки. Сравнивая язык поэзии с научным языком, можно заметить, что у науки свой язык, язык искусственный . Наука формализует, форматирует, овеществляет язык, означающее в таком языке всё дальше отстоит от означаемого. Для поэзии, напротив, характерно употребление языка, в котором достигается наибольшая степень близости означающего и означаемого. По мнению современных исследователей, поэзия обладает определённым постоянством по сравнению с другими видами искусства. Так, для поэтического языка характерны повторения, или паттерны, образность, использование инверсий и других средств выразительности. Язык поэзии относительно стабилен. По словам же М. Бахтина, «для поэтического языка чужда оглядка на чужие языки, на возможность иного словаря, иной семантики, иных синтаксических норм»2. Наглядным примером может служить японская поэзия. Особую роль в ней играют сезонные слова («киго» キョーゴ ), которые используют в своём творчестве поэты различных эпох и столетий. Киго отражают погруженность поэта в природу. В известном хокку Басё «Весна уходит. Плачут птицы. Глаза у рыб полны слезами» слышен диалог поэта с миром, стремление найти общий с ним язык. Хокку – это тоже диалог, диалог во времени, диалог прошлого с настоящим, между прошлыми и нынешним поколениями, а не простое повторение уже сказанного. Между обычным языком прозы и языком поэзии существуют довольно тесные отношения. Так, естественный язык – язык прозы – позволяет поэтическому языку использовать традиционную фонологию и грамматику. В свою очередь прозаическая речь привносит в поэзию диалогизм. Б. Пастернак утверждал: «Стихи – это необработанная, неосуществленная проза…». Об интересе Хайдеггера к языку поэзии свидетельствует его обращение к творчеству таких немецких поэтов, как Рильке, Гёльдерлин, Тракль. Поэзия, по Хайдеггеру, является словесным основанием (Stiftung) бытия, они посредники между миром небесным и миром земным. Философ подчёркивает, что Рильке ставит человека перед Открытостью мира (Offene), мир при этом «мыслится сущим в целом» (Хайдеггер, 2017: 43). Открытость (Offenheit) – один из важнейших экзистенциа-лов бытия человека. Открытость впускает человека, но не допускает его к тайному, закрытому, неизведанному. Другими словами, открытость «втягивает» в непрояснённое. Чтобы получить доступ к закрытому, надо самому открыться, явить себя: «И хотя // Сказанья хороши, ибо полны // памяти Высочайшего, // всё-таки нужен Некто, // кто сможет их истолковать».
Стихотворение Гёльдерлина, словно продолжая эти размышления, проясняет, что закрытое, недосягаемое есть Бог (Высочайший). Путь к нему может открыть поэт, ибо ему дано право заполнить некий промежуток, установить связь между людьми и Богом. Диалогу (разговору – Sprachen), предполагающему разделение ролей, а порой и столкновение противоположных позиций, предшествует у Гёльдерлина изначальное единство с миром, которое выражает язык и в наибольшей степени язык поэзии. Единство разговора состоит во взаимодействии языка с миром. «Мы – люди – есмы – разговор», – заключает философ (Хайдеггер, 2017: 13). Ссылаясь на Гамана, немецкого просветителя ХVIII века, Хайдеггер пишет о размышлениях мыслителя о том, что такое разум, Га-ман приходит к выводу, что разум – это язык, а язык – это бездна, иначе говоря, язык – вместилище слов, мыслей, наречий и др.
Существо языка, его глубинное начало, по мнению Хайдеггера, обнаруживается также в поэзии Тракля, где читатель погружается не только в филологическую, но и философскую языковую пучину, отсюда эпитеты: «смутное», «смертное», «одинокое», «чужое», «мёртвое», «молчащее» и др. Причём здесь каждое слово несёт в себе несколько значений. Так, «чужое», «постороннее» может быть, с одной стороны, «изолированным, уединённым», с другой – стать «одиноким», что гораздо страшнее и трагичнее. В эссе «Язык» Хайдеггер приводит стихотворение Тракля «Зимний вечер» об одиноком страннике, ищущем приюта. Это небольшое, но очень глубокое произведение, смысл которого не лежит на поверхности, заканчивается строками: «Входит путник, тишина // Боль порога каменеет…» Вокруг строки «Боль порога каменеет» центрируется содержание (дискурс) произведения. Эта строка в стихотворении навевает понятие разрыва между мирами, разрыв заполняется болью. Хайдеггер говорит о «пороге», который «носит середину, находящуюся между двумя различными [точками]»: человеком и вещью, прошлым и настоящим, природой и миром. Здесь создаётся своеобразное переплетение: хиазма. А о «боли» Хайдеггер пишет приблизительно следующее: «Что такое боль? Боль разрывает. Она есть разрыв. Боль – это стык разрыва. Разрыв есть порог. Он носит середину, которая бывает между двумя различными полюсами. Боль сплачивает стык различия. Такое скреплённое болью единство различия он в дальнейшем именует Unter-Schied, в нём сосредоточена сущность языка (Sprachwesen) как события (Ereignis). Иными словами, поэзия оказывается посредником между миром повседневности и миром трансцендентного, в этом она сродни философии, неустанно ищущей возможность и форму выражения истины»1.
Философия в процессе своего становления последовательно использовала различные литературные жанры и художественные средства языка. Парменид и Гераклит писали гекзаметром (как Гомер), Платон предпочитал пользовался диалогом. Зачинатель логики Аристотель активно задействовал в своём творчестве форму трактата. Видимо, окончательная цель философии заключается в том, чтобы восстановить изначальную связь не столько между человеком и Богом, сколько между человеком и безмолвным миром. Безмолвные вещи превращаются в слова, которые тоже обретают вещественность. М. Мерло-Понти полагал, что философия является превращением молчания в речь и наоборот. Философ утверждал, что человек пришёл в этот мир, чтобы мир с его помощью сумел заговорить (Вдовина, 2008). М.М. Бахтин также интерпретирует слово как событие. Русский философ, как и Хайдеггер, размышляет о весе слова, стремясь вернуть ценность нашим речам. Он убеждён, что наш язык задевает нас больше, чем мы думаем. Бахтин в своём раннем творчестве отмечал, что для того, чтобы представить изнутри бытие – событие, в котором совершается поступок, нужна вся полнота слова.
Тем не менее, В. Бибихин в работе «Слово и событие» отмечает, что у Бахтина слово оторвано от своих бытийственных основ. Потому событие оказывается «безъязыким, содержанием, дожидавшимся формы от материала…». Напротив, мысль Бахтина о том, что «слово не вещь, а вечно подвижная, вечно изменчивая среда», кажется Бибихину плодотворной. Представляя собой среду, слово становится причиной «мира как согласия»2. Такой естественной средой существования слόва Бахтин, очевидно, считает полифонию. Исследуя творчество Ф.М. Достоевского, философ отмечает, что для создания своих образов, индивидуализации языка персонажей Достоевский вместе с героями «спускается на улицу, в разноголосицу», там весь язык «разобран» индивидами. В результате читатель слышит «карнавально разнузданный диалог», создаётся «полифония», среда, в которую погружаются герои. В самом деле, если выйти на улицы Петербурга времён Достоевского, можно услышать целую какофонию самых разнообразных звуков: скрип грузовых телег, игру шарманки, шуршание щегольских колясок, крики кучеров, споры или просто пустую болтовню людей… Автор проводит читателя по этим улицам, через этот безумный ад города… Потом же наступает выжидающая тишина: так происходит и в романе, и на самом деле3. В произведениях Достоевского создаётся драматургия изображённых событий: во время тишины герои пытаются осмыслить содеянное ими. Сталкиваются не только слова, но и идеи героев, их поступки. Тем не менее сказать, что Бахтин вовсе не касается онтологического аспекта проблематики интерсубъективности, нельзя. Мыслитель, например, справедливо полагал, что полное отождествление человека с другим человеком в принципе невозможно во многих смыслах, в том числе и в онтологическом (Дьяконов, 2006). Не случайно ключевым для понимания отношений автора и героя для Бахтина является понятие «вненаходимости» (экзотопии). Значимо, что для интерпретации онтологии бытия Хайдеггером используется понятие Dasein, которое характеризует человеческое существование как бытие-в-мире. Таким образом, Dasein оказывается у Хайдеггера, в отличие от события Бахтина, всегда вписанным в определённый онтологический контекст. Связь человека и мира осуществляется через язык («дом бытия»). Язык есть событие. Поэзиия, по мысли Хайдеггера, находится в особом изначальном отношении с языком. Она является «праязыком», «и существо языка должно быть понято из существа поэзии» (Хайдеггер 2017: 18).
И, тем не менее, точка зрения М. Бахтина вполне оправдана, поскольку человек – единственное существо, способное создавать собственные миры. И всё же миры автора производны от того мира, который явил самого человека и его сознание. Герои произведения – инобытие самого автора и Других, с которыми он взаимодействует. Бахтин, используя термин «вненаходи-мость», описывает отношение автора к герою. Подлинное и неподлинное Dasein , различаемые Хайдеггером, означают возможность присутствия и контакта с собой и с миром. Событие («событие бытия») – «центральное понятие ранней бахтинской философии» и один из ключевых концептов философии М.М. Бахтина в целом (Аванесов, 2017). Событие конституировано человеческим поступком; последний же осуществляется как единственная форма активного участия человека в бытии сущего. Однако ранняя концепция философии поступка не нашла в творчестве Бахтина окончательного завершения в его философии языка. В этом проявляется известное раздвоение в новоевропейской философии уже со времён Декарта: духа и плоти, души и тела, а значит и слова и дела, являющееся характерным для новоевропейской философии.
Раздвоение затронуло и толкование языка, разделение слова на означающее и означаемое в формализме. Бахтин пытается его преодолеть, но не всегда последователен в этом своём стремлении. Бибихин справедливо указывает на отрыв формы от содержания в философии языка Бахтина. Возникшая пропасть между миром и языком заполняется Бахтиным фигурой автора художественного произведения, но последний способен создавать лишь вымышленные миры. Для Хайдеггера активным действующим началом оказывается не автор, а язык. Язык – то, что фундирует индивида с его опытом и его жизненным миром. Хайдеггер уповает на одну из его важнейших функций языка. Подлинный язык для него это Sage, который одновременно является Zeige. Хайдеггер показывает сходство и различие слов: указать, показать (Zeigen), сказать (Sagen), сказ (die Sage), каз (die Zeige), которые привносят в язык и разговор (Sprache) разные смыслы и оттенки . Язык не просто показывает вещи, он преобразует мир, рекультивирует его, превращает из хаоса в космос. Разнообразные поступки героев Достоевского, их преступления, сомнения и страдания, переживания по поводу невыраженного Бахтин именует термином диалог, полагая, что это основа гуманитарного мышления: «…диалогическая взаимоориентация становится… как бы событием самого слова, изнутри оживляющим и драматизирующим слово во всех его моментах»1. В то же время произведения Бахтина намечают предпосылки лингвистического переворота в философии, определяемого как имманентный, что подтверждается как развитием самой философии, так и социальными основаниями. Философом исследуются гносеологические, психологические и коммуникативные возможности языка в диалоге.
«Идея» диалога для Бахтина оказывается важнее, чем слово как материал, идея – это «живое событие», возникающее на пересечении двух или нескольких сознаний2. Тем не менее, для того чтобы подлинный диалог состоялся, необходимо выполнение ряда условий, прежде всего, должно состояться «событие истины», а истина не может родиться в споре сознаний, диалогическом или полифоническом, она непременно должна вызреть. В языке происходит некое чередование слова и молчания, поскольку ответ на любое вопрошание предполагает паузу. А для этого, в свою очередь, необходима подходящая среда, о которой упоминает Бахтин. Только в такой среде возможно восстановление «ранней выжидающей тишины»3.
Впрочем, само творческое наследие М.М. Бахтина, по оценке многих исследователей, многогранно и полифонично, и оно, вероятно, предполагает, а возможно, и провоцирует неоднозначные интерпретации.
Для критика Бахтина Бибихина особое значение приобретают отношения между людьми, делающие возможными общение между ними, а не форма общения (будь то диалог или монолог). Понимаемое в этом русле слово является условием существования мира как согласия, оно становится «событием мира»4. Даже внутренняя речь, представляющая диалог с самим собой, предполагает согласие внутри собственной самости. Такое толкование наследия Бахтина находится в русле феноменологической традиции. Эта идея имплицитно присутствует уже у Гуссерля, который более других феноменологов отдавал предпочтение философии сознания по отношению к философии языка. Тем не менее его «общий язык» человечества неотделим от языка естественного. Мы сами, мир, в котором мы живём, язык, на котором говорим, – всё это «нераздельно переплетено». Более того, в ряде работ Гуссерля присутствует так называемый «медиум означивания» – «Medium des Bedeutens». И.Н. Инишев справедливо замечает, «что «Медиум» … следует понимать не в смысле инструмента-посредника… а, скорее, в пространственном смысле: как среду (обитания)» (Инишев, 2011).
В дальнейшем идеи Гуссерля нашли своё продолжение в творчестве М. Мерло-Понти. В одной из своих работ философ говорит о важности существования «экзистенциального поля», в котором может реализоваться принцип обратимости как нового понимания природы интерсубъективности, предполагающего существование среды, в которой осуществляется обмен, обретение новых значений и смыслов, возникающих в пространстве взаимодействия участников коммуникации. Такая среда предполагает обратимую связь ощущающего и ощущаемого, воспринимающего и воспринимаемого, означающего и означаемого, в силу того, что в свете своего духовно-телесного единства участники коммуникации оказываются вписанными в текстуру плоти мира, имеющего зеркальную природу. Полифония, диалог и монолог – все эти формы коммуникации оказываются в перспективе такой оптики различными аспектами проявления человеческого бытия – с – Другими (Mit-Sein), в трактовке Хайдеггера. Философия языка в настоящее время вплотную подошла к проблеме собственных границ, к постановке вопроса о том, можно ли заставить говорить бытие мира на своём языке или стоит прислушаться к «голосам безмолвия». Ещё один вывод из этих феноменологических изысканий состоит в том, что основанием как бахтинской полифонии, так и философии поэтики Хайдеггера является живой разговорный язык, который струится подобно ручью из расщелин (или даже «бездн») единой плоти мира. Эти истоки, их наличие и чистота нуждаются в защите, сохранении и изучении. Поиски обоих мыслителей отнюдь не бесплодны, но и в том и другом случае перед нами лишь ускользающий идеальный язык («эйдетический язык», в терминах А.Ф. Лосева), который является лишь отдалённо приближенным образом естественного языка как уникального феномена. В заключение хотим заметить, что язык оказывается главным посредником между мыслью и миром. Но чтобы эта связь (посредничество) осуществилась, должно произойти «событие» или «весть», тогда диалог обретёт смысл. Причём речь здесь идёт не о трансцендентальном Другом (автора или героя) (как у Бахтина) и не о воображаемом трансцендентальном пространстве поэтического воображения (у Хайдеггера), речь идёт об имманентной связи участников коммуникации с плотью мира, естественной средой существования языка. Однако на практике такая связь между мыслью и миром не всегда осуществляется. Необходимо «событие встречи», иначе слово вместе с бесплотной мыслью уйдёт в «чертог теней». Предстоит сделать следующий шаг: изучить те факторы («экзистенци-алы»), которые способствуют возможности осуществления полноценного речевого взаимодействия и, наоборот, препятствуют этому. Изучение экстралингвистического контекста среды существования языка является в той или иной степени задачей всех наук о человеке, но поиск первоначал языка, его «скрытого» плана, «праязыка», а также определение того, что может считаться языком или становиться в конечном итоге таковым, остаётся задачей в первую очередь философии.
Список литературы На пути к подлинному языку философии: лингвистический поворот в русле интерпретаций М. Бахтина и М. Хайдеггера
- Аванесов С.С. Событие у М.М. Бахтина как происхождение сущего // Идеи и идеалы. Серия: Философия: проблемы, подходы, решения. 2017. Т. 1. № 1. C. 23–30. https://doi.org/10.17212/2075-0862-2017-1.1-23-30.
- Апаева А.Ю. М. Хайдеггер о поэзии бытия и о бытии поэзии Гёльдерлина // Философия и культура, № 9, 2014. С. 1334–1343.
- Бедаш Ю.А. О «скрытом родстве» философии и поэзии у М. Хайдеггера: материалы «Круглого стола», посвященного Дню философии ЮНЕСКО. Кыргызско-Российский Славянский университет / под общ. ред. И.И. Ивановой. Бишкек, 2004. С. 319–324.
- Бибихин В. Мир. Язык философии. СПб., 2020. 448 с.
- Вдовина И.С. М. Мерло-Понти: философия плоти и проблема социального // История философии. 2008. № 13. 49–68.
- Витгенштейн Л. Лекция об этике // Историко-философский ежегодник. М., 1989. С. 238–245.
- Даренский В.Ю. Онтологические «Шифры» философии диалога М.М. Бахтина // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2017. Т. 18, № 1. 2017. С.122–135.
- Дияконов Г.В. Психологічні аспекти діалогійної естетики і літературознавства М. Бахтіна // Соціальна психологія. 2006. № 6 (20). С. 35–46
- Дьяконов Г.В. Диалогийная концепция эстетики и литературоведения М.М. Бахтина // Социальная психология. 2006. № 6 (20). С. 35–46. (на укр.)
- Инишев И.Н. Гуссерль и философия языка (значение, образ, медиум) // НоваИнфо. 2011. Т. 1, № 5. С. 228–236.
- Кириллов Г.М. Опыт интерпретации поэтики Мандельштама в экзистенциально-феноменологической перспективе // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. 2016. № 1. С. 57–65. https://doi.org/ 10.18384/2310-7227-2016-1-57-65.
- Хайдеггер М. Время и бытие: cтатьи и выступления / сост., пер., вступ. ст., коммент. и указ. В. В. Бибихина. М.: 1993. 447 с.
- Хайдеггер М. О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль / сост., пер. с нем. Н. Болдыревой. М., 2017. 240 с.