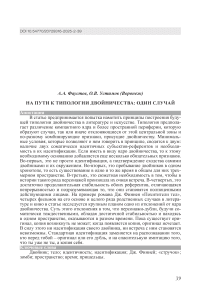На пути к типологии двойничества: один случай
Автор: Фаустов А.А., Устимов О.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка наметить принципы построения будущей типологии двойничества в литературе и искусстве. Типология предполагает различение компактного ядра и более пространной периферии, которую образуют случаи, так или иначе отклоняющиеся от этой центральной зоны и по разному комбинирующие признаки, присущие двойничеству. Минимальные условия, которые позволяют о нем говорить в принципе, сводятся к двум: наличие двух соматически идентичных субъектов референтов и необходимость в их идентификации. Если иметь в виду ядро двойничества, то к этому необходимому основанию добавляется еще несколько обязательных признаков. Во первых, это не просто идентификация, а подтверждение сходства самими двойниками и их окружением. Во вторых, это пребывание двойников в одном хронотопе, то есть существование в одно и то же время в общем для них трехмерном пространстве. В третьих, это сюжетная необходимость в том, чтобы в истории такого рода персонажей произошла их очная встреча. В-четвертых, это достаточно продолжительная стабильность обоих референтов, отличающаяся непрерывностью и подразумевающая то, что они становятся полноценными действующими лицами. На примере романа Дж. Финнея «Похитители тел», четырех фильмов на его основе и целого ряда родственных случаев в литературе и кино в статье исследуется крупным планом одно из отклонений от ядра двойничества. Суть этого отклонения в том, что персонажи дубли, будучи соматически тождественными, обладая достаточной стабильностью и находясь в одном пространстве, оказываются в разном времени. Пока существует оригинал, копия возникнуть не может; когда появляется копия, оригинал исчезает. В силу этого ни идентификация своего двойника, ни встреча с ним становятся невозможны. Стандартная идентификация заменяется на распознавании того, кто перед тобой - оригинал или его дубль, и на спасительную имитацию того, что ты уже не ты, а копия себя.
Двойник, тело, идентичность, идентификация, дж. финней, «стручок», зомби, пространство, время, пришельцы
Короткий адрес: https://sciup.org/149148630
IDR: 149148630 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-39
Текст научной статьи На пути к типологии двойничества: один случай
The article attempts to outline the principles of building a future typology of doubles in literature and art. The typology presupposes a distinction between a compact core and a more extensive periphery, which is formed by cases that deviate from this central zone in one way or another and combine the features inherent in doubles in different ways. The minimum conditions that allow us to talk about them in principle, come down to two: the presence of two somatically identical referentsubjects and the need for their identification. If we keep in mind the core of doubles, then we must add several more mandatory signs to this necessary foundation. Firstly, it is not just identification, but confirmation of the similarity by the doubles themselves and their surroundings. Secondly, it is the presence of doubles in the same chronotope, that is, existence at the same time in a three-dimensional space which is common for every one them. Thirdly, it is plot necessity in such stories for these characters to meet face-to-face. Fourth, it is a fairly long-term stability of both referents, characterized by continuity and implying that they become full-fledged actors. Using the example of J. Finney’s novel “Body Snatchers”, four films based on it, and a number of related cases in literature and cinema, the article explores in close-up one of the deviations from the core of doubles. The essence of this deviation is that the characters-doubles being somatically identical, having sufficient stability and being in the same space, end up in different times. As long as the original exists, a copy cannot arise; when a copy appears, the original disappears. Because of this, neither identifying one’s double nor meeting with it becomes impossible. The standard identification is replaced by recognizing who is in front of you – the original or his double, and by a saving imitation of being no longer you, but a copy of yourself.
s
Double; body; identity; identification; J. Finney; “pod”; zombies; space; time, aliens
О двойниках и двойничестве в искусстве существует огромная научная литература, свидетельствующая не просто о разнообразии истолкований, но о вполне очевидной тенденции – к безбрежному расширению и размыванию этих категорий (из последних монографий см.: [Bär 2005; Vardoulakis 2010; Dorfman 2020]). В ряде работ, в которых сжато обсуждалась и история вопроса, мы уже пытались обосновать более узкое понимание двойниче-ства, отсекающее те родственные случаи, которые не удовлетворяют набору достаточных для подобной интерпретации признаков (см.: [Фаустов 2019; Фаустов 2020; Фаустов 2023, 21–66]). Главная предпосылка настоящей статьи иная. Жесткую интерпретацию мы будем рассматривать как ядро мягкой типологии, периферийные элементы которой обладают не всем комплектом признаков, но теми или иными их сочетаниями, включающими, при любом раскладе, общее основание, необходимое для того, чтобы квалифицировать эти элементы как относящиеся к двойническому дискурсу. Соответственно, наша магистральная задача – наметить (и на одном из примеров развернуто проследить) возможные отклоняющиеся от ядра комбинаторные варианты двойничества, надстраивающиеся над тем миниму- мом свойств, без которого, как мы полагаем, говорить о двойниках лишено терминологического смысла.
Следуя за логикой предыдущих работ, отчасти уточняя и дополняя ее, начнем с базового определения: двойники – это персонажи, наделенные абсолютным (или почти абсолютным) зримым, телесным сходством, которое они способны взаимно удостоверить и которое могут подтвердить другие. В перспективе этого определения минимальные условия, которые требуются для констатации того, что перед нами одна из версий двойничества, можно сформулировать так. Во-первых, это наличие двух соматически идентичных субъектов-референтов; во-вторых, это напрямую связанная с первым условием необходимость в распознавании таких субъектов (поскольку телесность сама по себе перестает выполнять в подобных обстоятельствах свою обычную семиотическую, различительную функцию).
В версии, образующей ядро типологии, к этому добавляется еще несколько признаков. Прежде всего, двойники как таковые должны находиться в одном хронотопе, то есть существовать в одно и то же время в общем для них трехмерном пространственном континууме. А с этим, в свою очередь, непосредственно соотносятся два дополнительных момента. Один из них – событийный: в истории такого рода персонажей должны совершаться их очная встреча, взаимная идентификация и дальнейшее сосуществование, предполагающее либо (как правило) конфронтацию, либо союзничество. Другой момент (предпосылочный для первого) подразумевает достаточно продолжительную стабильность обоих референтов в объединяющем их хронотопе.
И один, и другой признак не раз подвергались в литературе и кино своеобразной сюжетной рефлексии, означивающей точки перехода от не-двойниче-ства (или отчасти двойничества) к двойничеству как таковому. К примеру, в романе Э. Эштона «Микки-7» (2022) (и в снятом на его основе фильме Пон Джун Хо «Микки 17» (2024)) заглавный герой – это так называемый «расходник», который отправился в космическую экспедицию, согласившись на участие в чреватых гибелью экспериментах и последующее воссоздание на биопринтере (с сохранением личного тождества, в том числе непрерывной памяти). Этот нарратив о клонах превращается в нарратив о «настоящих» двойниках тогда, когда в результате ошибки появляется очередная копия (Микки-8 – в романе, Микки 18 – в фильме), между тем как ее предшественник остается в живых, то есть когда два идентичных субъекта-референта встречаются друг с другом и события в течение некоторого времени начинают развертываться по собственно двойническому сценарию (с движением от соперничества и даже попыток уничтожить друг друга – к дружбе).
Стабильность референтов – еще более основополагающий признак, который в силу этого эксплицировался и обыгрывался особенно часто. Именно неустойчивая воплощенность, проявляющаяся хотя бы в одном из таких качеств, как непродолжительность бытия, ослабленная осязаемость, изменчивость формы, двухмерность, не позволяет рассматривать в качестве двойников привидения, тени, живописные изображения, отражения в зеркале и т.д. – до тех пор, пока они обладают своей исконной природой. Точкой перехода здесь должна послужить мутация подобных качеств, и в двойническом дискурсе (от «Тени» Г.Х. Андерсена (1847) – до «Венецианского зеркала…» А.В. Чаянова (1923)) мы действительно не однажды наблюдаем вочеловечивание лишь частично воплощенных в своем обычном состоянии референтов, обращающее их в полноценных двойников. (Заметим в скобках, что дискурс этот, насколько можно судить, не знает историй о столкновении референта-подлинника со своей ожившей статуей.) Могут быть при таком повороте событий и промежуточные случаи, на один из которых мы сошлемся. В рассказе Д.К. Бангза «Карлтон Баркер, первый и второй» (1898) двойник – это некий материализовавшийся (но не утративший целиком сверхъестественных черт) потусторонний дух, который до поры до времени обеспечивает алиби своему оригиналу – преступнику и убийце. При этом сам инфернальный персонаж воспринимает свое человеческое подобие как двойника (double), от которого мечтает освободиться. И в минуту казни Баркера-человека Баркер-дух бесследно растворяется в воздухе (вместе с кубком вина в руке): персонаж снова обретает свою нормальную природу.
Двусмысленная референция в последнем примере – кто же из Баркеров первый, а кто второй? – выводит нас еще к двум признакам, более вариативным по своей реализации, но от этого не менее важным для понимания двой-ничества и его ядра. Как правило, актантная двойническая формация является асимметричной – по формуле: я – не двойник моего двойника. И как раз эта асимметрия служит сюжетным поводом для возникновения соперничества между персонажами: стандартная ситуация состоит в том, что двойник не желает признавать свою «вторичность» (или признаваться в ней) и пытается занять место подлинника. Стремление к уяснению того, кто есть кто, под влиянием формационной инерции может проявляться даже в тех случаях, когда это не влечет за собой никаких очевидных событийных следствий. Так, в романе Ж. Сарамаго «Двойник» (2002) во всем идентичные телесно персонажи, для того чтобы отыскать хотя бы какие-то отличия друг от друга, вспоминают о вполне «акушерском» аргументе и ссылаются на то, кто их них на сколько минут раньше родился на свет (в фильме Д. Вильнёва «Враг» (2013), снятом по роману, все подобные разбирательства сокращены до минимума). Но у этого более или менее универсального правила есть значимые исключения. Например, в романе Жан-Поля «Зибенкэз» (1796–1797), в котором, как известно, и было изобретено слово «Doppeltgänger» (с буквой -t- посередине, впоследствии выпавшей), двойники – персонажи симметричные, не размышляющие о том, кто чей дубль, и, как следствие, не враждующие, а всячески помогающие друг другу.
Асимметрия и различные способы ее тематизации и сюжетного воплощения соотносятся еще с одним вариативным признаком двойничества – с вопросом о происхождении героев-дублей. Нормой может считаться такое положение дел, когда вопрос этот не задается вообще или на него не дается никакого внятного ответа. Бытие двойников, в конечном счете, принимается как необъяснимый, но непреложный факт, как «игра природы» (по словам из набросков к предполагавшейся переработке «Двойника» Ф.М. Достоевского). Достаточно регулярно, однако, ситуация развертывается иначе. Во-первых (и об этом мы уже говорили), двойники могут появляться в результате превращения – обретения устойчивой антропоморфной оболочки визуальными образами, сверхъестественными существами и т.д. Во-вторых, иногда могут выстраиваться целые системы конкретных мотивировок, позволяющие истолковать наличие двойничества. Так, в «Эликсирах сатаны» Гофмана (1815–1816) история двойников начинается с того, что адские силы создают живое демоническое подобие написанного Франческо образа святой Розалии, а последующая череда уже человеческих дублей – это продукт разнообразных инцестов в проклятом свыше роде художника. А в «Двойниках» того же Гофмана (1822) со- матическая идентичность заглавных героев объясняется обстоятельствами их рождения: поскольку мать одного из них была тайно влюблена в мужа своей подруги, также ожидавшей ребенка, ее сын – под влиянием некоего магнетического миметизма – оказался точным повторением сына подруги, разрешившейся от бремени в тот же день и час. В-третьих, наконец (и такая версия, судя по всему, складывается не раньше второй четверти XX в.), двойники попадают в мир обычных – однократных – людей не естественным путем (каким бы неправдоподобным он ни был) и не за счет того или иного вмешательства сверхъестественных инстанций, а благодаря тому, что производятся самими людьми или – чаще – пришельцами из космоса.
На одном из таких случаев (и его типологических родственниках) мы и остановимся подробнее. Роман Дж. Финнея «Похитители тел» уже во время своей журнальной публикации в 1954 г. привлек внимание голливудских продюсеров. Права на экранизацию романа были выкуплены еще до выхода последней главы, и фильм Д. Сигела под названием «Вторжение похитителей тел» появился в 1956 г. Впоследствии роман будет адаптирован в кино еще три раза – в 1978 г. («Вторжение похитителей тел» Ф. Кауфмана), в 1993 г. («Похитители тел» А. Феррары) и в 2007 г. («Вторжение» О. Хиршбигеля). История этих экранизаций не раз становилась предметом исследовательского интереса. Наиболее основательной работой, посвященной по преимуществу первой картине, является монография Б.К. Гранта в серии «BFI Film Classics» [Grant 2010]. А подробный анализ всех фильмов франшизы был предпринят в рамках исследований ремейков в специальной главе книги К. Кнопплера [Knöppler 2017, 89–136].
Рамочная ситуация этого интермедиального текста – вторжение в человеческий мир блуждающей по космосу колонии существ – «стручков» («pods / seed pods»), которые занимаются тем, что замещают землян, порождая их телесные копии с измененной ментальностью, при том что тела-оригиналы после такой подмены обращаются в прах. Отметим сразу особое место в этом вариационном ряду четвертого фильма, в котором «стручков» как таковых больше нет, а есть наследующие им космические вирусы, способные ментально перепрограммировать зараженных, что, как мы убедимся, влечет за собой целый ряд немаловажных для нас эффектов.
Если рассматривать отношения «стручка» и человека в семиотическом аспекте, то в романе и в первом фильме перед нами иконическая логика: «стручок», находясь на расстоянии от человека, создает «предварительный набросок», «preliminary sketch» (метафора из романа Финнея [Finney 1955, 55]), который на глазах изменяется, все больше и больше уподобляясь человеку. Как только знак достигает полного сходства с референтом-оригиналом, он замещает его, обращаясь в референт-дубль. Во втором фильме наличествуют два типа таких отношений: сохранившийся из первого фильма иконический и новый – индексальный. В некоторых случаях «стручку» теперь нужно прикоснуться стеблем-щупальцем к человеку, чтобы «перекачать» его сущность и материализоваться в двойника. Индексальность служит каналом подпитки для достижения конечной иконичности. В третьем фильме этот второй вариант становится уже единственно возможным механизмом создания двойника. В четвертом же фильме процесс замещения персонажа-оригинала происходит без посредничества внешнего «наброска» и, соответственно, без порождения референта-дубля. В результате заражения (то есть перекодировки) человек испытывает ментальное перерождение, референтно оставаясь самим собою.
В истории о похитителях тел можно заметить один диагностически значимый мотив, выражающий особенности трансформации «стручков» в каждой новой итерации. Во время сцены погони за уцелевшими людьми в романе и в первом фильме двойники включают сигнал тревоги, сирену, оповещающую о том, что беглецы засечены и их нужно поймать. Во втором фильме внешняя сирена как бы интериоризируется – обращается в разинутый рот «стручка», производящего истошный визг при обнаружении человека. При этом «стручки» еще протягивают палец в сторону людей: благодаря такому жесту сигнальная функция звука обретает указательный характер. Третий фильм перенимает эту модель один в один, а вот четвертый усиливает оральную концентрацию предыдущих, уплотняя материальность голоса до направленной на новую жертву рвоты, а сигнальность – до контагиозности. Квази-стручкам четвертого фильма больше не нужно никого оповещать, поскольку каждый из них имеет возможность использовать оральный канал более эффективно. От фильма к фильму, другими словами, рот «перерожденца» наращивает свой индексаль-ный функционал.
«Стручков» можно сравнить с одним популярным монстром фильмов ужасов второй половины XX в. – с зомби (см.: [Головачева 2013, 251]; из литературы о зомби в целом см.: [Zombie Theory… 2017; Theorising the Contemporary Zombie… 2022]). В четвертом фильме похитители тел – вирусы – попадают на Землю вместе с антропогенной космической ракетой. Тем самым «Вторжение» получает предысторию, совпадающую с завязкой первого современного фильма о зомби – «Ночи живых мертвецов» (1968) Дж. Ромеро, где радиация, принесенная на Землю спутником, влияет на мозг умерших, заставляя трупы вставать из могил. Для зомби рот также является ключевым орудием – органом, пожирающим плоть и инфицирующим зомби-вирусом. Как зомби, так и квази-стручок используют рот для распространения вируса, но один заражает чужое тело его поглощением, а другой – исторжением из себя рвоты. Драйвером зомби выступает нехватка, которую они компенсируют; драйвером квази-стручков – избыток, который они из себя выплескивают.
Во втором фильме Дж. Ромеро «Рассвет мертвецов» (1978) добавляется важная деталь поведения зомби, которые сохраняют рудиментарные привычки времяпрепровождения до их воскрешения: они шатаются по торговым центрам, смотрят телевизор, облачаются в спортивную экипировку и т.п. Эти занятия зомби объясняются в фильме остаточной работой мозга: в едва функционирующей нервной системе удерживается память о былой жизни. Но подобное же сохранение действий из прошлой жизни мы видим и в истории о похитителях тел, особенно отчетливо (в силу его акцентированной сомнамбу-личности) – в концовке второго фильма (вышедшего в том же году, что и «Рассвет мертвецов»), когда персонажи, не произнося ни единого слова, совершают какие-то операции в лаборатории, главный герой для чего-то вырезает статью из газеты и кладет в карман, выходит на знакомую улицу и т.д., хотя все эти люди уже замещенные пришельцами двойники. Зомби и собственно «стручки» в этом подобны, но разница заключается в том, что имитационное поведение дублей имеет миметическую – иконическую – природу (новое тело подражает оригиналу), в то время как аналогичное поведение зомби обусловлено физиологической памятью восставшего из земли тела.
С опорой на сказанное попытаемся далее представить в форме символической записи различные стратегии замещения человеческого субъекта как соматически воплощенного референта, добавив к историям о «стручках» и зом- би еще несколько родственных случаев, связанных с вторжениями из космоса. Человеческий субъект мы будем обозначать как «S», его двойника – как «$», инопланетных существ – как «А», инопланетные технологии, способности или явления, оказывающие влияние на людей, – как «а». Отметим, что наличие «А» необязательно для «а», поскольку влияние может быть вызвано внеземной силой вроде облучения космической радиацией или заражения космическими вирусами, не требующих участия персонифицированных пришельцев.
Стратегия собственно «стручков» будет тогда выглядеть как A+a+S=$, поскольку «стручки» (А) воздействуют (а) на тела людей (S), чтобы произвести внешне тождественные, но обладающие иной ментальностью новые тела ($). А в четвертом фильме, где «стручков» как таковых нет, эта формула приобретет вид а+S=S(a), где S(a) – модифицированный под влиянием вирусов (а) исходный субъект-референт. Учитывая же, что передача космической инфекции происходит эпидемиологическим путем (от зараженного к зараженному), формулу вполне можно переписать в итоге как S(a)+а+S=S(a). Добавим также, что в отличие от всех предыдущих вариаций сюжета во «Вторжении» финал ознаменован тем, что «перерожденцев» земная наука научится излечивать и возвращать в исходное состояние, которое может быть описано успокоительным равенством S=S.
Роман Финнея и первые три его экранизации традиционно сближают с романом Р. Хайнлайна «Кукловоды» (1951), однако, как мы сейчас убедимся, логика захвата человеческих тел в двух этих историях во многом различна. У Хайнлайна пришельцы с Титана, разумные слизни, вторгаются на Землю и незаметно пытаются ее оккупировать, пользуясь своею способностью прилипать к верхней части спины своих жертв и управлять их действиями и мыслями (в романе титанцы не раз сравниваются с наездниками). Другими словами, пришельцы (А) воздействуют (а) на тела людей (S), чтобы осуществлять свои цели, поддерживая в оседланных людях их собственную ментальность на минимальном уровне, необходимом для использования памяти и жизненного опыта жертв. Символически эту стратегию можно записать как А+а+S=S(А), где S(A) обозначает результат временного соединения тел (и отчасти сознаний) человека и слизня по принципу паразитарного симбиоза, поскольку титанцы сами по себе – без своих носителей, которых они по мере надобности могут менять, – никакую практическую активность проявить не в состоянии.
Варианты внеземных стратегий подмены людей можно легко расширить, если обратиться хотя бы к популярным в 1950-е гг. научно-фантастическим фильмам ужасов о вторжениях инопланетян, вышедших примерно в одно время с романом Финнея и первой его экранизацией. Так, в фильме У.К. Мензиса «Пришельцы с Марса» (1953) приземлившиеся рядом с неким полунауч-ным-полувоенным объектом инопланетные саботажники (А) пытаются с помощью вживленных в шею людей чипов (а) помешать созданию космического оружия. Чипы позволяют контролировать жителей городка и использовать для совершения диверсий. Символическое обозначение этой стратегии можно представить как A+a+S=S(a), где на выходе мы получаем такой же результат, как и в четвертом фильме о «стручках», только место вирусов занимают чипы, внедряемые марсианами в человеческое тело.
В фильме Д. Арнольда «Оно пришло из далекого космоса» (1953) фабула бесхитростна: инопланетный корабль потерпел крушение на Земле, поэтому пришельцам нужно незаметно обзавестись запчастями. С этой целью инопланетяне похищают людей и принимают их форму, чтобы свободно перемещаться по городу. Функция похищения здесь проста: оно необходимо не для какого-то воздействия на жертв, а для их изоляции, которая должна предупредить распространение разоблачающей пришельцев информации. Поэтому стратегию инопланетян можно описать как A+S=A($)+[S], где A($) указывает на то, что перед нами не созданный двойник, а лишь временная человеческая форма, S в правой половине формулы обозначает сохранение в наличии исходного субъекта-референта, а квадратные скобки – исключение этого субъекта (до самого последнего момента) из действия и из визуального поля.
Наиболее стратегически близким к «стручкам» оказывается монстр из рассказа Д.В. Кэмпбелла мл. «Кто идет?» (1938) и его знаменитой второй экранизации Дж. Карпентера «Нечто» (1982), в которых сотрудники исследовательской станции в ледяной пустыне Антарктиды сталкиваются с инопланетным существом – Нечто. Существо это является не цельной личностью, а скорее совокупностью клеток-индивидов, которые при соприкосновении с биологическим субъектом (в том числе с человеком) способны пожирать его клетки и создавать их имитацию, а затем постепенно, скрытно от чужих глаз и поначалу, видимо, от самого этого субъекта пересоздавать его, порождая в конечном итоге идентичную ему копию – ипостась Нечто. Формулой этой стратегии будет A+a+S=$, где А – Нечто, а – его умение мимикрировать под пожираемое, $ – новый референт-дубликат, как и в истории о собственно «стручках». Фундаментальное отличие состоит, однако, в том, что в случае похитителей тел работает соотношение «один “стручок” – один дубликат человека», в то время как Нечто пребывает в непрерывном движении перевоплощения («одно Нечто – произвольное множество копий биологических субъектов»), поэтому формулу можно было бы переписать как A+a+S1…Si=$1…$i, где серии S и $ говорят о таком не прекращающемся (до полного замещения всех живых существ на Земле) процессе.
Что касается сравнения «стручков» с зомби, то тут предварительно нужно провести важное разграничение. Если взять классического гаитянского зомби, то связанные с ним фабулы ничем не отличаются по своей общей логике от любых гипнотических / магнетических или некромантских историй. Колдун-вуду управляет телом с помощью магии: его стратегия – A+a+S=S(a), где А – колдун (магнетизер / гипнотизер / некромант и т.д.), a – его сила, S – тело, на которое он воздействует, S(a) – тело под воздействием. Иной будет формула для поведения зомби, появившихся после фильма Дж. Ромеро «Ночь живых мертвецов», в котором колдуна нет, а слово «зомби» относится к ходячим мертвецам. В этом фильме, как мы уже упоминали, причиной воскрешения является облучение из космоса, принесенное на землю спутником. Таким образом, формулой здесь будет (как и в четвертом фильме о похитителях тел) a+S=S(a), где a – облучение, S(a) – частично оживший труп. Интересно, что в позднейших фильмах о зомби при отказе от идеи космического облучения и замене его на что-то другое логика остается прежней: место облучения занимает настолько же безличный зомби-вирус. Такое исключение ответственного за нашествие зомби наблюдается даже при гибридизации двух их видов – гаитянского и ходячего трупа, как, например, в фильме Л. Фульчи «Зомби 2» (1979). При том, что причиной «воскресения» мертвых тут называется магия вуду, нам не показывают ни одного колдуна, из-за чего процесс зомбификации остается в восприятии и зрителей, и героев безличным и объективным.
Итак, вся эта пестрая картина, рамки которой при желании можно распространить, с некоторыми коррективами, и на «нефантастические» тексты, дает возможность наглядно убедиться в том, что нарративы, которые могут показаться (и зачастую кажутся исследователям) помеченными двойническим знаком и в этом смысле аналогичными друг другу, в действительности имеет резон рассматривать в такой перспективе только тогда, когда в правой части предложенной символической записи появляются $ или, по крайней мере, A($). Мы еще вернемся к этому последнему допущению, а пока взглянем на роман Финнея (и на три его первые киновариации) как на выразительное отклонение от ядра двойнической типологии, не приводящее, однако, к утрате историей о «стручках» своего двойнического характера. Объектом сюжетного эксперимента здесь становятся почти все признаки, актуальные для конструирования ядра, которое – в своем идеальном варианте (когда нет никаких мотивировок возникновения двойников) – может быть описано формулой S=$.
Начнем с перечисления того, что в нарративе о похитителях тел вписывается в жесткую модель двойничества. Прежде всего, это существование двух соматически идентичных субъектов, которые обладают достаточной стабильностью и находятся в одном общем пространстве; запускается при этом (хотя и особым образом) и процедура идентификации. Кроме того, отношения между дублями являются радикально асимметричными. Так что наличие минимума (и даже больше чем минимума) необходимых условий для того, чтобы говорить о принадлежности этих нарративов к двойническому контексту, сомнений не вызывает. Однако к этому добавляется то, что сразу же переформатирует модель. Главное тут заключается в том, что, пребывая в одном пространстве, субъекты-референты пребывают в разном времени и это оборачивается целым рядом следствий.
Функционирование дублей в истории о «стручках» подчинено принципу дополнительной дистрибуции: пока существует оригинал, копия возникнуть не может; когда появляется копия, оригинал исчезает (во втором и третьем фильмах мы становимся свидетелями того, как тела-исходники буквально рассыпаются в прах). В силу этого ни идентификация своего двойника, ни встреча с ним оказываются невозможны. Но событийно и семиотически реализуется такая дистрибуция по-разному. В романе и в первых двух фильмах герои могут наблюдать за изменениями их «набросков» (в том благоприятном случае, если их вовремя обнаруживают), а в третьем фильме сталкиваются со «стручками» в тот момент, когда те занимаются их сканированием, перекачиванием. Герои узнают себя не в своем двойнике, а именно в этом его «наброске», причем в третьем фильме формирующийся клон успевает проявить по отношению к персонажам-людям крайне враждебную витальную активность.
Вместо традиционного опознания своего двойника и различения себя с ним магистральной ситуацией в романе и кинофраншизе (прежде всего в первых двух фильмах) становится другое. Во-первых, это необходимость в распознавании того, кто перед тобой – оригинал или его дубль; а во-вторых, такая же необходимость в спасительной имитации того, что ты уже не ты, а копия себя, поскольку «стручки», как и некоторые другие из уже знакомых нам инопланетных существ, нацелены на то, чтобы заместить всех землян. Привычный расклад, когда два двойника находятся в мире обычных людей, которые, как это удачно сформулировал слуга господина Голядкина, «по двое никогда не бывают» [Достоевский 1972, 180], в истории о «стручках» выворачивается наизнанку (так же как в нарративах о зомби или о Нечто). В ней неуклонно убывающие персонажи, живущие «по одному», оказываются в разрастающемся сообществе дублей. Так что уже поэтому неудивительно, что в первом случае ключевой проблемой выступает идентификация своего двойника, а во втором – идентификация чужих двойников и стремление замаскировать свою подлинную, естественную идентичность. Эта сюжетная идея проглядывает даже в «Кукловодах» (с их не двойнической, а симбиотической логикой), где оседланных людей разоблачают по небольшому горбу на спине и где американские власти вводят для безопасности режим «голая спина», обязывающий граждан быть по пояс обнаженными.
Одним словом, в нарративе о похитителях тел (так же как, в ином развороте, и в текстах о Нечто) пусковым механизмом для отклонения сюжета от двойнического ядра служит фактор времени, обусловливающий невозможность встретиться с копией себя и идентифицировать ее. И это позволяет уточнить критерии соматической стабильности субъектов-референтов. Не вдаваясь в подробный анализ, заметим под конец, что даже на основании привлеченных примеров мы можем теперь ввести два взаимосвязанных дополнительных ограничителя в тезис о необходимой устойчивости дублей в трехмерном мире (независимо от того, кто перед нами – $ или A($)). Во-первых, за отпущенное им время они должны стать полноправными действующими лицами, а не просто инициаторами событий или объектами разгадывания. Во-вторых, существование дублей должно отличаться непрерывностью. Оба этих добавочных условия дают возможность, к примеру, отчетливее отграничить двойников от призраков (в их западной филиации), присутствие которых в событийном поле отличается либо однократностью, либо дискретной многократностью и которые поэтому не могут быть автономными акторами сюжета.
И еще один напрашивающийся вывод, который конкретизирует то, что мы сказали о двух минимальных условиях двойничества. Если наличие телесно воплощенных двойников – абсолютная константа, то распознавание, как мы могли удостовериться, – это уже величина переменная, и она может принимать по меньшей мере четыре значения: идентификация своего двойника, идентификация своего формирующегося двойника, идентификация чужого двойника, идентификация себя как двойника. Такой же переменной величиной выступает и общий для дублей хронотоп, который, как теперь понятно, способен раскладываться по осям пространства и времени. В этой статье мы сосредоточились на прослеживании экспериментов со временем, но можно было бы обратиться и к сценариям, когда двойники находятся в одном времени, но в разных, непересекающихся пространствах. Поэтому будущая типология двойничества (если резюмировать то, с чего мы начали) должна опираться не только на выявление различных комбинаций его признаков, на учет того, актуализируются они или нет и в каком сочетании актуализируются, но и на рассмотрение их как переменных, пробегающих серию возможных реализаций.