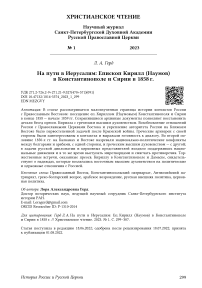На пути в Иерусалим: епископ Кирилл (Наумов) в Константинополе и Сирии в 1858 г
Автор: Герд Лора Александровна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История России и Русской Церкви
Статья в выпуске: 1 (104), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается малоизученная страница истории контактов России с Православным Востоком: посещение еп. Кириллом (Наумовым) Константинополя и Сирии в конце 1858 - начале 1859 гг. Сохранившиеся архивные документы позволяют восстановить детали бесед преосв. Кирилла с греческим высшим духовенством. Возобновление отношений России с Православными Церквами Востока и укрепление авторитета России на Ближнем Востоке было первостепенной задачей после Крымской войны. Греческие архиереи с своей стороны были заинтересованы в контактах и выражали готовность к диалогу. Во второй половине 1850-х гг. на Балканах и Востоке назревали национально-политические конфликты между болгарами и арабами, с одной стороны, и греческим высшим духовенством - с другой; в задачи русской дипломатии и церковных представителей входило поддерживать национальные движения и в то же время выступать миротворцами и смягчать противоречия. Торжественные встречи, оказанные преосв. Кириллу в Константинополе и Дамаске, свидетельствуют о надеждах, которые возлагались восточным высшим духовенством на политические и церковные отношения с Россией.
Православный восток, константинопольский патриархат, антиохийский патриархат, греко-болгарский вопрос, арабское возрождение, русская внешняя политика, церковная политика
Короткий адрес: https://sciup.org/140297247
IDR: 140297247 | УДК: 271.2-726.2-9+271.21-9:327(470+571)(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_1_299
Текст научной статьи На пути в Иерусалим: епископ Кирилл (Наумов) в Константинополе и Сирии в 1858 г
Личность епископа Мелитопольского Кирилла (Наумова), начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме в 1858-1864гг., неоднократно привлекала внимание исследователей [Титов, 1902; Лисовой, 2006; Смирнова, 2011]. По замыслу МИД, Русская духовная миссия должна была стать тем русским учреждением на Востоке, которое, используя традицию межцерковного диалога, положит начало восстановлению авторитета России на Ближнем Востоке. 23 марта 1857 г. император Александр II утвердил доклад А. М. Горчакова, в котором говорилось о необходимости назначить во главе возобновляемой миссии именно епископа, а не архимандрита. 13 октября 1857 г. архим. Кирилл (Наумов), инспектор Санкт-Петербургской духовной академии, был рукоположен во епископа Мелитопольского. В Константинополь он прибыл перед Рождеством того же 1857 г. Ему предстояли беседы с российским посланником А. П. Бутеневым, встречи с патриархом Константинопольским, высшими иерархами престола и проживавшими в столице главами других Церквей. Прибытие еп. Кирилла в Константинополь пришлось на непростой период отношений между Россией и греческими патриархатами Востока. Во время Крымской войны под давлением британской политики Константинопольский патриарх Анфим VI открыто выступал против России и был близок к тому, чтобы разорвать каноническое общение с Русской Церковью. По окончании войны, в 1857 г., контакты с Константинополем были восстановлены. Однако до полного взаимопонимания было далеко. В это время в Церкви наступает обострение национального вопроса, связанного с борьбой болгарского народа за независимость. Требования болгар иметь свое духовенство и богослужение на славянском языке удовлетворялись медленно и неохотно, несмотря на представления русских дипломатов.
-
18 декабря еп. Кирилл начал свои визиты с митрополита Никомидийского Дионисия, одного из первых членов патриаршего Синода. «Соглашено было между патриархами и Синодом, что как скоро Преосвященный Кирилл окончит обещанные им визиты к членам Синода, Патриархи и прочие митрополиты ответят ему взаимным посещением и таким образом снова найдут, без особенной для себя опасности, забытую дорогу к русскому посольству», комментировал действительный тайный советник Бутенев (Копия с записки д. т. с. Бутенева о пребывании в Константинополе Иерусалимской миссии [конец 1857 г., сопроводительное письмо (л. 1) от 14 января 1858 г.]. РГИА. Ф. 797. Оп. 28. II отд. 2 ст. Д. 381. Л. 2–19 об.). Неудивительно, что предметом беседы стали изменения, происшедшие в результате хатт-и-хумаюна 1856 г. — указа, положившего начало кардинальным реформам в Османском государстве и в Православной Церкви. Конечной целью реформ было ограничение самостоятельности Церкви, лишение ее финансовой независимости. Волей-неволей греческим архиереям пришлось искать дипломатического покровительства России. Церковь, по словам Ни-комидийского митрополита, нуждается в защите со стороны русского императора, так как Порта намерена произвести реформы — присвоить себе право сменять архиереев, назначить жалование духовенству. Последняя мера, которую османское правительство неоднократно (и безуспешно) пыталось ввести на протяжении XIX в., вызвала особенное беспокойство в Фанаре, т. к. она ставила духовенство под прямой финансовый контроль со стороны государства и послужила бы поводом к конфискации церковных имуществ, обеднению Церкви и падению ее авторитета. Однако тут же митр. Дионисий невольно привел еще один довод против этой меры: «что духовные лица, питаясь, как было доселе, добровольными подаяниями народа, находили собственную выгоду в более частом объезде городов и селений, что давало им случай преподавать в то же время и духовное назидание пастве, тогда как при новом порядке епископы, обеспеченные раз навсегда от казны, обленятся и не будут объезжать духовного стада, что поведет к еще большему отчуждению его от духовенства» (РГИА. Ф. 797. Оп. 28. II отд. 2 ст. Д. 381. Л. 2–19 об.).
Дальнейший ход беседы сосредоточился вокруг животрепещущего национального вопроса. Как известно, в течение нескольких десятилетий болгары Константинопольского патриархата боролись за свою церковно-национальную независимость.
В середине 1850-х гг. эта борьба выражалась в требовании богослужения на славянском языке и назначения архиереев из своей среды. Нежелание греческой иерархии идти навстречу этим требованиям обострило до крайности противостояние; к 1860-м гг. это привело к окончательному неподчинению болгарских епархий Константинополю, а впоследствии к провозглашению церковной независимости и схизме. Русское правительство при Александре II встало на защиту болгар; однако в консервативных церковных кругах преобладал более осторожный подход и наблюдалось стремление отстраниться от открытого конфликта. Были в России также и сторонники греков. Епископ Кирилл в своих первых беседах занял миролюбивую позицию; однако в это время он еще не имел собственного мнения по вопросу, и к тому же в присутствии посланника вряд ли мог демонстрировать какую-либо позицию, отличную от той, которой придерживалось русское посольство.
Присутствовавший при беседе Тырновский митрополит Неофит утверждал, что болгары в его епархии никогда не были притесняемы и он всегда служил литургию на славянском языке (которого, как выяснилось из дальнейшей беседы, он вовсе не знал). Так же уклончиво отвечал на вопросы еп. Кирилла и бывший митрополит Эфесский, который долгое время перед тем был Софийским митрополитом. Он признался, что проповедуют в той епархии только раз или два в году специально назначенные проповедники (ἱεροκήρυκες), должным образом организованных школ нет. Однако это не помешало ему заявить: «Нет сомнения, что Бог, сохранивший Восточную Церковь, чрез ряд гонений, еще и благословит и прославит ее, если только с своей стороны греческое духовенство исполнит честно свой долг, если более просвещенная часть православия, греки, возвысят до себя меньших, неученых братьев, примером и словом, и, имея свой язык и предания, будут ценить и чужие права и народности. И как Россия помнит великую услугу Греческой Церкви, просветившей ее светом веры, так и славянские племена останутся вечно благодарными грекам за оказанное и им то же самое благодеяние» (РГИА. Ф. 797. Оп. 28. II отд. 2 ст. Д. 381. Л. 2–19 об.). Нетрудно заметить, что оратор использовал традиционную, восходящую к византийской эпохе риторику о преобладании греков в православном мире и их культурной миссии среди других народов.
Другие члены патриаршего Синода выразили еп. Кириллу свою радость по поводу прибытия духовного представителя России на Восток. Более того, Халкидонский митрополит высказал мысль, что «патриархия и прежде обращалась по нужде к политической миссии и всегда находила в ней верное прибежище, теперь же присутствие на Востоке епископа русского доставит им двойную опору и утешение. Дабы выразить еще положительнее духовную радость всей Греческой Церкви об этом событии, Халкидонский митрополит присовокупил, что в уповании на Бога, делающего и невозможное возможным, он не теряет надежды видеть некогда преосвященного Кирилла в числе членов Святого Константинопольского Синода» (РГИА. Ф. 797. Оп. 28. II отд. 2 ст. Д. 381. Л.2-19об.). Подобная идея, весьма лестная для русского духовного представителя и по-новому расставляющая акценты в православном мире, вряд ли могла восприниматься всерьез в тот момент. Вопрос о введении русского архиерея в Константинопольский Синод снова обсуждался во время Первой мировой войны, в ходе обсуждения проектов «русского Константинополя».
После торжественного сослужения еп. Кирилла с патриархом Константинопольским и членами его Синода на Рождество в патриаршем храме в Фанаре специально посланные лица постарались заверить русское посольство в том, что греки Константинополя очень сожалели, что во время войны бывший патриарх Анфим выступал против Русской Церкви. С бывшим патриархом Григорием VI, известным своим русофильством, еп. Кирилл лично не виделся, во избежание кривотолков, однако послал ему подарки из своей собственной ризницы. С Иерусалимским патриархом Кириллом II он встретился неоднократно.
Ответные визиты патриарха и членов Синода еп. Кириллу были нанесены в праздничные дни. Это было первое посещение ими посольства (Копия донесения Бутенева
[сопроводительное письмо (л. 21) от 21 января 1858 г.]. РГИА.Ф. 797. Оп.28. II отд. 2 ст. Д. 381. Л. 22–30). Темой разговора было по-прежнему притеснение Православной Церкви в Османском государстве. Иерусалимский патриарх Кирилл II встречался с еп. Кириллом (Наумовым) несколько раз. В первых беседах он проявлял осторожность и давал советы, как следует русскому начальнику миссии вести себя: не входить в Голгофу в митре и с посохом, всегда носить только черное платье. Эти рекомендации вызвали раздражение Бутенева, который истолковал их как попытку патриарха поставить еп. Кирилла в зависимость от Святогробского духовенства. Наибольшее беспокойство вызывали у восточных иерархов цели назначения еп. Кирилла в Иерусалим, тем более что британское посольство не замедлило предположить, что задачи преосвященного далеко выходят за рамки чисто духовных. Донесения Бутенева написаны в обычной (и вполне естественной) для русских дипломатов манере: подчеркивать величие России и ее представителей, греческое же духовенство классифицировать по признаку его готовности «прислушиваться к советам» из России и служить опорой русского влияния в ближневосточном регионе.
Совсем иным был тон записки, отправленной А. М. Горчакову обер-прокурором Св. Синода графом А. П. Толстым (от 30 января 1858 г.). Толстой известен своими прогреческими настроениями и строгой приверженностью соблюдению норм церковного права. Поддерживая в целом позицию, занятую еп. Кириллом в беседах с греческим высшим духовенством, А. П. Толстой, однако, призывал соблюдать величайшую осторожность в поддержке болгар. «Как соплеменники им сочувствуя так называемому болгарскому движению, мы, однако ж, не должны забывать, что в основании сего движения лежит, к сожалению, вражда против греческой иерархии, тем опаснейшая, что в сердце народа еще грубого с трудом отделяется иерархия от самой Церкви», писал он ([А. П. Толстой — А. М. Горчакову. 30 января 1858 г. № 833. Отпуск]. РГИА. Ф. 797. Оп. 28. II отд. 2 ст. Д. 381. Л. 31–34). Православие, продолжал Толстой, так сказать, «висит на греческой Церкви и ею одной держится». Потому целесообразным, на его взгляд, представляется поддерживать образование прежде всего внутри Греческой Церкви. Укрепление духовной связи Русской Церкви с Греческой и есть, на взгляд А. П. Толстого, главная задача пребывания Русской миссии в Иерусалиме. В этой связи он советовал не искать сближения с латинским духовенством Святых мест, чтобы избежать подозрений в политических целях миссии.
Позицию А. П. Толстого в целом разделял советник российской миссии в Афинах В. С. Неклюдов, который считал, что «Не Русской церковью мы должны явиться на Востоке, но членами единой восточной православной церкви. Мы владыки у себя, но на Востоке должны быть братьями тамошних владык, помогать им и возвышать их в собственных глазах. <...> Устройство самобытных национальных церквей ослабит греческую иерархию и усилит ее противников». В этом он расходился с мнением Б. П. Мансурова, который считал возможным учреждение русской независимой епархии в Палестине или введение русского епископа в заседания Иерусалимского Синода (ОР РГБ. Ф. 188. К. И. Ед. хр. 5 Л. 92–103 об.); [Смирнова, 2009, 103]. В целом точку зрения Неклюдова поддерживал и митр. Филарет (Дроздов).
Отъезд еп. Кирилла из Константинополя планировался сразу после Богоявления. Однако сильный шторм на море вынудил его провести в столице еще некоторое время. Эти пять дней были употреблены им на посещение турецких министров Аали и Фуад пашей. Фуад паша принял его очень радушно и снабдил рекомендательными письмами к вали Дамаска и Иерусалима. В эти же дни состоялась вторая встреча епископа Кирилла Мелитопольского с патриархом Кириллом Иерусалимским; в отличие от первой, теперь на смену осторожности и подозрительности пришло желание сотрудничества. Взгляды собеседников на открытие русского консульства в Иерусалиме разошлись. Если еп. Кирилл не считал открытие консульства делом чрезвычайной важности, то патр. Кирилл, напротив, выражал уверенность, что только путем этого шага Православная Церковь в Палестине может получить надежную опору. Наконец, еп. Кирилл посетил армянскую церковь в Константинополе, где был встречен с большим торжеством. В целом А. П. Бутенев оценивал результаты месячного пребывания еп. Кирилла в Константинополе положительно: был сломан лед в отношениях России с восточной высшей иерархией, наметились пути диалога и сотрудничества.
Путь из Константинополя в Иерусалим лежал через Сирию. У нас есть два документа, содержащие информацию о посещении Дамаска еп. Кириллом (Наумовым): донесение консульского агента Мухина (РГИА. Ф. 797. Оп. 29. 2 отд. 2 ст. Д. 371) и записка сирийца Абуда, очевидца событий, перевод которой в марте 1859 г. был доставлен А. Н. Муравьеву (ОР РГБ. Ф. 107. Картон 8. Д. 11). Согласно этим источникам, еп. Кирилл пожелал посетить монастырь Богородицы Сайданая, после чего, 23 ноября 1858 г., прибыл в Дамаск. Его сопровождали епископ Аркадийский и бывший епископ Байаса. Приготовления велись заранее: начиная с 4 часов утра на дороге за несколько миль стояли люди. На дорогу к 6 часам до деревни Демар вышли навстречу еп. Кириллу консульские агенты русский, бельгийский и греческий со своими кавасами, примасы православные и греко-католические. Всего конных встречающих было около 500 человек, пеших около тысячи. Большинство встречающих собралось у ворот города Беб Тума, которые еп. Кирилл проехал около 9 часов. Далее на улицах города было столько народу, что двигаться вперед было крайне затруднительно, и к воротам церкви еп. Кирилл добрался только к полудню. Впереди него по улицам шли ученики турецкой и арабских школ, со свечами и пальмовыми ветвями в руках. Народ окроплял шествие розовой водой и также держал в руках ветви и свечи. У церкви его встречало с песнопениями духовенство. Был отслужен благодарственный молебен с возглашениями многолетия российским императору и императрице. Затем еп. Кирилл вошел в патриархию.
Второе описание, русский перевод которого был послан А. Н. Муравьеву весной 1859 г., было сделано арабом — очевидцем событий. Оно гораздо более подробно, и цифры несколько расходятся с теми, что приводил Мухин. Согласно этому тексту, еп. Кирилл прибыл из Сайданайского монастыря на турецком экипаже в селение Салайя (в шести верстах от Дамаска), где ему вышли навстречу три консула со своими свитами и более двухсот человек конных и пеших, знатных представителей дамасских христиан. Епископ Кирилл сел на коня, впереди него ехало 30 человек турецких жандармов, 12 человек, сопровождавших его из Бейрута, восемь от трех консулов и один представитель патриарха. Шествие двинулось в сторону города, сопровождаемое криками «ура» и залпами из ружей. К описанию приложен текст приветственной речи, произнесенной в храме патриаршим архидиаконом.
-
1 февраля 1858 г. Русская духовная миссия достигла Иерусалима. Преосвященный Кирилл возглавлял ее с 1858 по 1863 г. [Смирнова, 2009; Смирнова, 2011]. Он отдался с рвением своим обязанностям, которые подчас превосходили его силы и время; сказывался и недостаток опыта. В том же 1858 г. было открыто русское консульство в Иерусалиме во главе с Владимиром Ипполитовичем Доргобужиновым [Вах, 2015]. Учреждение второго русского представительства в Св. Земле привело к конфликтам. А. М. Горчаков изначально предполагал, что миссия будет выполнять как духовные, так и дипломатические функции. Такого же взгляда придерживался посланник А. П. Бутенев. Нелегко было ему и в среде греческого духовенства, начиная с того факта, что, вопреки нормам канонического права, он был вторым православным архиереем в городе. В марте 1859 г. в Иерусалиме был учрежден Палестинский комитет во главе с Б. П. Мансуровым — третье русское учреждение в Св. Земле. А в мае 1859 г. Иерусалим посетил в. к. Константин Николаевич, глава «партии Мраморного дворца», который был непосредственно заинтересован в укреплении русского влияния на Востоке и имел свою концепцию по этому вопросу. Задачи каждого из русских учреждений в Иерусалиме были определены недостаточно четко, что привело к трениям и соперничеству между ними. Жертвой этой ситуации стал владыка Кирилл, который был против своей воли отозван из Иерусалима в 1863 г.
Приложение.
Ф. 797. Оп. 29. 2 отд. 2 ст. Д. 371.
О пребывании преосвященного Кирилла в Сирии.
-
Л. 4–5 об. Копия донесения консульского агента в Дамаске Н. Е. Мухина
Notice sur l’ entrée de S. Em. Monseigneur Cyrille à Damas.
Dimanche le 23 Novembre 1858 a eu lieu l’ arrivée de S. Em. L’Evêque Cyrille, chef de la mission spirituelle Russe, accompagné de l’Evêque d’ Arcadie et de l’ex-Evêque de Bayas.
La population de Damas avait été prévenue officiellement à l’eglise que Monseigneur Cyrille, voulant passer dimanche par Saïdanaïa, pour visiter le convent de la Ste Vierge, ne ferait son entrée à Damas que lundi.
Tout le monde se préparait à aller à la rencontre de S. Em. Au milieu de ces préparatifs, on eut l’avis, à 4 heures du matin, que Monseigneur arriverait dimanche à 6 heurs. Par suite de cet avis, les primats de la nation grecque et ceux des Catholiques Orientaux (Grecs-Unis), les agents consulaires de Russie, de Grèce et de Belgique, avec leurs cavasses, 500 personnes environ à cheval et environ 1000 individus à pied, se sont rendus à la rencontre de S. Em. Jusqu’au village Démar. Le gouverneur-général de Damas a également envoyé des cavasses de sa part.
Une grande multitude attendait S. Em. a la porte de la ville (beb-tuma) à 9 heures; toutes les routes étaient pleines de monde, ce qui rendrait impossible le passage pour deuc chevaux de front; on était obligé de passer l’un après l’autre, de manière que l’on ne put pas arriver à l’eglise avant midi.
Les éléves de l’école où l’on enseigne le Turc, et ceux de l’école Arabe marchaient devant S. Em.; portant à la main des cierges, des branches de palmier et de laurier, et entonnaient des chants de louanges.
Dans les quartiers Chrétiens, presque toutes les maisons étaient illuminées avec des lustres, des bougies, et décorées d’encensoirs et de vases, répandant des parfum.
Lorsque S. Em. s’ approcha de l’eglise, les prêtres et les diacres allèrent à sa rencontre en habits sacerdotaux et des cierges à la main.
Les chants continuerent jusqu’à l’arrivée à l’eglise; pendant le Te Deum pour la prospérité de Leurs Majestés l’Empéreur et l’Impératrice, et de Msgr Cyrille, à chaque prière, les prêtres chantaient le kirié-éléysson en russe. Un des éléves monta en chaire et prononça un discours, dans lequel il remercia Dieu d’avoir accordé la grâce de recevoir la visite de S. Em. dans ces parages, et d’avoir eu la joie de voir Monseigneur.
Cette pompe a été close par le chant de Polychronion, et ce n’est qu’ à une heure après le coucher du soleil qu’elle se termina, et que S. Em. put se retirer au Patriarcat.
ОР РГБ. Ф. 107. Картон 8. Д. 11.
-
Л. 1–2 об. Перевел Сп. Абуд Дамаскин и посылает его Вашему Сиятельству. Москва 3 марта 1859 г. справа помета: 12 марта [ далее писарским почерком ]
Встреча Кирилла в Дамаске
(Перевод с арабского)
В воскресенье 23 ноября мы удостоились счастья принимать у себя Его Преосвященство Святейшего Владыку духовного путешественника, мудрейшего, в высшей степени нравственного человека с золотым характером, достойнейшего Первосвященника, Кир Кирилла Русского, вместе с тремя высокопреосвященными митрополитами, Иосифом Аркадийским, Герасимом Фараг, бывшим Аданским, и Мефодием Сайда-найским и Малульским. Поистине я не могу вполне выразить Вам всю радость и весь восторг христиан по случаю сего прибытия: язык немеет при выражении сих чувств. Опишу Вам вкратце: Его Преосвященство по прибытии в селение Салайя (в 6ти верстах от Дамаска) вышел из турецкого экипажа и сел на оседланного коня, пред ним ехали 30 человек жандармов, посланных от Правительства, кроме 12 человек, приехавших с ним из Бейрута, 8ю представленных от трех консулов и одного присланного от Патриарха. Навстречу Его Преосвященства приехали три консула: русский с детьми своими, греческий с переводчиком своим и голландский с переводчиком; из важнейших православных жителей Дамаска до двухсот человек или более конных, и за ними бесчисленное множество пеших, несших ружья, стрелявших и оглашавших воздух криками: «ура! Священное правительство». От дома Патриарха до Салайя нельзя было пробраться за многолюдством и теснотою по причине столпившегося со всех сторон народа. Во время проезда Его Преосвященства многие домы снаружи увешаны были / Л. 1 об. паникадилами, а хозяева пред домами встречали с ручными кадильницами, в которых курились разные благовонные вещества, — серебряными вызолоченными кропильницами с различными пахучими водами, а учащиеся дети в стройном порядке по обе стороны сопровождали Его Преосвященство от самой заставы Бабтума до церкви, держа в руках свитки, исписанные различными стихами на турецком и арабском языках, переложенные на ноты, в которых восхваляли его Преосвященство и благодарили судьбу за его прибытие, и несли в руках пальмовые ветви, завитые в различные венки. С приближением Его Преосвященства к христианскому православному кварталу вышли навстречу ему священники и диаконы в самых лучших облачениях со свечами в руках, неся иконы Спасителя, Божией Матери, Николая Чудотворца и проч.; надели на него мантии и подали в руки жезл; хор певчих со свечами в руках пел пред ним различные стихи до самой церкви. Церковь была освещена и происходил звон во все колокола. С прибытием его в церковь священники начали молебствие благодарственное и о здравии Благочестивейшего Великого Императора Александра и всего Царствующего дома и всей палаты и о всей России, и певчие на каждое прошение отвечали по-русски: «Господи, помилуй». После чего ученый иеродиакон взошел на амвон, произнес речь на арабском языке, в которой благодарил Всевышнего Бога, даровавшего этим странам великого Преосвященного и выразил глубочайшую признательность великому Российскому правительству, которое позаботилось послать от себя такого духовного мужа, чтобы он заключил в свои объятья и православных чад Антиохийской церкви (в это время Его Преосвященство сидел / Л.2 на троне Ап. Петра, так как обыкновенно на нем восседают Антиохийские Патриархи, преемники Св. Ап. Петра). По окончании речи Господином Иосифом Домани, первым певцом Патриаршеским провозглашено многолетие Ему, Святейшему Синоду и Императору Российскому и таким образом отправились в дом Патриарха
Речь при встрече Его Преосвященства Кирилла Епископа Мелитопольского в Дамасской соборной Патриаршеской церкви, произнесенная всенародно с амвона иеродиаконом Георгием Рашани
Благословен грядый во имя Господне
Совершеннейшая радость распростерлась, братие, в недрах нашей Антиохийской Церкви; ибо мы видим ее святыню блистающую и ликующую как бы в благогласных трубах — в светлейших чувствах радости и восторга, стекшихся и воссиявших в ней. В настоящий день под ее лучезарным небом блистает осененный благодатью и носящий с собою светлые благодатные надежды Великий Первосвященник и благочестный пастырь, которого Святая Церковь Российская, усмотревши в благочестии цветущим и о благодати плодоносящим, назначила одним из главнейших членов тела ее, учителем чад ее в чистом православном учении, мудрым управителем, пастырем человеческого стада, опорою здания, — как мужа, исполненного святостью и страха Божия, посекающего слова истины и правды, которого и Промысел Божий превознес и направил стопы его, и благословил намерения и подвиги, сподобил его даром свыше, и заботы его увенчал высокими дарами благодати и всяким украшением, как роса / Л. 2 об. аермонская, сходящая на браду Аароню, сходящим на благоплодное сердце его потолику, поколику живет в нем дух Христов, и стопы его управил, чтобы обнять чад Церкви, дабы и мы из чистого кладенца его благочестия почерпнули чистую воду утешения; и от него, как от древа, посажденного при исхо-дищах вод, текущих от источника жизни, собрали златые плоды, так как Провидение удостоило его великого дара благодати, излиянных на него неизъяснимым образом. Итак, он пришел в нашу Дамасскую страну по воли Божией и по изволению Святыя Церкви Российской, дабы мы видели в нем свет ее и прославили Отца нашего, иже на небесех, который дал в Церкви своей «овы бо Апостолы, овы ж Пророки, овы же учители к совершению святых, в дело служения, в созидание Тела Христова. Видите, сколько для нас радости в настоящий день и какой восторг должен воспламенить сердце наше в настоящие минуты радостной и торжественной встречи того, который есть един из главнейших членов Церкви. Не это ли глас из глубины сердца, возгоревшийся и взывающий: сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь, то есть в день прибытия наследника Апостольского в церковь Апостольскую, в которой прежде всех ученики апостольские названы христианами. И какое вознесем благодарение к Пастыреначальнику мы, удостоившиеся сретить этого Владыку, носящего победные знаки о Христе Иисусе и держащего знамя христианского общения и духовного единства о Господе. Радуйся, избранный народ Божий! Благодарите Всевышнего Превечного Бога, благоволившего и всегда благоволящего к нам; и благодарите за сие прибытие, вознесите моления и прошения к Всемудрому, да укрепит и сохранит сего пастыря как знамя народа христова и как светильник, возжженный на свещницу Церкви православной, да и все чада Церкви Сирийской видят свет его, да сохранит его на многие лета с честью и да благословит его намерения во славу Бога, которому слава, честь и поклонение во веки Аминь.
Покорнейший слуга Абуд Сириец
Список литературы На пути в Иерусалим: епископ Кирилл (Наумов) в Константинополе и Сирии в 1858 г
- РГИА - Российский Государственный исторический архив. Ф. 797. Оп. 28. II отд. 2 ст. Д. 381. (Пребывание миссии нашей в Константинополе и прибытие ее в Иерусалим).
- ОР РГБ - Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 107. Картон 8. Д. 11; Ф. 188. К. И. Ед. хр. 5.
- Вах (2015) - Вах К. А. Основание российского консульства в Иерусалиме в свете новых архивных документов // Восточный архив. 2015. Т. 1 (31). С. 28-33.
- Лисовой (2006) - Лисовой Н. Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX - начале ХХ века. М.: Индрик, 2006. 512 с.
- Смирнова (2009) - Смирнова И. Ю. Церковно-дипломатические отношения России и Иерусалимского патриархата в первое десятилетие после Крымской войны // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 4 (142). С. 101-108.
- Смирнова (2011) - Смирнова И. Ю. К истории становления российского церковного присутствия в Святой Земле: миссия епископа Кирилла (Наумова) // Государство, религия и церковь в России и за рубежом. 2011. С. 365-387.
- Титов (1902) - Титов Ф. И. Преосвященный Кирилл Наумов, епископ Мелитопольский (бывший настоятель Русской Духовной Миссии в Иерусалиме). Очерки из истории сношений России с Православным Востоком. Киев: тип. И. И. Горбунова, 1902. 440 с.