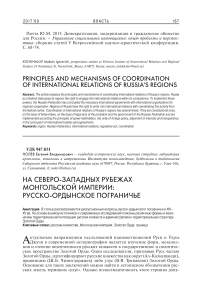На северо-западных рубежах Монгольской империи: русско-ордынское пограничье
Автор: Нолев Евгений Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Геополитика
Статья в выпуске: 9, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются дискуссионные вопросы русско-ордынского пограничья в XIII-XV вв. На основе анализа источников и современных исследований описаны различные формы и механизмы территориальной интеграции русских княжеств в административно-территориальную структуру Золотой Орды.
Русские княжества, монгольская империя, золотая орда, граница
Короткий адрес: https://sciup.org/170168911
IDR: 170168911 | УДК: 947.031
Текст научной статьи На северо-западных рубежах Монгольской империи: русско-ордынское пограничье
А ктуальным направлением исследований взаимоотношений Руси и Улуса
Джучи в современной историографии является изучение форм, механизмов и степени вовлеченности русских княжеств в государственное и политическое пространство Золотой Орды. Одни исследователи, признавая Русь частью Золотой Орды, идентифицируют русские княжества как округ (Ал-Калкашанди), провинцию (Ш.Б. Чимитдоржиев) либо улус (В.В. Трепавлов) Золотой Орды. Основание для таких заключений можно найти в летописном обозначении русских земель термином «улус». Однако полисемантичность этого термина допу- скает возможность его употребления в качестве обозначения народа, населения. Развивая данную идею, Ю.В. Кривошеев указывает на эволюцию значения термина «улус», приобретшего государственно-территориальный акцент, не утратив при этом первоначальный смысл. «Русские летописи позволяют трактовать “улус” не как подчиненные Орде и управляемые ханом земли, а как территорию, население которой платит дань, во всяком случае, такое понимание не противоречит смыслу текстов» [Кривошеев 2003: 247].
В отечественной исторической литературе приводятся аргументы и в пользу относительной самостоятельности русских княжеств. Так, В.В. Каргалов считает, что Северо-Восточная Русь в силу ряда политических, военных и географических причин не входила непосредственно в состав Золотой Орды. Многие крупные центры, по его мнению, не только оказали упорное сопротивление во время нашествия, но и сохранили свой военный и экономический потенциал, а также возможность обращения за помощью к Западу. К тому же в лесистом междуречье Оки и Волги не было природных условий для постоянного пребывания больших масс ордынской конницы [Каргалов 2008: 192-193, 279]. В современных исследованиях разработан эффективный подход дифференцированной оценки различных этапов русско-ордынских отношений (В.Л. Егоров, И.И. Назипов, Ю.В. Селезнев).
При таком многообразии мнений очевидна необходимость выделения критериев научного поиска, одним из которых может стать изучение русско-ордынского пограничья. Стоит воздержаться от модернизации термина «граница», наполнения его современным смысловым содержанием. Речь в данном случае идет не столько о «государственной границе», сколько о границе двух идентичностей (русские и монголы/ордынцы) и их территориальном обособлении, поскольку центробежные и центростремительные процессы, параллельно проходившие в русских княжествах и Улусе Джучи, меняли представления как о внутренних границах отдельных княжеств и улусов, так и об общей пограничной стратегии. Вместе с тем политическая и экономическая вовлеченность русских княжеств не всегда была тождественна интеграции территориальной, свидетельством чего являются своеобразные пограничные «зоны отчуждения» и буферные территории.
В 1985 г. В.Л. Егоров указал на своеобразную лакуну в историографии русско-ордынских отношений, заключающуюся в отсутствии постановки проблемы изучения пограничья Руси и Золотой Орды в качестве самостоятельной темы исследований. При этом ученый отмечал, что выявление внутренней специфики и очертаний порубежных владений, отслеживаемое в динамике изменения пограничной полосы, могло бы помочь дополнить картину «организации монгольского владычества на Руси» [Егоров 1985: 16-17]. Спустя 30 лет после публикации данного исследования наряду с расширением источниковой базы, обусловленным, прежде всего, новыми результатами археологических исследований, можно констатировать и расширение набора теоретического инструментария исследования границ.
В источниках неоднократно фиксируется факт разграничения русских земель и Золотой Орды. В описании своего путешествия Плано Карпини отделял земли «Руссии» и «Тартарию». Упомянутое им поселение Канов, бывшее под непосредственной властью татар, было своеобразной буферной зоной между Русью и Золотой Ордой, поскольку за ним была расположена первая застава татар [Карпини 2008: 285]. Часто исследователи обращают внимание на идентификацию русских княжеств как «орды Залеской» в «Задонщине». Однако данное название Руси в повествовании дают фряги, в то время как Дмитрий Иванович называет Русь «Залеской землей» [Воинские повести… 1985: 159, 167]. Указания на определенный территориальный суверенитет русских княжеств и границы с ордынскими владениями содержатся в духовных и договорных грамотах великих и удельных князей.
При формировании территориальных границ Золотой Орды учитывались такие факторы, как традиционные формы административно-территориального деления; специфические природные условия, благоприятные или неблагоприятные для ведения кочевого хозяйства; сосредоточение экономических интересов ордынских чиновников; геополитические задачи правителей Улуса Джучи. Судя по всему, в момент конструирования русско-ордынских границ правом верховного распорядителя русских земель обладал золотоордынский хан. Р.Ф. Набиев отмечает, что для ордынской политики по отношению к подвластным территориям было присуще сохранение прежних государственных границ в качестве административных и не характерна политика колонизации подчиненных территорий [Набиев 2014: 86, 89]. В то же время, реализуя принцип территориального верховенства, в границах княжеств были образованы ордынские территориально-административные единицы – тьмы. Г.В. Вернадский писал о существовании до Тохтамыша 27 тем в Восточной Руси и 16 тем в Западной Руси [Вернадский 2014: 237].
В структуре русско-ордынского пограничья можно выделить следующие формы: многокилометровую полосу отчуждения; буферные зоны; русские земли как часть административно-территориальной структуры Золотой Орды.
В первом случае показательно описание, данное В.В. Похлебкиным, где граница предстает не фиксируемой и охраняемой линией, а многокилометровой полосой, достигающей местами 150–300 км, назначение которой заключалось в разделении русских и ордынских государственных владений [Похлебкин 2000: 40]. Однако это не исключало возможности сезонного чередования использования данных пограничных земель русскими и ордынцами. А.В. Чернецов, рассматривая обширные незаселенные пространства на границе Руси и Золотой Орды, определяет их как своеобразную «зону страха», разделяющую враждебные этнические группировки. Выявление границ подобной зоны и их изменчивости на протяжении столетий составляет, по мнению ученого, приоритетную задачу, стоящую перед исследователями [Чернецов 2003: 13-14]. Принципиально важное значение в данном случае имеют такие составляющие, как хозяйственнокультурный тип и природные условия разграничиваемых территорий. Чаще всего это были пространства перехода степи в лесостепь либо ограниченные естественными рубежами, что создавало трудности для кочевого образа жизни и определило модель опосредованного управления территориями, находящимися за данной природной границей. Ч. Гальперин следующим образом описывает эту ситуацию: кочевание монголов по левобережью Волги позволяло ханам Золотой Орды контролировать ситуацию на Руси, не прибегая к необходимости размещения здесь больших воинских контингентов. Ввиду сосредоточения основных геополитических интересов Джучидов вокруг Северного шелкового пути, на Руси сформировалась практика опосредованного управления через ярлыки [Halperin 1983: 261]. Это служило для ученого основанием для признания факта военного поражения, но отрицания завоевания монголами и включения русских княжеств в состав Монгольской империи.
В новейших исследованиях продолжается изучение буферных зон русско-ордынского пограничья. В.Л. Егоров образование так называемых буферных зон связывает с миграцией большей части местного населения русских территорий на север вследствие нашествия монголов и формированием здесь золотоордынской администрации. К таким зонам ученый относит галицкий город Бакоту, Болоховскую землю, город Канов и Ахматовы Слободы. При этом заин- тересованность в создании таких зон проявляли скорее ордынские чиновники, ведавшие сбором дани [Егоров 1985: 20]. Б.Р. Рахимзянов, исследуя буферные зоны русско-ордынского пограничья с позиции теории фронтира, пишет, что географический фактор имел важное значение во взаимоотношениях северовосточных русских княжеств и Золотой Орды. Ученый расширяет определение «буферной зоны», используя его для обозначения Рязани и Нижнего Новгорода, через которые происходило вовлечение Москвы в мир степи [Рахимзянов 2010: 94]. Приведенные Б.Р. Рахимзяновым сведения об образовании Касимовского ханства в первой половине XV в. позволяют изучить природу формирования «буферных зон» на территории русских земель. В данном случае речь может идти не о ситуативно сформированных административных пограничных центрах с фискальной функцией, а о реализации принципов распределения земель в Монгольской империи, согласно которым в различных улусах формировались наследственные территории представителей различных линий Золотого рода.
Дискуссионной является проблема определения статуса южнорусских земель в административно-территориальной структуре Золотой Орды. Часть современных историков полагают, что Киевская земля непосредственно в состав Золотой Орды не вошла и управлялась ханами через местных феодалов или наместников. По их мнению, границы Золотой Орды и Киевского княжества были в значительной степени условными, документально не оформленными и ситуативно зависели от размера ордынских сил и активности русского населения [Івакін 1996: 50,74]. Рассматривая вопросы зависимости Киевской земли от Орды, О.В. Русина обращает внимание на переход Переяславля, Канова под непосредственное управление Золотой Орды, а также образование территории под названием Татарьска земля вследствие процессов «обезкняживания» и миграции населения с украинских земель, происходящих параллельно с формированием здесь татарской администрации и приходом татарского населения [Русина 1998: 35, 36]. Б.В. Черкас отмечает, что формирование улусов вблизи южнорусских земель преследовало задачи окончательного покорения новых земель, население которых было не до конца подчинено, и предотвращения вероятной опасности со стороны западных соседей. Это обстоятельство в совокупности с благоприятными природными условиями определило специфику территориальной интеграции южнорусских земель в административную структуру Золотой Орды [Золотая Орда… 2016: 169]. Исследователь высказал предположение о превращении Чингизидами Переяславского княжества в улус с прямым ордынским управлением. При этом земли территории современной Украины, по мнению ученого, были разделены на степные районы, относящиеся к крылу Мувала, и оседлые, принадлежавшие ханскому домену [Золотая Орда… 2016: 174].
С установлением зависимости русских княжеств от Орды меняется и стратегия взаимодействия в приграничных районах. В частности, Ю.В. Селезнев отмечает, что после того как Русь становится частью Джучиева Улуса, «Русский улус», воспринимаемый как часть владений великого хана, перестает быть объектом завоеваний и грабительских набегов [Селезнев 2010: 8]. Ордынские «рати» преследовали цель интеграции русских княжеств в Золотую Орду, выполняя функции установления, защиты или восстановления легитимности своего правления на Руси, а также превентивного принуждения потенциального нарушителя ордынской легитимности. В период децентрализации в Золотой Орде ордынские походы на русские земли могли быть обусловлены конкуренцией претендентов на власть. В отличие от них, грабительские набеги, осуществляемые ордынцами, как правило, в период ослабления центральной власти, напротив, вели к отчуждению русских земель от Орды [Назипов 2014: 225, 229].
Определение четкой пограничной линии владений Руси и Золотой Орды сопряжено с известными трудностями, обусловленными как различными формами и степенью территориальной интеграции русских княжеств в административную структуру Золотой Орды, так и изменением территориальных рубежей на протяжении XIII–XV вв. Современные попытки наглядно размежевать территориальные владения Руси и Золотой Орды отражены в тематических картах [Селезнев 2013: 472; Трепавлов 2010: 75-76]. Аналогичная ситуация прослеживается в современных картах в Монголии. Так, например, на карте «Монголы в Азии и в Европе (XIII век)», размещенной в Монгольском национальном историческом музее, русские княжества выделены другим цветом по отношению к Монгольской империи и обозначены как «вассальные государства».
Русско-ордынское пограничье изменялось в силу политических и естественных причин. В первом случае изменение пограничных рубежей связано с ослаблением Орды и усилением русских княжеств и Литвы. Естественные изменения порубежных владений, а точнее, границ кочевания ордынцев, определялись превышением возможностей вмещающего ландшафта, связанным с усилением хозяйственной и демографической нагрузки на территорию Золотой Орды. Изменения границы происходили не только в территориальном отношении, но и в ее восприятии современниками. Перспективными, на наш взгляд, выглядят исследования сакрального смысла границ и не только в плане своеобразной «зоны страха». Принятие ханом Узбеком ислама в качестве официальной религии Золотой Орды могло способствовать трансформации в восприятии территориальных рубежей в рубежи сакральные – границы православной веры. В этом плане общая сакральная граница могла стать фактором сплочения и дальнейшей централизации Руси.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации 14.W03.31.0016 «Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии».
Список литературы На северо-западных рубежах Монгольской империи: русско-ордынское пограничье
- Вернадский Г.В. 2014. Монголы и Русь. М.: Ломоносовъ. 512 с
- Воинские повести Древней Руси (сост. Н.В. Понырко). 1985. Л.: Лениздат. 495 с
- Егоров В.Л. 1985. Граница Руси с Золотой Ордой в XIII-XIV веках. -Вопросы истории. № 1. С. 16-29
- Золотая Орда в мировой истории: коллективная монография (отв. ред. И.М. Миргалиев, Р. Хаутала). 2016. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ. 968 с
- Каргалов В.В. 2008. Русь и кочевники. М.: Вече. 480 с
- Карпини Джовани дель Плано. 2008. История монголов. -История монголов. М.: Алгоритм. 336 с
- Кривошеев Ю.В. 2003. Русь и монголы: Исследования по истории Северо-Восточной Руси XII-XIV вв. СПб: Изд-во СПбГУ. 468 с
- Набиев Р.Ф. 2014. Государство Джучидов в XIV веке: проблемы политического и экономического развития: дис. … д.и.н. Казань. 619 с
- Назипов И.И. 2014. Северо-восточная Русь в системе политико-правовых связей Орды (Улуса Джучи) (1242-1502 годы). Пермь: Пермский институт экономики и финансов. 360 с
- Похлебкин В.В. 2000. Татары и Русь. 360 лет отношений Руси с татарскими государствами в XIII-XVI вв. 1238-1598 гг. (От битвы на р. Сить до покорения Сибири). М.: Международные отношения. 189 с
- Рахимзянов Б.Р. 2010. К вопросу о «буферных зонах» во взаимоотношениях поздней Золотой Орды и северо-восточных русских княжеств. -Средневековые тюрко-татарские государства. Вып. 2. Казань: Ихлас. С. 91-95
- Селезнев Ю.В. Русско-ордынские конфликты XIII-XV вв.: справочник. -М.: Квадрига, 2010. 224 с
- Селезнев Ю.В. 2013. Русские князья в составе правящей элиты Джучиева Улуса в XIII-XV веках. Воронеж: Центрально-Черноземное книжное изд-во. 472 с
- Трепавлов В.В. 2010. Золотая Орда в XIV столетии. М.: Квадрига. 77 с
- Iвакiн Г.Ю. 1996. Iсторичний розвиток Києва XIII -середини XVI ст. (iсторико-топографiчнi нариси). Киев: Альтернативи. 272 с
- Русина О.В. 1998. Україна пiд татарами i Литвою. Киев: Альтернативи. 320 с
- Halperin Ch.J. 1983. Russia in the Mongol Empire in Comparative Perspective. -Harvard Journal of Asiatic Studies. Vol. 43. Nо. 1. P. 239-261