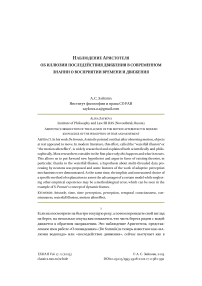Наблюдение Аристотеля об иллюзии последействия движения в современном знании о восприятии времени и движения
Автор: Зайкова А.С.
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.17, 2023 года.
Бесплатный доступ
В своей работе «De Insomniis» Аристотель указал, что после наблюдения движения покоящиеся предметы кажутся движущимися. В современной литературе этот эффект, называемый «иллюзией водопада» или «последействием движения», широко исследуется и объясняется как на научном, так и на философском уровне. Большинство исследователей рассматривают в первую очередь вопросы, почему это происходит и что это значит. Такой подход позволяет выдвигать новые гипотезы и приводить аргументы в пользу существующих теорий, в частности, в том числе благодаря иллюзии водопада была предложена гипотеза о многопотоковой обработке данных нейронами и продемонстрированы некоторые особенности работы адаптационных механизмов восприятия. Вместе с тем, неявный и неаргументированный выбор конкретного способа объяснения для утверждения преимуществ некоторой модели при пренебрежении другим эмпирическим опытом может являться методологической ошибкой, что можно заметить на примере концепции динамических кадров С. Проссера.
Аристотель, время, восприятие времени, восприятие, темпоральная структура сознания, сознание, иллюзия водопада, последействие движения
Короткий адрес: https://sciup.org/147243529
IDR: 147243529 | DOI: 10.25205/1995-4328-2023-17-2-980-992
Текст научной статьи Наблюдение Аристотеля об иллюзии последействия движения в современном знании о восприятии времени и движения
роли важного аргумента в философских спорах, так и в роли факта, требующего нейронаучного объяснения. Сам Аристотель описывает это явление так:
Точно так же [происходит тогда], когда отводят взгляд от движущихся предметов, например, рек (особенно от тех, которые текут очень быстро), и замечают, что покоящиеся [предметы] кажутся движущимися; после сильного грохота притупляется слух; а после крепкой вони теряется способность различать запахи (Arist. De Somniis 459b)1.
Аристотель здесь обращает внимание на то, что даже неподвижные предметы могут казаться движущимися, если мы до этого наблюдали движение – допустим, быстрое течение реки. Он отмечает, что подобные иллюзии касаются не только движения: схожий эффект продолжения восприятия каких-либо эффектов наблюдается при переводе взгляда с солнечного цвета на тьму или после прослушивания громких звуков. Аристотель сравнивает продолжение восприятия после завершения собственно восприятия с летящим снарядом: согласно его убеждению, то, что привело его в движение, также приводит в движение некоторую часть воздуха, который, некоторым образом, опосредованно влияет на снаряд.
При всей спорности утверждения о движении снаряда, наблюдение Аристотеля относительно продолжения восприятия движения кажется весьма точным и тонким. Он предполагает, что некоторый эффект восприятия остается и после того, как мы восприняли некоторый эффект, что является не некоторой гипотезой, но непосредственным опытом. Единственное, в чем, при желании, можно усмотреть некоторую недосказанность при описании данного опыта – это то, что сам Аристотель не уточняет направления кажущегося движения. Это делает уже Лукреций значительно позднее:
И, наконец, если конь заупрямится борзый под нами
Посередине реки и мы взглянем на быстрые воды,
Будет казаться тогда, что влечется стремительной силой
Тело коня поперек и уносится против теченья;
И, обращая глаза на любые предметы, увидим,
Будто бы мчатся они и плывут точно так же в потоке2.
Лукреций здесь использует тот же пример с рекой, однако он указывает конкретный предмет, который кажется ему движущимся (конь), и он, в отличие от Аристотеля, отмечает направление кажущегося движения коня – противоположное течению. Сам Лукреций при этом убежден, что в подобном обмане зрения ключевую роль играет не само зрение, а разум:
Глаз же природу вещей познавать совершенно не может,
А потому не вини его в том, в чем повинен лишь разум3.
Позиция Аристотеля отлична от позиции Лукреция. Аристотель полагает, что подобный эффект последействия движения вызывается именно в органе чувств. Однако ощущение у Аристотеля не является только следствием работы тела: как пишет С. Месяц, «согласно трактатам “О душе” и “Об ощущении и ощущаемом”, ощущение представляет собой совместное действие души и тела, в ходе которого душа реализует свою способность ощущать за счет происходящего с телом под действием чувственно воспринимаемых предметов изменения».
Трактат Аристотеля «О сновидениях», где он и упоминает эффект последействия движения, не рассматривает теорию ощущений подробно, поскольку посвящен в первую очередь психофизиологии сна, в том числе возможности видеть сны. Одним из главных вопросов, который он ставит перед собой, это какова причина сновидений при отсутствии ощущений в настоящем. Аристотель уверен в том, что «бодрствовать значит ощущать» (454 a54). Но как тогда объясняется возможность наблюдать сновидения?
Аристотель дает на это такой ответ: возможность видеть некоторый предмет после того, как этот предмет исчез из нашего поля зрения не является уникальной, именно в доказательство этого он и приводит ряд примеров, касающихся цвета, движения, звуков и запахов, в число которых и попал рассматриваемый нами эффект последействия движения. Возможность наблюдать сны без источника воздействия Аристотель также приводил как пример подобного эффекта, когда воздействие закончилось, а эффект воздействия сохраняется.
Представление Аристотеля о последействии движения было неразрывно связано не только с его концепцией о возможности видеть сновидения, но также с его концепциями движения и восприятия. Как отмечает О. Чулков,
Аристотель видит источник подобных иллюзий не в самом зрении, а в «суждении о зримом»5. Но при этом сон и зрительные иллюзии имеют одну природу (459 b), а по Аристотелю источник снов – это именно восприятие: так, как отмечают П. Грегори и Дж. Финк6, Аристотель придерживается мысли, что возможность видеть сны имеет перцептивное происхождение, и, следовательно, относится к перцептивной части души. М. Солопова приходит к схожему выводу относительно позиции Аристотеля: «Все ночные видения возникают в душе в результате ее дневной деятельности восприятия»7.
В целом, взаимодействие наблюдаемых эмпирических фактов с философскими теориями и нейрофизиологическими моделями можно представить в виде некоторого треугольника, каждая из вершин которого выполняет определенную функцию, и эффект последействия движения не является исключением. Философская теория должна как минимум не противоречить наблюдаемому опыту, и в то же время соответствовать современному нейрофизиологическому знанию, в идеале – воплощая или объясняя некоторую нейрофизиологическую модель. Нейрофизиологическая модель в узком смысле должна описывать или объяснять наблюдаемый опыт, с другой стороны – соответствовать или не соответствовать философской теории. При этом исследователи в отдельные моменты своего исследования могут выполнять как функцию наблюдателей и экспериментаторов, так и функцию объяснения или поиска метатеории, как мы это видим на примере Аристотеля. Несмотря на предлагаемые Аристотелем теорию времени, теорию зрения и теорию сна, при исследовании эффекта последействия движения Аристотель выполняет функцию наблюдателя, обращая внимание на неожиданный, но показательный эффект. Тем не менее, наряду с признанием важности наблюдения для современного знания о сознании, можно обнаружить и критику в адрес предположения Аристотеля о том, что такая иллюзия является формой зрительной инерции. Здесь в первую очередь стоит отметить статью «Иллюзии: ошибка Аристотеля» В. С. Рамачандрана и Д. Роджерс-Рамачандран, где они исследуют то, как глаз и мозг обрабатывают зрительную функцию в случае эффекта последействия. Несмотря на «громкое» название статьи, непосредственно приведенная ими критика Аристотеля заключается в следующем тексте, чем и ограничивается:
Эффект водопада (или последействие движения, как его еще называют) впервые отметил Аристотель. К сожалению, как указал философ 20-го века Бертран Рассел, Аристотель был хорошим наблюдателем, но плохим экспериментатором, позволяя своим предвзятым представлениям влиять на его наблюдения. Он ошибочно полагал, что последействие движения было формой зрительной инерции, тенденции продолжать видеть, как вещи движутся в одном и том же направлении из-за инерции какого-то физического движения, стимулируемого в мозгу. Поэтому он предположил, что трава тоже будет двигаться вниз – как будто продолжая имитировать движение водопада! Если бы он провел несколько минут, наблюдая и сравнивая кажущееся движение водопада и травы, он не сделал бы ошибки, но эксперименты не были его сильной стороной.8
Авторы уверены, что, согласно описанию Аристотеля, наблюдатель видит, как движение после перевода взгляда продолжается в том же направлении – однако, как мы отметили выше, Аристотель не указывал направления движения. Более того, другие примеры чувственного восприятия, приводимые Аристотелем, показывают, что для него имеет значение не направление движения, а сам его факт, поскольку такое восприятие есть «модус качественного изменения», подобно движению снарядов или нагреванию чего-либо горячим предметом. При этом авторы ошибочно утверждают, что речь идёт про иллюзию движения травы возле водопада, хотя пример Аристотеля касался не самого водопада, как пишут авторы, а быстро текущей реки. Термин «иллюзия водопада», как мы покажем далее, появился значительно позднее.
Следующее предположение, которое авторы называют ошибочным – это утверждение о «зрительной инерции». Однако является ли это ошибкой? Конечно, если исходить из того, что «зрительная инерция» предполагает движение в том же направлении, как это делают авторы, это противоречит наблюдаемому опыту. Но в исследуемом отрывке зрительная инерция для Аристотеля – лишь описание физического эффекта последействия движения, и в этом случае критика Аристотеля является безосновательной. Возможно, если бы авторы спорили не с самим примером, приведенным Аристотелем, а с его концепцией зрения или сновидений, подобная критика и была бы уместна. Но этого не происходит. Это приводит нас к предположению, что и название своей статьи, и такое вольное обращение с текстом Аристотеля является не способом научной дискуссии, а способом привлечь внимание к написанной ими научной статье. Резюмируя описанный пример критики, можно сделать вывод, что приведенные замечания в адрес исследуемого наблюдения Аристотеля неуместны, поскольку конкретный пример
Аристотеля не выходит за пределы наблюдаемого и не является ни частью некоторой глобальной философской концепции, ни гипотезой, касающейся физиологии мозга.
Возвращаясь к точке зрения Аристотеля, стоит сказать, что сам Аристотель всё же не предлагает точного разделения восприятия и суждения при анализе зрительных иллюзий, однако и в современной философии разделение воспринимаемого и мыслимого становится камнем преткновения для множества моделей сознания, в том числе и при анализе более простого эмпирического опыта9. Тем не менее, именно с наблюдения Аристотеля и начался анализ подобных зрительных иллюзий, которые позволяют взглянуть нам на сознание и мозг с необычной стороны, и мы должны отдать ему должное за меткое наблюдение и точное описание.
Долгие годы эффект последействия движения не являлся объектом изучения. Возвращение интереса к наблюдаемому эффекту произошло только в XIX веке, и его можно объяснить следствием развития физиологии и зарождения психологии как науки. Ключевую роль в этом сыграл чешский ученый-физиолог Я. Э. Пуркине10, который исследовал целый ряд зрительных иллюзий, одна из которых, заключающаяся в изменении цветового восприятия в сумерках, получила название «Эффект Пуркине». Он же обратил внимание на то, что после наблюдения за движущимся отрядом кавалерии ему показалось, что стали двигаться дома – в другом направлении. После этого различными учеными был опубликован целый ряд исследований зрительных искажений: Р. Аддамс (1834 г), Дж. Мюллер (1840 г.), Д. Брюстер (1845 г.), Ж. Плато (1850 г.), В. Лотц (1852 г.) и т.п. Исследователи использовали разные образы: кавалерия, движущиеся части тела, вагоны или даже специально сконструированная спираль11. А. Вольгемут отмечает, что среди них были как те исследователи, которые просто описывали наблюдаемый эффект, не предлагая наблюдений, так и те, кто выдвигал некоторую объяснительную теорию: к примеру, видел причину подобного эффекта в физиологии человека, напри- мер, в движении глаз, особенностях строения сетчатки, во влиянии центральной нервной системы или же психических процессов12. Среди исследователей стоит выделить С. П. Томпсона, профессора экспериментальной физики. В своей книге «Оптические иллюзии движения» он не только предложил теорию вторичных нервных импульсов, но и использовал термин «иллюзия во-допада»13, который в настоящее время используется наряду с термином «последействие движения», однако описывает более узкий случай иллюзии обратного поступательного движения неподвижного объекта, в то время как термин «последействие движения» используется и для других видов иллюзии движения, в т.ч. спирального.
Сейчас исследования иллюзии водопада, безусловно, вышли за пределы описательной науки. Исследователи, среди которых есть и нейрофизиологи, и философы сознания, пытаются ответить в первую очередь на такие вопросы, как почему это происходит и что это значит.
С физиологической точки зрения вопрос обоснования подобного эффекта не только касается непосредственно взаимодействия зрения и нервной системы у человека, но изучает возникновение и особенности зрительных иллюзий у различных животных14, а также рассматривает кроссмодальный перенос эффекта последействия движения, т.е. затрагивающий не только зрение, но слух и тактильные ощущения15.
В настоящее время наиболее распространенная версия объяснения предполагает, что причины подобного эффекта заключаются в нейронной адаптации: несмотря на вычисление расположения объекта, совершаемое одним потоком нейронных вычислений, другой поток, обеспечивающий адаптацию к движению, влияет на итоговое представление, что в результате и приводит к иллюзии движения стационарного объекта16. Эта теория существует не только на нейронаучном уровне, на уровне теории восприятия ее развитием занимался также британский профессор метафизики Р. Ле Пойдевин. Он предположил, что для появления иллюзии последействия движения требуется совмещение работы двух механизмов, первый из которых отвечает за восприятие движения, а второй – за анализ местоположения во времени17. Как мы видим, эта теория соответствует современному знанию о нескольких потоках нейронных вычислений, и, в целом, дает нам некоторые общие знания о восприятии времени и движения в целом.
Но если при попытке ответить на вопрос, почему это происходит, расширение научного знания в области нейрофизиологии очевидно, то на второй вопрос предлагается целый ряд ответов, некоторые из которых противоречат друг другу.
В первую очередь такие противоречивые ответы объясняются современным параллельным существованием множества темпоральных моделей сознания. Б. Дэйнтон выделяет три модели темпоральной структуры созна-ния18: кинематографическую модель, предполагающую, что мы воспринимаем время как последовательность набора кадров, лишенных или почти лишенных длительности, ретенциональную, утверждающую, что наше восприятие времени состоит из мгновенных ретенций, вмещающих в себя длительный опыт недавнего прошлого, и экстенсиональную модель, в рамках которой предполагается, что наше восприятие состоит из имеющих длительность кажущихся настоящих, соответствующих или почти соответствующих длительному опыту настоящего.
Один из исследователей темпоральной структуры сознания С. Проссер спорит со всеми этими моделями, используя теорию последействия движения. Он полагает, что существование подобных иллюзий доказывает справедливость предлагаемой им теории динамических снимков:
Частично убеждение, что моментальный опыт может быть только статичным, связано с идеей о том, что для опыта изменения само содержание чьего-либо опыта должно меняться с течением времени. Но это кажется неверным; есть много примеров иллюзий движения, в которых движение переживается несмотря на то, что никакая часть содержания переживания не меняется (кроме самого времени). Наиболее известным примером является иллюзия водопада, в которой после некоторого периода наблюдения за устойчивым движением, таким как движение воды в водопаде при взгляде на неподвижную сцену кажется, что сцена движется в противоположном направлении19.
С. Проссер предполагает, что это противоречит экстенсиональной модели, так как в рамках нее, по мнению Проссера, воспринимаемое в некоторый момент времени не может определяться воспринимаемым в другой момент времени. Проссер также предполагает, что это противоречит и кинематографической модели, поскольку кинематографическая модель не может обеспечить восприятие движения при стационарном положении объекта. Проссер не рассматривает, как иллюзия водопада может противоречить ретенциональной модели, но он утверждает, что ретенциональная, экстенсиональная и кинематографическая модель принципиально неразличимы – за исключением того случая, когда мы признаем «сомнительное декартово предположение о природе сознательного опыта»20, в результате чего в существовании подобной иллюзии он видит доказательство несостоятельности любой из этих теорий. Взамен Проссер предлагает теорию динамических снимков, согласно которой восприятие изменений и движений уже заложено в тот мгновенный снимок, который и является основной единицей восприятия.
Однако позиция Проссера не является в достаточной мере методологически корректной. Даже если предположить, что кинематографическая модель, в отличие от модели динамических снимков, не предполагает передачи характеристик, связанных с движением, использование примеров зрительных иллюзий для спора со всеми существующими моделями разом представляется несколько самоуверенным21. С наиболее убедительной его критикой выступил К. МакКенна, которой полагал, что субъективные временные свойства, закодированные в данный момент, недостаточны для субъективного переживания движения22. В целом МакКенна утверждает несостоятельность методологических принципов Проссера, поскольку отдельных примеров недостаточно для утверждения о преимуществе некоторой теории: «Теории, пытающиеся объяснить темпоральную феноменологию, не могут быть подкреплены доказательствами какой-либо одной сенсорной модальности или когнитивной функции, такой как визуальное движение»23. МакКенна полагает, что в основе темпоральной модели должна лежать темпоральность, а не примеры зрительных иллюзий, и хотя, безусловно, модель должна объяснять или предполагать возможность подобных иллюзий, но не строиться только на них.
Ещё в большей степени исследование вопроса «что это значит» касается философии восприятия, а именно границы между воспринимаемым и мыслимым – тот вопрос, который со времён Аристотеля не решён, однако попытки его продолжаются, в частности, в работах Т. Крейна и Н. Блока. Так, Т. Крейн обратил внимание на логическую невозможность того факта, что что-то может двигаться и не двигаться одновременно, из чего он сделал вывод, что иллюзия водопада представляет проблему для утверждения о понятийном содержании любого перцептивного опыта24.
Н. Блок в своей книге “The Border between Seeing and Thinking“ (2023) использует иллюзию водопада более широко, как пример для иллюстрации ряда особенностей нашего восприятия, прежде всего адаптации, притом характеризуемой как «отталкивающей»25. Такая характеристика объясняется именно тем, что воздействие некоторого свойства на восприятие отклоняет, смещает восприятие этого свойства. Пример с водопадом очень показателен: восприятие движущейся вниз воды повышает порог восприятия нисходящего движения, и в этом случае происходит смещение для любого нисходящего движения, которое оценивается таковым ещё до перевода взгляда на неподвижный предмет. Но на краткое время после перевода взгляда на берег этот порог сохраняется, восприятие смещается в сторону движения вверх и создаётся иллюзия движения берега. Однако намного более известные примеры адаптации связаны не с адаптацией к движению, а с адаптацией к цвету. В своей книге Блок приводит два изображения, цветное и чёрно-белое: после долгого взгляда на цветное изображение чёрно-белое кажется цветным, в частности, небо кажется синим. Блок утверждает, что, поскольку небо казалось голубым, то у читателя могло бы сложиться суждение, что небо выглядит голубым26, а суждение есть познание. Это приводит его к размышлению, является ли феноменальный контраст (контраст восприятий) предметом различных феноменологий перцептивного суждения или, наоборот, самого восприятия. Несмотря на то, что очевидный ответ, который он сам предлагает, сводится к убеждению в том, что различие в суждениях объясняется различием в восприятиях, окончательного ответа он не даёт.
Он снова возвращается к рассматриваемой нами иллюзии, обсуждая сенсорную доперцептивную адаптацию и перцептивную адаптацию, используемую в концептуальном мышлении. В частности, он допускает, что иллюзия водопада может быть вызвана визуализацией движения в одном направлении. Тем не менее, как следствие он предполагает, что утверждение о перцеп-тивности распознавания эмоций не доказывается тем фактом, что при распознавании эмоций используется адаптация27.
Наконец, Н. Блок упоминает про эффекты последействия движения при просмотре неподвижных фотографий. Особенно он обращает внимание на те фотографии, где изображена рыба, выпрыгивающая из воды, или человек, поднимающийся в гору. При этом если фотография не подписана, наблюдатель не может быть вполне уверен, поднимается ли человек в гору или скатывается с неё спиной вниз; однако, как правило, описание наблюдателя указывает именно на поднимающегося человека, поскольку это является более характерным. Это приводит его к размышлению о функциональной роли и к заключению о том, что внимание к функциональной роли может опровергнуть некоторые аргументы в пользу неопределённости перцептивной репре-зентации28. Впрочем, это последнее использование мало подходит именно к иллюзии водопада, потому что трудно обнаружить функциональную роль при обнаружении движения неподвижного берега вверх; впрочем, другие примеры последействия движения, в частности, спирального, действительно могут быть более корректным аргументом в пользу роли функциональности.
Как мы видим, использование этой иллюзии в философии восприятия действительно является намного более глубоким и аргументированным, чем в философии сознания. Тем не менее, в любом случае иллюзия водопада занимает значимое место в современном дискурсе, посвященном восприятию, в том числе восприятию времени и движения. Она широко используется при разработке, постановке и анализе различных нейронаучных экспериментов, кроме того, она широко применяется в философском дискурсе, как в вопросе о темпоральности сознания, так и при рассмотрении адаптации в процессе восприятия, а также при разграничении восприятия и мышления. И, хотя использование иллюзии в качестве аргумента не всегда корректно, это не является характеристикой исключительно упомянутого примера последействия движения, а является нередкой методологической ошибкой при работе с любым эмпирическим опытом.
***
Иллюзия, на которую обратил внимание Аристотель, неоспоримо важна для развития современного философского и нейронаучного знания. В том числе благодаря ей была выдвинута гипотеза о многопотоковой обработке данных нейронами, выделении отдельных потоков вычислений для местоположения и для анализа движения, а также он является значимым примером работы адаптационных механизмов.
Вместе с тем, как мы показали, необходимо быть аккуратным в ее использовании в качестве аргумента в пользу отдельных философских теорий. Поскольку любой эмпирический опыт может объясняться разными способами, неявный и неаргументированный выбор конкретного способа объяснения для утверждения преимуществ некоторой модели является методологической ошибкой. Последовательный анализ научных теорий, объясняющий наблюдаемый опыт, и приложение полученного анализа к философским моделям позволяет избежать подобных ошибок. При этом стоит учитывать, что для отдельных научных экспериментов вряд ли возможно предложить полное и корректное объяснение без привлечения научных и метанаучных теорий. Именно взаимодействие наблюдательной и экспериментальной науки и философии в попытке объяснить и понять наблюдаемый опыт приводит к наилучшим результатам. Сам наблюдаемый опыт (в данном случае – эффект последействия движения) является точкой роста как для философских теорий и нейрофизиологических моделей, так и конкретным примером для более узких исследований, в том числе исследований обратной адаптации. И, конечно, иллюзия водопада продолжает напоминать нам о проблеме разграничения восприятия и знания, которая до сих пор является центральной проблемой философии восприятия.
Список литературы Наблюдение Аристотеля об иллюзии последействия движения в современном знании о восприятии времени и движения
- Месяц, С. В. (2021) «Аристотель. О сне и бодрствовании (перевод и комментарии)», Платоновские исследования, 14.1, 226–251
- Солопова, М. А. (2011) «Аристотель о природе сновидений: физика против мантики (на основании трактата O предсказаниях во сне)», Историко-философский ежегодник 2012. Москва.
- Петрановский, Ф. А., пер. (1958) Тит Лукреций Кар, О природе вещей. Москва.
- Чулков, О. А. (2005) «К переводу: Аристотель, О сновидениях», А. В. Цыб, ред., Akademeia. Материалы и исследования по истории платонизма, вып. 6. Санкт-Петербург.
- Чулков, О. А., пер. (2005) «Аристотель, О сновидениях», А. В. Цыб, ред., Akademeia. Материалы и исследования по истории платонизма, вып. 6. Санкт-Петербург.
- Block, N. (2023) The Border Between Seeing and Thinking. Oxford University Press. Crane, T. (1988) “The Waterfall Illusion,“ Analysis 48, 142–147.
- Dainton, B. (2018) “Temporal Consciousness,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy
- (Winter 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/consciousness-temporal/.
- Gregoric, P., & Fink, J. L. (2022) “Introduction Sleeping and Dreaming in Aristotle and the Aristotelian Tradition,” in Forms of Representation in the Aristotelian Tradition. Leiden: Brill.
- Kubo F. (2021) “Brain Mechanisms for Optical Illusions: From Motion Aftereffect in the Zebrafish,” Brain and Nerve 73(11), 1237–1241.
- Le Poidevin, R. (2007) The Images of Time. Oxford University Press.
- McKenna, C. A. (2021) “Don’t Go Chasing Waterfalls: Motion Aftereffects and the Dynamic Snapshot Theory of Temporal Experience,” Rev. Phil. Psych. 12, 825–845.
- Park, M., Blake, R., Kim, Y. et al. (2019) “Congruent Audio-visual Sstimulation during Adaptation Modulates the Subsequently Experienced Visual Motion Aftereffect,” Sci. Rep. 9, 19391.
- Prosser, S. (2017) “Rethinking the Specious Present,” in I. Phillips, ed. Routledge handbook of philosophy of temporal experience. Oxford, 146–156.
- Ramachandran, V. S., Ramachandran, R. D. (2011) “Illusions: Aristotle's Error,” SA Mind 21, 1, 20–22.
- Rosenthal, D. М. (1986) “Two Concepts of Consciousness,” Philosophical Studies 49, 329–359.
- Thompson S. P. (1880) “Optical Illusions of Motion,” Brain, 3, 289–298.
- Varela, F. J., Thompson, E., and Rosch, E. (1991) The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Wohlgemuth, A. (1911) On the After-effect of Seen Movement. Cambridge University Press.
- Xiao, K., Gao, Y., Imran, S. A. et al. (2021) “Cross-modal Motion Aftereffects Transfer between Vision and Touch in Early Deaf Adults,” Sci. Rep. 11, 4395.