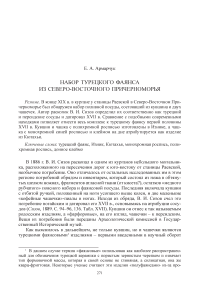Набор турецкого фаянса из Северо-Восточного Причерноморья
Автор: Армарчук Е.А.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Исследования средневековых памятников
Статья в выпуске: 237, 2015 года.
Бесплатный доступ
В конце XIX в. в кургане у станицы Раевской в Северо-восточном Причерноморье был обнаружен набор поливной посуды, состоявший из кувшина и двух чашечек. Автор раскопок В.И. Сизов определил их соответственно как турецкий и персидские сосуды и датировал XVII в. Сравнение с подобными современными находками позволяет отнести весь комплекс к турецкому фаянсу первой половины XVII в. Кувшин и чашка с полихромной росписью изготовлены в Изнике, а чашка с монохромной синей росписью и клеймом на дне атрибутируется как изделие из Кютахьи.
Турецкий фаянс, изник, кютахья, монохромная роспись, поли-хромная роспись, донное клеймо
Короткий адрес: https://sciup.org/14328135
IDR: 14328135
Текст научной статьи Набор турецкого фаянса из Северо-Восточного Причерноморья
Как выяснилось в дальнейшем, не только кувшин, но и чашечки являются турецкими фаянсовыми1 изделиями – первыми введенными в научный оборот такими предметами из Северо-Восточного Причерноморья. В последние десятилетия появились статьи о современных находках турецкого фаянса из раскопок Азова и других, в том числе крымских, памятников, которые показали, что обнаруженный под Раевской комплекс выпал из поля зрения исследователей. Это побудило вновь привлечь к нему внимание и сопоставить старый и новый материал. Благодаря отзывчивости и содействию хранителя коллекции В. Г. Рудакова набор посуды из округи станицы Раевская был изучен в ГИМе в натуре.
Кувшин (инв. № 80135, оп. 1338) имеет характерную для подобных изделий форму – сферическое тулово, плавно переходящее в высокое, почти прямое горло с небольшим расширением к устью и простым венчиком без утолщения (цв. рис. 1: с. 335). Несохранившаяся ручка крепилась верхним концом под венчиком, корнем – к плечику. Поддон кольцевой. Размеры сосуда (в сантиметрах): высота: общая – 20,5, горла – 8, поддона – 1,4; диаметр: тулова –14, устья – 7,5, дна – 8. Черепок относительно тонкий и хрупкий, кремового цвета и зернистой структуры, как у среднеазиатской и золотоордынской кашинной посуды. Снаружи покрыт белым ангобом, затем расписан яркими красками: синей и зеленой, приглушенной охристо-красной и черной (контур и тонкие детали рисунка). После росписи весь сосуд внутри и снаружи, включая поддон снизу, был облит тонким слоем прозрачной бесцветной глазури хорошего качества, которая после обжига приобрела яркий блеск. Горло внутри вверху тоже покрыто ангобом, жидким, в отличие от внешнего слоя.
Корпус и горло кувшина украшены одинаково, но рисунок на тулове более крупный. Он состоит из больших овальных заостренных медальонов с фестончатым контуром – пяти на тулове и трех на горле. Внутри каждого медальона изображен куст из пяти тонких побегов с большими круглыми «ягодами» или лопнувшими бутонами на конце. Куст вырастает из кочки, по бокам которой нарисованы два узких листа. Между медальонами вверху и внизу находятся розетки из строенных кружков. Медальоны и розетки оставлены белыми на синем фоне, ягоды и листья нарисованы зеленым, а кочки и лопнувшие части «ягод» закрашены охристо-красной густой краской. Ею же нанесены крапины внутри кружков, смещенные от центра к краю. Из-за густоты эта краска выделяется легким рельефом. Под венчиком нарисован зеленый бордюр с чередой тонких черных спиралей. Горло отделено от тулова пояском из черных крапин на белом фоне, обрамленным понизу фестонами, закрашенными зеленой краской. Основание тулова и поддон оставлены белыми. Внизу тулова черным изображена искаженная плетенка или псевдомеандр, а на поддоне проведены две круговые линии.
Форма и технология изготовления кувшина, а также техника, цветовая гамма и отдельные элементы росписи позволяют отнести этот сосуд к производству зрачности кроющей их глазури (Кубе, 1923. С. 10, 11; Кверфельдт, 1947. С. 8; Коваль, 1997. С. 105). Однако исходные итальянские фаянсовые изделия из Фаэнцы, давшей им имя, делались из глины, поэтому есть возражения против применения этого термина к посуде с силикатной основой. Ее предложено называть «кашинной», как это принято для такой разновидности средневековой восточной и золотоордынской посуды (Волков, 2006б. С. 415, 416).
города Изника в Турции. При этом очевидна схематичность и оригинальность его рисунка, отличного от классических полихромных цветочных сюжетов на изникской посуде, где цветы изображались довольно натуралистично. На эту особенность кувшина ранее обратил внимание Ю. А. Миллер, ее подтверждает и отсутствие прямых аналогий декору в новом материале ( Миллер , 1972. С. 138, 140). При этом некоторые отдельно взятые мотивы его росписи обнаруживают массу параллелей на изникских кувшинах, датированных серединой – концом XVI в. Это декоративные пояски под венчиком и в основании горла и тулова, строенные кружки с асимметричными контрастными крапинами, псевдомеандр у поддона ( Миллер , 1972. С. 76, 77, 80; Islamische Keramik…, 1973. P. 218. Ill. 314; Hayes , 1992. P. 245, 254. Pl. 35, 56 ). Однако эти мотивы присутствуют на посуде с более широкой датой, охватывающей и первую половину XVII в. ( Кверфельдт , 1947. Табл. XXVI; Станчева , 1960. Табл. I, 6 ; Миллер , 1972. С. 73, 107; Гусач , 2007. Рис. 6, 7 ; 8, 1 ). Их можно увидеть на турецких сосудах в экспозиции Государственного Эрмитажа, датированных концом XVI – началом XVII в. По композиции наиболее близким сосуду из Раевской является кувшин из раскопок в Софии с подобными крупными фестончатыми медальонами на синем фоне и таким же псевдомеандром у поддона ( Станчева , 1960. Табл. XI/II, 15, 16 ).
Все исследователи турецкого фаянса признают, что зеленый и красный цвета в его росписи появляются не ранее второй половины XVI в. Причем для нее показательна специфическая красная краска, на своеобразие оттенков которой уже обращали внимание. Она представляет собой ангоб из особой силикатной глины, насыщенной окислами железа с добавкой клейкого состава, который называли «армянским болюсом» ( Кверфельдт , 1947. С. 113, 114; Миллер , 1972. С. 55). В соответствии с этим признаком и принятыми классификациями, кувшин из Раевской следует отнести к продукции III, «родосского», периода 1555–1700 гг. («Rhodian», по А. Лейну) или периода «Изник IIIА» 1555 г. – начала XVII в. (по Дж. Хейсу). Исходя из конкретных дат большинства приведенных аналогий элементам его рисунка, кувшин можно датировать второй половиной XVI – началом XVII в.
Чашечки изготовлены по той же технологии и из такой же массы, что и кувшин, поэтому первичное определение «фарфоровые» к ним не подходит. Обе имеют форму пиалы сегментовидного профиля с небольшим различием, простой прямой венчик, плоское донце с кольцевидным поддоном. Роспись выполнена по белому ангобу под прозрачной бесцветной глазурью. По ее стилю и цветовой гамме они относятся к разным видам.
Монохромная чашечка (инв. № III/359–152) имеет плавно изогнутые, почти прямые вверху борта; диаметр ее устья 10, поддона 4, а общая высота – 5,5 см. Украшена с обеих сторон бледной кобальтовой росписью с более темным контуром той же краской. Внутри донная часть обведена тремя концентрическими окружностями (цв. рис. 2, Б: с. 336). В центре нее помещается контурное изображение в виде беседки или какого-то иного строения (?) с двускатной крышей. Снаружи на стенках в четырех секторах небрежно нарисованы четыре крупных многолепестковых цветка типа ромашки на тонком коротком стебле, а между ними – по два горизонтально вытянутых овала, крупный вверху, меньший внизу (цв. рис. 2, В). Край чашки с обеих сторон обведен одной окружностью, поддон с внешней стороны подчеркнут двумя окружностями. На внешней стороне дна имеется имитация квадратного клейма, разделенного внутри прямым крестом на четыре части, две из которых заполнены сетчатой штриховкой, а две другие имеют крапину в углу (цв. рис. 2, А).
Это изделие относится к числу подделок или подражаний китайскому фарфору с синей росписью эпохи династии Мин, производство которых процветало в XVI–XVII вв. в Иране и Турции. В Азове в слоях XIV в. найдены обломки китайских фарфоровых чаш-прототипов с наведенными кобальтом похожими цветами ( Масловский , 2006. Рис. 8, 1, 3 ). Оттуда же, из слоев турецкого периода конца XVII – первой половины XVIII в. и XVIII в., происходит серия турецких кофейных чашечек с сине-белой росписью, которые приписывают производству Кютахьи и относят к XVIII в. ( Гусач , 2005. С. 477–479. Рис. 1; 2006. С. 134. Рис. 6, 1–6 ). Вместе с тем имеются находки, которые позволили И. В. Волкову расширить узкую датировку данной группы турецких фаянсов. Это материалы из закрытого комплекса турецкого окопа в Азове, который он датировал 1641 г., и из крепости Измаил, где они по стратиграфии относятся к середине XVII в. ( Волков , 2006а. С. 475–477, 485. Рис. 3, 1, 2 ). К ним можно добавить фаянсы из раннеосманского слоя второй половины XVI – начала XVII в. Белградской крепости ( Bikić , 2007. P. 517, 518. Fig. 2). Надо сказать, что среди белградских и азовских находок нет прямых соответствий чашечке из Раевской, их связывает лишь форма и общий принцип построения декора. Этот принцип состоит в том, что внутри в центре помещается какая-либо одиночная фигура или цветок, снаружи стенки покрываются узором, а край и дно чаши обводятся одинарными либо двойными окружностями. Данный канон, как и клейма на донце и сюжеты росписи, перенят у китайских изделий. В позднеосманском фаянсе группы «Kütahya Ware» из Сарачан аналогии чашечке из Раевской тоже отсутствуют ( Hayes , 1992. P. 266).
Обратимся к клейму на сосуде. Аналогия ему обнаружена в болгарских находках турецкого фаянса из Софии, на одной из кофейных чашечек группы изделий с бледно-синей росписью ( Станчева , 1960. С. 123. Табл. IX, 74б ). К сожалению, М. Станчева не привела дату этой группы изделий, которая могла бы вытекать из стратиграфического контекста. Оба клейма сближаются с одним из типов «классических» клейм на сефевидской керамике с кобальтовой росписью, которыми в начале – первой трети XVII в. пользовались мастера Кермана, где был широко налажен выпуск имитаций китайского фарфора ( Golombek , 2003. P. 257. Fig. 4, d ). Однако те выписаны с большой тщательностью, чего не скажешь о клеймах на раевской и софийской чашках. Среди марок на дне кютахийских чашечек XVIII в. подобных клейм нет ( Миллер , 1972. С. 167, 169, 171; Гусач , 2005. С. 479. Рис. 1, 9, 10, 12, 14 ).
И. В. Волков проанализировал традиционно принятую и распространенную схему развития и хронологической смены стилей турецкого фаянса. На основе находок из упомянутого азовского окопа и крепости Измаил он пришел к выводу, что уже в середине XVII в. в Кютахье изготавливали кофейные чашки с так называемой бело-голубой росписью (голубой на белом фоне), морфологически не отличающиеся от продукции XVIII в. Он также выделил те признаки, по которым их можно отличить от поздней продукции: это отсутствие желтого красителя, побочная роль контура в росписи, свободное расположение рисунка (Волков, 2006а. С. 481–485). Они же присущи и чашечке с кобальтовой росписью из Раевской.
Полагаясь на все вышеизложенные факты, я считаю возможным датировать эту чашечку в пределах первой половины XVII в. и причислить ее к продукции Кютахьи.
Полихромная чашечка (инв. № III/359–153) характеризуется более отлогими стенками. Ее высота – 5,8, диаметр устья – 11, диаметр поддона – 4 см. Поддон асимметричный, возможно подправленный при реставрации сосуда. Глазурь снаружи доходит только до поддона. На зеркале дна в круге нарисован треугольник с «ягодой» в центре, четыре такие же «ягоды» примыкают к кругу снаружи (цв. рис. 3, А : с. 337). От них отходят четыре побега с пышным цветком и серповидными узкими листьями в основании. Остальные четыре побега расположены между ними и образуют удлиненные фигуры типа кипарисов на средневековой персидской керамике, по сторонам от которых нарисованы аналогичные листья и «ягоды». Снаружи борта украшены четырьмя побегами-ветвями, между ними – сгруппированные мазки наподобие листьев, а донная часть обведена одной окружностью (цв. рис. 3, Б ). Таким образом, в декоре чашки использована секторальная композиция. Роспись выполнена по белому ангобу черной (контур фигур, стебли, листья и обвод края чашки с обеих сторон), лиловой (ягоды), бледно-бирюзовой (кипарисы и круг) и темно-зеленой (цветы) красками. Темно-зеленый краситель при беглом взгляде почти не отличается от черного.
С формальной точки зрения цветовая гамма чашечки не противоречит тому, чтобы отнести ее к продукции II, «дамасского» («Damascus»), периода 1525–1560 гг., по А. Лейну, или периода «Изник IIВ» 1540–1555 гг., по Дж. Хейсу ( Hayes , 1992. P. 245). Однако этому мешают два факта: в ее росписи отсутствует синий краситель, а реальные параллели рисунку в «дамасских» фаянсах не обнаруживаются. Ю. А. Миллер полагал, что кипарисы и ягоды в данном сюжете близки росписи поздних изделий Изника XVII в., и приводил подтверждение этому из болгарских находок турецкого фаянса ( Милл ер , 1972. С. 140). Сходство стиля и элементов декора раевской чашечки и фрагмента кофейной чашки из раскопок в Софии, на которую он ссылался, несомненно: на обеих присутствуют закрашенные бледно-бирюзовым цветом фигуры, лиловые круглые ягоды, удлиненные кипарисы и черный рисунок снаружи, а сама роспись в обоих случаях несколько упрощенная, схематизированная. М. Станчева отметила близость этого софийского фрагмента к посуде стиля «Дамаск», но затруднилась датировать его этим периодом, не найдя аналогий, и условно отнесла к концу XVII – первой половине XVIII в. ( Станчева , 1960. С. 122, 123. Табл. XIV, 67 ).
Другая болгарская находка, чаша из Варны производства Изника конца XVI – начала XVII в. с синей росписью в черном контуре, демонстрирует ту же композицию, что и раевская, т. е. чередование четырех кипарисов с четырьмя крупными цветками. Кроме того, некоторые элементы их рисунка перекликаются: это тонкие серповидные листья, круглые ягоды, показанное двумя линиями основание кипарисов ( Плетньов , 2007. Рис. 3).
Вместе с тем серповидные листья и круглые ягоды в подобном стиле можно видеть на блюде с полихромной росписью в экспозиции Государственного Эрмитажа, атрибутированном как «иранское изделие XVII века»2. Э. К. Квер-фельдт относил его к группе полихромных «кубачинских» изделий XVI–XVII вв. с пористым черепком, декор которых имеет много общего с турецкими «родосскими» полуфаянсами, но все же он оригинален ( Кверфельдт , 1947. С. 129, 130. Табл. XXXI). Родиной «кубачинской» посуды считают Тебриз, хотя одновременно высказано мнение о производстве ее в персидском городе Саве. Теперь к Тебризу добавляют Нишапур и Мешхед ( Кверфельдт , 1947. С. 125, 132; Papa-dopoulo , 1982. Abb. 96; Адамова , 2008). Современные исследователи датируют «кубачинскую» керамику позднетимуридским – раннесефевидским временем XV – начала XVI в. ( Адамова , 2008). «Кубачинские» полихромы в сравнении с турецкими характеризуются своеобразной цветовой гаммой, где присутствует горчично-желтый тон, бирюзовая краска поблекла, а красный ангоб приобрел бурый цвет. В остальном она соответствует палитре «родосских» фаянсов. Однако по набору красителей ни к «родосским», ни к «кубачинским» изделиям раевская чашечка не относится.
Я полагаю, что раевскую полихромную чашечку можно гипотетически причислить к изделиям Изника. Отсутствие прямых аналогий пока затрудняет ее уверенную атрибуцию. Установить примерную датировку помогают другие сосуды из набора – кувшин и чашечка с синей росписью, которые хронологически не выходят за пределы первой половины XVII в. В пользу такой даты полихромной чашечки косвенно говорит схематичность или огрубленность ее рисунка в сравнении с варненской чашей рубежа XVI–XVII вв.
К началу 1970-х гг. Ю. А. Миллер собрал информацию о находках турецкого фаянса на Кавказе и в Северо-Восточном Причерноморье, из которой вытекает, что его ввоз или попадание в регион было малочисленным и эпизодическим, а стоимость этой продукции – дорогой ( Миллер , 1972. С. 140–145). Раскопки в последние десятилетия курганных могильников, тяготеющих к черноморскому побережью, не опровергают этот вывод, поскольку находки такой посуды в них отсутствуют. Это повышает ценность раевского набора, который на основании изложенных выше наблюдений я предлагаю датировать в пределах первой половины XVII в. Комплекс оригинален сочетанием турецких фаянсовых изделий, одновременно вышедших из разных керамических центров – Изника и Кютахьи – и потому по-разному украшенных в цветовом отношении и в отношении стиля.
Список литературы Набор турецкого фаянса из Северо-Восточного Причерноморья
- Адамова А.Т., 2008. Керамика Ирана//Во дворцах и шатрах. Исламский мир от Китая до Ирана: каталог выставки в Гос. Эрмитаже. СПб.: Гос. Эрмитаж. С. 236-249.
- Волков И.В., 2006а. Закрытый комплекс турецкого времени из Азова//Историко-археологические исследования в Азовє и на Нижнем Дону/Отв. ред. В.Я. Кияшко. Азов: Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Вып. 21: В 2004 г. С. 473-497.
- Волков И.В., 20066. Об определении керамики и азовском сосуде в технике «минаи»//Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону/Отв. ред. В.Я. Кияшко. Азов: Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Вып 22: В 2005 г. С. 410-426.
- Гусач И.Р., 2005. Турецкие полуфаянсы XVIII века из Азова//Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв./Отв. ред. С.Г. Бочаров, В.Л. Мыц. Киев: Стилос. С. 476-481.
- Гусач И.Р., 2006. Археологические исследования на территории турецкой крепости Азак//Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону/Отв. ред. В.Я. Кияшко. Азов: Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник Вып. 21: В 2004 г. С. 127-141.
- Гусач И.Р., 2007. Расписные полуфаянсы из Изника в турецкой крепости Азов//Материалы и исследования по археологии Дона. Вып. II: Средневековые древности Дона. М.; Иерусалим: Мосты культуры. С. 345-349.
- Кверфельдт Э.К., 1947. Керамика Ближнего Востока: Руководство к распознанию и определению керамических изделий. Л.: Гос. Эрмитаж. 143 с.
- Коваль В.Ю., 1997. КеРАмика Востока в средневековой Москве//РА. № 2. С. 104-122.
- Кубе А.Н., 1923. История фаянса. Берлин: Гос. изд-во. 122 с.
- Масловский А.Н., 2006. Керамический комплекс Азака. Краткая характеристика//Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону/Отв. ред. В.Я. Кияшко. Азов: Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Вып. 21: В 2004 г. С 308-473.
- Миллер Ю.А., 1972. Художественная керамика Турции. Л.: Аврора. 184 с.
- Плетньов В., 2007. Турски фаянс от Варна//Поливная керамика Восточной Европы, Причерноморья и Средиземноморья в X-XVIII вв.: II Междунар. науч. конф. (Ялта, 19-23 ноября 2007 г.): Тез. конф. Ялта. С. 90-93.
- Сизов В.И., 1889. Восточное побережье Черного моря. Археологические экскурсии. М.: Тип. Мамонтова А.Н. и К°. 183 с. (Материалы по археологии Кавказа; Вып. II.).
- Станчева М., 1960. Турски фаянс от София//Българска академия на науките. Известия на Археологическия институт. XXIII. София. С. 111-144.
- Bikić V., 2007. The Early Turkish Stratum on the Belgrade Fortress//ÇANAK. Late Antique and Medieval Pottery and Tiles in Mediterranean Archaeological Contexts: Proceedings of the First International Symposium on Late Antique, Byzantine, Seljuk and Ottoman Pottery and Tiles in Archaeological Context (Çanakkale, 1-3 June 2005). Istanbul. P. 515-522. (BYZAS 7).
- Golombek L., 2003. The Safavid Ceramic Industry at Kirman//Iran. Vol. XLI. London. P. 253-270.
- Hayes J.W., 1992. Excavations at Saraçhane in Istanbul. Vol. 2: The Pottery. Princeton: Princeton University Press. 468 p.
- Islamische Keramik. Düsseldorf: Hetjens-Museum; Berlin: Museum für islamische Kunst. 342 S.
- Papadopoulo A., 1982. Islamische Kunst. Freiburg; Basel; Wien: Verlag Herbert Freiburg im Breisgau. 620 s.