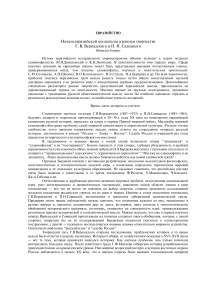Начала евразийской концепции в раннем творчестве Г. В. Вернадского и П. Н. Савицкого
Автор: Алеврас Наталья Николаевна
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Евразийство
Статья в выпуске: 1, 1999 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911701
IDR: 14911701
Текст статьи Начала евразийской концепции в раннем творчестве Г. В. Вернадского и П. Н. Савицкого
Истоки евразийского исторического мировосприятия обычно возводят к идеям позднего славянофильства (Н.Я.Данилевский и К.Н.Леонтьев). В действительности они гораздо шире. Сфера научных влияний на евразийцев вполне может быть представлена именами отечественных ученых, придерживавшихся иных, чем поздние славянофилы, научных и политических ориентаций: С.М.Соловьева, А.П.Щапова, В.О.Ключевского, П.Б.Струве, Н.А.Бердяева и др. По всей вероятности, проблему генезиса евразийских идей нельзя решить только путем обших сопоставлений научной доктрины евразийцев в ее развитом виде с концепциями идейных предшественников. Целесообразно специально рассмотреть раннее творчество представителей евразийской школы, приходящееся на дореволюционный период их деятельности. Именно первые их научные исследования, органично связанные с традициями русской обществоведческой мысли, могли бы наиболее адекватно отразить и различного рода научные влияния на них, и самобытные черты их воззрений.
Время, идеи, интересы и учителя
Становление научных взглядов Г.В.Вернадского (1887–1973) и П.Н.Савицкого (1895–1965), будущих лидеров и теоретиков претендовавшей в 20–30-е годы XX века на новаторство евразийской концепции русской истории, пришлось на канун и период Первой мировой войны. Масштабы мировой катастрофы обострили проблему судеб мировой цивилизации и европейской культуры. Русское ученое сообщество этого времени напряженно искало новые ответы на стародавние вопросы русской истории, заключенные в триаде “Россия — Запад — Восток”. Судьба России в очередной раз стала предметом исторического и историософского осмысления.
В предвоенное и военное время с новой силой вспыхнули споры “западников” и “славянофилов” в их “постварианте”. Боязнь завязнуть в этих спорах, глубокая убежденность в крайней ограниченности и уже изжитости обоих течений побудили Н.А.Бердяева выступить с призывом отказаться от возврата к “провинциальным” идеологиям “с ограниченным горизонтом”: “Мы уже не славянофилы и не западники... Наша национальная мысль должна творчески работать над новой славянской идеей” 1.
Призывы Бердяева совпали с активными разработками западными мыслителями философских, политологических и геополитических моделей мира, с попытками определить перспективы мировой цивилизации и ее отдельных культурных образований. Не вызывает сомнения, что российская научная среда была знакома с известными в то время доктринами Ф.Ратцеля, Х.Маккиндера, Ч.Конэнта, Дж.А.Гобсона и др.
Отечественные и зарубежные рецепты решения мировых проблем, актуализация национальной идеи, рост антигерманских и патриотических настроений, появление новой области знания в виде геополитики — все это не могло не повлиять на выбор сюжетов, ставших предметом исследований молодого поколения российских ученых, на их идеи и теории. Именно к этому поколению относились Г.В.Вернадский и П.Н.Савицкий, воспитанные в традициях либеральной академической среды. Предваряя итоги наших наблюдений, можно заметить, что сочинения каждого из них, написанные в разных жанрах и, вероятно, независимо друг от друга, во-первых, явно тяготели к геополитическому обобщению исторического материала, во-вторых, опирались на совокупность идей, принадлежавших различным школам исторической и геополитической мысли. Можно полагать, что уже в первых научных опытах Вернадский и Савицкий претендовали на попытки создания такого обобщения, которое, с одной стороны, отвратило бы их от подчеркиваемой Бердяевым опасности скатиться к односторонним построениям, с другой — позволило воспользоваться новыми идеями относительно мирового устройства. Они начали свой поиск “русской идеи” и “судьбы России”..
Творческий путь Г.В.Вернадского открыли исследования, проблематику которых в то время нельзя было отнести к разряду изученных. История Сибири, ее хозяйственное освоение в XVI–XVII веках — вот та тема, которая привлекла молодого историка. Как научная проблема, она только начинала интересовать большую науку. После известного труда Г.Ф.Миллера сибирская история разрабатывалась преимущественно на краеведческом уровне. Неизмеримо возросший интерес к истории восточных окраин России наблюдается в начале XХ века, что в первую очередь было вызвано столыпинской аграрной реформой и переселенческой политикой. В это время к проблеме освоения окраинных территорий России обращается известный историк М.М.Богословский, написавший в 1909–1912 годах сочинение об истории земского самоуправления на русском Севере в XVII веке. По признанию Вернадского, его собственный интерес к истории Сибири возник в 1910 году, после окончания им Московского университета. Можно предполагать, что этот интерес был стимулирован именно Богословским, которого Вернадский называл своим учителем по русской истории 2.
Первые работы Вернадского 3, объединяемые общей проблемой, — колонизацией Сибири, а также общей идеей — о восточной направленности “распространения” русского государства, не были тогда им продолжены. Переехав в 1911 году в Петербург, он принимается за разработку истории русского масонства, которая и стала основой его магистерской диссертации. Но именно его самые первые статьи, на наш взгляд, явились той отправной точкой, с которой он начал свое “начертание русской истории” в эмиграции.
В отличие от профессионального историка Вернадского, П.Н.Савицкий связывал свои научные интересы преимущественно с экономической географией. Начало творческого пути Савицкого, к сожалению, мало изучено. Он был учеником П.Б.Струве и, подобно учителю, тяготел к публицистическим выступлениям. Выявленные нами, по-видимому, первые работы Савицкого 4 выполнены в жанре политической публицистики и полемических заметок. Высказанные в них идеи будут им развиты (а иногда — почти дословно повторены) в ряде трудов эмигрантского периода.
Несмотря на различие сюжетов и жанровой организации научных наблюдений, оба исследователя погрузились в общую проблему: история России-империи и ее судьба. Имперская тема была тогда сравнительно новой. Обостренный интерес к ней вполне понятен по причине как характера российской государственности, так и особенностей внешнеполитической и социально-психологической атмосферы того времени.
Первые статьи Вернадского
Г.В.Вернадский подошел к теме империи через традиционную в русской истории проблему колонизации, обстоятельно разработанную С.М.Соловьевым и В.О.Ключевским. Классики русской исторической науки в своих наблюдениях над характером и развитием русской колонизации пришли к выводу о нарастании с течением времени азиатской тенденции, сделавшей Россию, по словам В.О. Ключевского, переходной страной, посредницей между Европой и Азией 5. Вместе с тем эти историки, верные своим западническим настроениям, подчеркивали, что движение России к Азии было исторически вынужденным. По мысли С.М.Соловьева, оно привело восточнославянские племена в чуждую им природную среду — “природу-мачеху” и создало условия для развития особого, отклоняющегося от европейского, варианта “истории-мачехи” 6. Но и тот, и другой историк всегда подчеркивали европейскую доминанту и отказывали Азии в сколько-нибудь существенном влиянии на историю и культуру России.
Обращение Вернадского к известной идее было бы простым повторением выводов его учителей (заметим, что сам он идентифицировал себя со школой Ключевского) и мало что значило бы в науке, если бы не новые мотивы и акценты, которые прозвучали в его первых работах.
В статье “Против солнца. Распространение русского государства к востоку” Вернадский, следуя в целом традициям географического детерминизма, концентрирует внимание на изучении воздействия размеров территории, занимаемой тем или иным государством, на ход и характер его истории. Исходя из убежденности в том, что существует прямая зависимость между территорией и историей, он попытался вывести своеобразный закон соотношения времени и пространства, подчеркнув при этом, что его действие реализуется при больших размерах государственной территории. На таком “огромном пространстве” исторический процесс, по мысли Вернадского, приобретает своеобразный облик — подобен волнообразным кругам, расходящимся вширь от центра развития. “Огромное пространство” создает объективные условия для формирования особой цивилизации. Ее характерной чертой является постоянное “распространение государства” и асинхронность исторического развития центра и периферии: окраинное общество с запозданием повторяет те процессы, которые уже реализовались в сердцевине государственной территории. Из-за этого в одно и то же хронологическое время возможны различные исторические состояния большого многослойного общества, как бы размытого в географическом пространстве. Типичные черты данной модели исторического процесса Вернадский обнаруживает в характере русской истории. Его общеметодологические выводы предвосхищают будущие геополитические наблюдения евразийцев. Эти выводы таковы: русская история есть история общества, занявшего огромное пространство; распространение русского государства имеет предопределенную географическими и этнографическими факторами ориентацию с запада на восток.
Соответственно, занимаясь Сибирью XVI–XVII веков, Вернадский акцентировал внимание на ее окраинном положении. Периферийность, локальность и определенная отстраненность от исторических процессов, происходивших в центре Московского государства, привели к тому, что потребовалось длительное время, чтобы Сибирь, а за ней и все восточные территории, формально включенные в состав Московии, стали органической частью русского государства. Вернадский считал, что вплоть до начала массовой крестьянской колонизации они сохраняли архаичный статус государевой вотчины, в то время как центральные области уже приобретали облик государственной территории.
По закону волнообразного развития отношение к новым приобретениям на Востоке как к вотчинным владениям сохранялось до середины XIX века. Об этом свидетельствует факт продажи в 1867 году Русской Америки. Ссылаясь на него, Вернадский говорит о длительном существовании патриархального взгляда государственной власти на восточные территории как на имущество казны, а не часть государства.
Что касается собственно Сибири, то в XVI —XVII веках она, по мысли Вернадского, являлась для московского царя только “складом мягкой рухляди”. Царь считал нужным оградить этот склад от чужих взоров, но отнюдь не заботился о том, чтобы обеспечить всестороннее развитие Сибири. Это дало основание историку поставить Сибирь того времени в один ряд с Испанской Америкой XVI века и Британской Индией XVIII века — по общему положению всех этих колоний относительно стран-завоевательниц.
Таким образом, в одной из первых работ Вернадский по-своему смоделировал развитие русской истории, взяв за основу историко-географическое пространство, определяемое им в качестве квинтэссенции, “философии всей русской истории 7. Историк придерживался мнения, что распространение русского государства в рамках естественных границ предопределенного исторической судьбой пространства (вплоть до Аляски) является органической задачей России. В отличие от С.М.Соловьева, который с горечью констатировал вынужденность восточного движения, Вернадский с историческим оптимизмом обозревал распространение русского государства в его пространственных масштабах и траекторию этого движения. Для него утрата Русской Америки, являвшейся, по его словам, органическим завершением “заокеанского стремления русской колонизации”, означала потерю возможностей для “творческой работы русской народности” 8. Не употребляя термина “империализм”, историк по сути создал модель России-империи со свойственными ей объективно прогрессивными задачами. В некоторой степени его мысли созвучны идеям Н.А.Бердяева, называвшего Россию величайшей империей и считавшего, что имперская миссия России как центра Востока и Запада (...“она — Востоко-Запад”) заключена в ее “духовном универсализме” и защитной, освободительной функции по отношению к малым народам 9.
Другая проблема, которая занимала Вернадского, — это проблема лидеров колониального движения русского государства в XVII веке. В статье “Государевы служилые и промышленные люди”, которую он сам считал наиболее серьезным среди своих первых сочинений, историк путем обстоятельного исторического анализа прослеживает соотношение двух основных колонизационных сил — частных и служилых людей. В этой статье Вернадский пытался также определить тип зависимости русских колоний (окраин) от метрополии (государственного центра). Его интересовал и характер государевой администрации, действовавшей в колонизируемой Сибири, роль частных промышленных людей.
Главный вывод Вернадского заключался в том, что русские колонии на Востоке — это особый тип колоний, не отделенных от метрополии океаном, а напротив, соединенных с ней сушей. Благодаря этой сухопутной связи стало возможным стихийное движение на восток русской народности, воспроизводящей на новом месте традиционные черты своей хозяйственной жизни и культуры. Неотделенность колоний от метрополии способствовала деятельным инициативам государства по освоению окраин. Государство постепенно воспроизводило себя на местах. Соотношение частной (народной) и казенной (государственной) колонизации характеризовалось его доминирующей ролью: оно не только имело в колониях широкую сеть собственной хозяйственной агентуры в лице служилых людей, но и подчинило своим интересам деятельность частных лиц — промышленных людей.
Обрисованная Вернадским схема колонизационного движения России завершалась оценкой хозяйственной деятельности русских на окраинах страны. Хищнические методы охоты — важнейшей промысловой сферы колоний — явились, с одной стороны, следствием экстенсивной ее организации, с другой, стали причиной стремительного “распространения” России в XVII веке: за полстолетия она неудержимым потоком дошла до берегов Тихого океана.
Резюмируя, можно сказать, что для Вернадского история России — это история распространения русского государства по большому пространству материковой естественно-географической среды с преимущественной ориентацией на восток. Колонизационный процесс (со свойственной ему постепенностью даже быстрого продвижения по огромной территории) закладывал своеобразный алгоритм асинхронного развития центра, выполняющего роль метрополии, и окраин-колоний, в разной степени удаленных от него. Изначально движение на восток было вызвано хозяйственными задачами, в ходе его эти задачи решались экстенсивными методами .
Раннее творчество Савицкого
Сюжетные линии первых статей П.Н.Савицкого, написанных в годы войны, замыкались на определении характера империализма борюшихся держав. В центре его внимания — Германия и Россия. Методологические задачи его сочинений были сопряжены с поисками типичных черт различных моделей развития сверхгосударств, пространственно расширявшихся на протяжении своей истории. В своих ранних исследованиях Савицкий соединил и воплотил черты нарождавшихся тогда в западной науке учений об империализме и геополитике. Наиболее обстоятельно он это сделал в статье “Борьба за империю. Империализм в политике и экономике”. Научные опыты Савицкого можно рассматривать как одну из первых в России попыток обратиться к указанной проблематике. В одно с ним время над проблемами российского империализма размышлял Н.А.Бердяев в своих историософских и социальнопсихологических этюдах; экономическую интерпретацию империализма как последней стадии капитализма предложил В.И.Ленин. Савицкий дал свое толкование империализма и оказался единственным, кто создал целостный исторический образ России как империалистической державы.
Представления Савицкого об империализме трудно отождествить с какой-то одной группой такого рода представлений, выделяемой в рамках существующих на сегодняшний день классификаций теорий империализма 10. Для него понятия “империализм” и “империалистическая политика” указывали на особый тип макрогосударства, расширившего национальную культуру, экономику, политику за пределы своих этногеографических границ. Савицкий вкладывал в эти понятия большой положительный смысл, делал акценты на развитии “здорового империализма” и полагал, что “империалистическое расширение” служит прогрессу человечества. Пафос его апологетического подхода сродни идеям Н.А.Бердяева (в свою очередь повторившего К.Маркса) о цивилизаторской миссии империализма. К империям Савицкий относил только те “многонациональные цельности”, которые соответствовали этому всемирноисторическому назначению. Он не отрицал наличия экспансии в их истории, но считал, что положительный исторический вклад империй перевешивает груз несчастий, который они приносили покоренным ими народам 11.
В предложенной Савицким типологии империалистических государств по пространственногеографическому принципу можно заметить начала геополитического подхода к империализму. Он придерживался мнения, что история знала две модели империй — Римскую и Британскую. Первая формировалась как колониально-материковая или “континентально-империалистическая” система, скрепляемая преимущественно политическими отношениями. Вторая представляла собой “колониально-заморскую” державу, базирующуюся на экономических отношениях. Россию Савицкий отождествлял с первой моделью, Германию — со второй.
Российская империя, на его взгляд, представляла разновидность “здорового империализма”, способного не только оплодотворять культуры “империализируемых” наций, но и впитывать их в себя, создавать таким образом “сверхнациональную культуру”. Свидетельством положительного итога такого исторического процесса он считал экономическую равносильность и равноправность народов российской империи 12.
Важное место в историко-политологических построениях Савицкого занимает эпохальное для России событие-явление — “татарское владычество”. Отталкиваясь, вероятно, от идей Н.М.Карамзина, он считал, что зависимое положение Руси в системе татаро-монгольского господства породило импульс к “национальному объединению”, а само “татарское владычество способствовало созданию фундамента Русской империи” 13. Идея Савицкого, высказанная им в 1915 году мимолетно, через 10 лет получит развернутое обоснование в статьях Н.С.Трубецкого и Г.В.Вернадского, а сам сюжет о влиянии татарского ига на ход русской истории займет одно из центральных мест в концепции евразийцев. То, что Савицкий сказал о зависимости русского исторического пути от мощной восточной культуры, было лишь первым намеком на будущие выводы евразийцев; тем не менее, сделав его, Савицкий провел разграничительную черту между исторической теорией будущих евразийцев и преобладавшими в то время суждениями либеральной историографии по этому вопросу. Так, С.М.Соловьев не уставал подчеркивать “мнимое влияние татарского ига” на ход русской истории и независимое от татарского владычества внутреннее развитие русского общества от родовых отношений к государственным 14.
В то же время Савицкий воспринял важнейший элемент русской историографической классики — теорию колонизационного характера русской истории. Правда, она у него приобретает сугубо политическую окраску. В качестве колонизационной силы у Савицкого предстает русская государственность, распространяющая свою политическую систему вширь, перемалывающая в своем движении и развитии относительно слабые государственные и догосударственные образования. Важным этапом в государственно-политическом движении России является XVII век. А среди событий этого столетия Савицкий выделяет одно, наиболее существенное для его концепции, — “объединение Москвы и Украины”. Он понимает его как объединение “первонаций” и одновременно — образование великой национальности. Политический акт воссоединения имел глубокое значение для российской государственности — она стала “сверхмосковской”, в ее развитии обозначилась новая тенденция. По мысли Савицкого, эта тенденция не содержала выраженных империалистических черт; тем не менее она заложила предпосылки для формирования единого центра будущей империи. Окончательное снятие московского и украинского узкоэтнических и узкополитических начал произошло в петровскую эпоху, в момент создания северной столицы — Петербурга.
Савицкий зафиксировал также тот момент, когда государственный организм вследствие своего роста приобрел новое качество, позволяющее квалифицировать его уже как империю. Он считал, что огромные территориальные приобретения XVII–XVIII веков сами по себе еще не являлись сущностными признаками империализма. Поволжье, Сибирь, Прибалтика, Дальний Восток — эти территории имели для России внутриисторическое значение, были необходимы для образования “великой национальной русской цельности”. К концу XVIII века все земли в пределах возможных естественных этногеографических границ были освоены русскими, российская территория стала русской как по главенствующему этническому компоненту, так и по государственно-политическому облику. И только с завершением этих процессов дальнейшее расширение территории и продвижение русских стало равнозначно выходу за пределы “русской цельности”. Начался же этот выход с завоевания Крыма и присоединения Грузии — именно с этими военно-политическими акциями Савицкий, в некотором созвучии с мыслями В.О.Ключевского, связывал превращение России в империю.
Глядя из военного 1915 года в будущее России, Савицкий прогнозировал и дальнейшее ее развитие как государства-империи, причем подчеркивал: “Россия обращена на Восток”. Подчеркивал Савицкий и особую роль русского этноса, именно он доминировал в этом восточном движении, нес в себе более высокую культуру и создавал для других народов основу национального единства и национальной безопасности. Тут у Савицкого немало общего с Н.А.Бердяевым, размышлявшем о великорусском племени как о национальном ядре российского империализма 15.
Вместе с тем, отмеченный нами восточный акцент в ранних работах Савицкого способствовал тому, что уже в эмиграции евразийцы специфически определят тип этнической эволюции русских: “мы не славяне и не туранцы”. В дореволюционных рассуждениях Савицкого проглядывает и другая мысль: о культуре Российской империи как сложносоставной и органически спаянной с культурами всех российских народов.
Предметом ранних исследований Савицкого о российском империализме стали также экономические возможности России. Изучение ее промышленного потенциала являлось для Савицкого принципиально важным, так как помогало понять сущность империалистического государства. Непосредственной же причиной обращения Савицкого к исследованию национальных производительных сил было его категорическое несогласие с М.И.Туган-Барановским. Последний весьма скептически оценивал сырьевые ресурсы страны, полагал, что они недостаточны для обеспечения мощного промышленного развития, и прогнозировал сохранение традиционной структуры хозяйства России с преобладанием в ней аграрного сектора. Савицкий совершенно иначе оценивал хозяйственноэкономические возможности России. Расчеты Туган-Барановского были произведены лишь по европейской части страны. Контраргументы Савицкого опирались на данные о сырьевых запасах азиатской России. Савицкий придавал принципиальное значение понятию “русские производительные силы”: по его мнению, оно должно было охватывать всю территорию Российской империи. Туган-Барановского молодой ученый обвинял в сужении территории страны, которая могла бы промышленно эксплуатироваться. По предположению Савицкого, “европоцентристский” подход его оппонента, отрицание Туган-Барановским необходимости промышленного перемещения России в пределы Азии были следствием определенных антиазиатских предубеждений: “ведь Азия есть синоним некультурности, азиат — это варвар, и потому путь в Азию есть путь к одичанию” 16. Для Савицкого такой подход был абсолютно неприемлем, как не отвечающий его пониманию той имперской модели, к которой он относил Россию. Савицкий считал, что, в отличие от Британской империи, где развитие промышленности сосредоточено в метрополии, в Российской “по естественным условиям промышленность должна быть как бы рассеяна по всему лицу империи” 17. Обусловленная сама по себе спецификой сосредоточения природных ресурсов, децентрализация промышленности должна была стать базой равномерного экономического развития, цивилизующего все народы России.
Рассмотрение вопроса о территориальном размещении российской промышленности привело Савицкого к традиционной теме влияния Запада на Россию. Он установил “роковое территориальное несовпадение сосредоточий русской культуры с центрами природных ресурсов России” 18. Смысл этого несовпадения заключался в наличии в европейской части страны мощного европеизированного интеллектуально-творческого ядра и отсутствии там адекватных культурному потенциалу промышленных ресурсов. В силу западнических исторических устремлений России природный потенциал ее промышленного развития, сосредоточенный главным образом на юге и востоке страны, оказался невостребованным, что и создавало иллюзию бесперспективности национальной индустриальной базы. Данное противоречие Савицкий предлагал разрешить путем интенсивного включения окраинных областей в сферу хозяйственного освоения, “устремления русской промышленной знергии на восток и юг”. Война делала эту задачу сверхактуальной.
Утилитарные выводы Савицкий обосновывал теоретико-методологическими выкладками. Он ввел понятие “многозначности” хозяйственной природы страны. Чтобы эта многозначность реализовалась, необходимо “велико-хозяйственное развитие России”, иначе говоря — общетерриториальное развитие. Только так, по мнению Савицкого, станет реальностью сбалансированное развитие и промышленности, и сельского хозяйства — то, чего не могут достигнуть в своих национальных границах другие государства, вынужденные подобного рода проблемы решать путем “заморской” колониальной экспансии. Преимущества же России проистекают из того, что континентальное “русское народное хозяйство”, являясь по своей геополитической природе “хозяйством имперским”, способно решать все экономические проблемы, не выходя за национальные политические рамки.
Высказанные в 1916 году идеи об экономических особенностях российского империализма сохраняли для Савицкого принципиальное значение и в эмигрантский период. Их оценка автором оставалась высокой: в 1932 году он подчеркивал актуальность своих дореволюционных статей, написанных “как бы сегодня” 19. Воспроизведя почти без изменения их содержание, он таким образом дал экономическое обоснование своей теории “месторазвития” русской истории. Фактически его рассуждения 1916 года о “многозначности” российской экономики пополнились в 1932 году только новыми понятиями и определениями, вошедшими уже в научный лексикон евразийцев: “материковое хозяйство”, “хозяйственная самодостаточность”, “автаркия”. Ретроспективный взгляд Савицкого-евразийца на материал своих ранних работ позволил ему заключить, что они подтверждают вывод о необходимости и способности России “догнать и перегнать” европейские государства 20.
* * *
Подведем итоги. Своим ранним творчеством Г.В.Вернадский и П.Н.Савицкий положили начало новым концептуальным построениям, сохранявшим, однако, достаточно хорошо выраженную преемственность с трудами тех русских историков, которые подчеркивали особую роль природного фактора в историческом процессе. В то же время очевидно, что научный поиск будущих евразийцев был оплодотворен идеями, почерпнутыми из геополитических доктрин западных ученых.
Таковы историографические истоки первых статей Г.В.Вернадского и П.Н.Савицкого. Что же касается их собственного научного значения, то наиболее ярко оно выразилось в разработке имперской модели русской истории — модели, имевшей, с одной стороны, определенные аналогии в мировом историческом опыте, с другой, только ей свойственные закономерности развития.
Список литературы Начала евразийской концепции в раннем творчестве Г. В. Вернадского и П. Н. Савицкого
- Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. С. 142.
- Вернадский Г.В. Очерки по истории науки в России//Записки русской академической группы. Нью-Йорк, 1974. Т. VIII. С. 189.
- Вернадский Г.В. Против солнца. Распространение русского государства к востоку//Русская мысль, 1914. № I
- Вернадский Г.В. О движении русских на Восток//Научный исторический журнал, 1914. № 2
- Вернадский Г.В. Государевы служилые и промышленные люди в Восточной Сибири XVII в.//Журнал Министерства народного просвещения, 1915. Новая серия, апрель.
- Савицкий П.Н. Борьба за империю. Империализм в политике и экономике//Русская мысль, 1915. № 1, 2
- Савицкий П.Н. К вопросу о развитии производительных сил//Русская мысль, 1916. № З
- Савицкий П.Н. Проблема промышленности в хозяйстве имперской России//Русская мысль, 1916. № 11
- Ключевский В.О. Сочинения. М., 1987. Т. I. С. 65.
- Соловьев С.М. Сочинения. М., 1991. Кн. VII. Т. 13. С. 24.
- Шлезингер А.М. Циклы американской истории. М., 1992. С. 174-187.