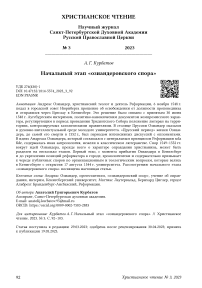Начальный этап «озиандеровского спора»
Автор: Курбатов А.Г.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Богословие инославных церквей
Статья в выпуске: 3 (106), 2023 года.
Бесплатный доступ
Андреас Озиандер, христианский теолог и деятель Реформации, 6 ноября 1548 г. подал в городской совет Нюрнберга прошение об освобождении от должности проповедника и отправился через Бреслау в Кенигсберг. Это решение было связано с принятым 30 июня 1548 г. Аугсбургским интеримом, политико-каноническим документом компромиссного характера, регулирующим в период проведения Тридентского Собора положение лютеран на территориях, контролируемых католическими правителями. В столице Пруссии Озиандер оказался в духовно-интеллектуальной среде молодого университета. «Прусский период» жизни Озиандера, до самой его смерти в 1552 г., был периодом интенсивных дискуссий с оппонентами. В идеях Андреаса Озиандера, который соглашался с центральным принципом Реформации sola fide, содержалась иная антропология, нежели в классическом лютеранстве. Спор 1549-1552 гг. вокруг идей Озиандера, прежде всего о характере оправдания христианина, может быть разделен на несколько этапов. Первый этап, с момента прибытия Озиандера в Кенигсберг и до укрепления позиций реформатора в городе, хронологически и содержательно примыкает к череде публичных споров по организационным и теологическим вопросам, которые велись в Кенигсберге с открытия 17 августа 1544 г. университета. Рассмотрению начального этапа «озиандеровского спора» посвящена настоящая статья.
Андреас озиандер, протестантизм, «озиандеровский спор», учение об оправдании, интерим, кенигсбергский университет, маттиас лаутервальд, бернхард циглер, герцог альбрехт бранденбург-ансбахский, реформация
Короткий адрес: https://sciup.org/140301654
IDR: 140301654 | УДК: 274(430)-1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_3_92
Текст научной статьи Начальный этап «озиандеровского спора»
Победа над протестантским Шмалькальденским союзом была воспринята императором Карлом V как возможность восстановить религиозное единство империи. Сотрудничество с папой Римским Павлом III и открывшимся в 1545 г. Тридентским Собором выступало важным условием проведения религиозной реформы. Император, заручившись поддержкой Морица Саксонского, хотел найти компромисс и с протестантами, которые после военного поражения оставались политической силой. Император «велел выработать такую формулу веры, которая должна была согласить старое и новое исповедание и соединить протестантов и католиков» [Гейссер, 2014, 213].
Аугсбургский интерим, принятый 30 июня 1548 г., делал несколько уступок сторонникам реформ. За лютеранскими священниками признавалось право вступать в брак, также допускалось причастие для мирян под двумя видами. Однако вероучительные принципы католицизма: первенство римского епископа, учение о семи таинствах, толкование Святого Причастия как транссубстанциации хлеба в Тело Христово, учение об оправдании верой и делами, оставались незыблемыми. Религиозная политика императора спровоцировала общественную реакцию, а «попытка восстановить единство германской церкви с помощью интерима и испанских воинов встретила величайшие препятствия» [Гейссер, 2014, 215].
27 января 1549 г. Андреас Озиандер прибыл в Кенигсберг. В письме от 2 декабря 1548 г. «светлейшему, высокородному князю и господину Альбрехту, маркграфу Бранденбургскому, герцогу Прусскому, моему милостивому господину» [Osiander, 1990, 677] Озиандер перечисляет причины, побудившие его оставить Нюрнберг, а также просит место проповедника или преподавателя в Пруссии. Обращение к Альбрехту Бранденбург-Ансбахскому закономерно, так как с 1524 г. реформатор и герцог находились в дружеских отношениях. Озиандер имел все основания надеяться на помощь со стороны герцога, так как, «когда Альбрехт, будучи еще великим магистром, весной 1522 г. отправился в Германию, чтобы, находясь в сложном положении, заручиться поддержкой империи, то на рейхстагах в Нюрнберге в 1523 и 1524 гг. проповеди Озиандера произвели на него значительное впечатление» [Moller, 1870, 305]. Озиандер приводит следующие причины. Во-первых, вмешательство императора в сферу вероучительных и церковно-канонических проблем угрожает делу Реформации. Являясь проповедником в церкви, Озиандер вынужден публично защищать положения инте-рима и политическую линию городского совета, то есть поступать вопреки собственной совести. Во-вторых, Озиандер указывает на необходимость свидетельствовать о собственном несогласии, так как дело касается личного спасения и сохранения истинного учения. В-третьих, он выражает обеспокоенность за собственную жизнь и безопасность своей семьи. Критика Озиандером Аугсбургского интерима началась летом 1548 г., когда реформатор представил городскому совету подробное заключение, в котором изложил, какие требования интерима являются невыполнимыми. Свое отношение к интериму Озиандер выразил и в написанной в насмешливо-боевом стиле песне — «Песне против интерима», которая «распространилась и нашла применение у народа» [Osiander, 1990, 646].
В Кенигсберге Озиандер оказался вовлеченным в неспокойную духовноинтеллектуальную среду, так как на территории герцогства нашли убежище многие преследуемые за веру протестанты. В письме от 4 января 1549 г. герцог Альбрехт пишет о Пруссии как об избранном месте, куда Бог поместил Свою «христианскую церковь и малое стадо» [Osiander, 1994, 61], которая выстоит перед Божественным гневом и искушениями антихриста. Очевидно, что тяжелое положение, в которое была ввергнута империя после окончания Шмалькальденской войны, обостряло апокалиптические настроения. Тема антихриста занимает особое место в творчестве Озиандера. Впервые к этому сюжету автор обращается в «Большой Нюрнбергской записке», написанной в 1524 г. В характерной для ранней Реформации форме Озиандер отождествляет с антихристом римского епископа, стремление которого к неограниченной власти является доказательством ложности института папства. Вопросам исторического процесса, его завершения и сотериологической ценности посвящено сочинение «Предположения о последних временах и конце света», написанное в 1544 г. и адресованное герцогу Альбрехту. Аугсбургский интерим, звено в «битве конца времен», стал интерпретироваться Озиандером, который насыщал библейско-апокалиптические представления фактологическим материалом, как одна из неизбежных катастроф перед приближающимся концом, как наиболее изощренная попытка антихриста захватить власть в Церкви и подавить проповедь чистого слова. Озиандер не допускал компромисса с Католической Церковью. В сочинении «Заговор папистов» — компилятивном сборнике канонических текстов, снабженных комментарием («Декрет Грациана», «Декреталии Григория IX», «Римский понтификал» и «Римский церемониал»), — он развивает мысль, что Римская Церковь, все ее члены, связаны между собой клятвой. Озиандер пытается представить внутреннюю связь католицизма как «паутину клятв, которыми папство распространяет свое царство антихриста» [Osiander, 1994, 124], и показать, что из этого «следует невозможность преобразования папства и царства антихриста и, следовательно, тщетность, даже опасность всякой попытки пойти на компромисс с папской церковью» [Stupperich, 1973, 33].
Кенигсбергский университет был освящен 17 августа 1544 г. Первый ректор — Георг Сабинус (1508–1560), филолог и поэт, ученик Филиппа Меланхтона, впоследствии сторонник Озиандера. Новый университет нуждался в собственном уставе, в процесс написания которого был вовлечен первый ректор. Сабинус предложил сделать должность ректора пожизненной, в обход традиционной для университетов сменной модели ректорства. Через два года, в 1546 г., Сабинус представил копию окончательного варианта устава, в котором имелась статья «О сохранении согласия», предписывающая по отношению к докторам и профессорам допустить применение телесных наказаний и карцера. Предложенная статья вызвала протест, однако герцог Альбрехт, связанный с Сабинусом договоренностью, утвердил устав, используя в качестве аргумента факт наличия споров и дискуссий, которые регулярно велись в университете и среди теологов.
Первым крупным эпизодом интеллектуального соперничества стал теологический спор, начавшийся в августе 1546 г. и связанный с именами Вильгельма Гнафея (1493-1568) и Фридриха Стафила (1512-1564). Гнафей — преподаватель Кенигсбергского университета, духовный руководитель голландских эмигрантов, которые организовали в лютеранской Пруссии собственный кружок. Содержание лекций и публичных выступлений навлекло на Гнафея подозрения в отклонении от чистого учения, и университетский Сенат настоял на проведении диспута. Вильгельм Гнафей представил тезисы, которые стали предметом спора в сентябре 1546 г. Герцог Альбрехт назначил епископа Помезании Пауля Сператуса и Йоханнеса Брисмана, проповедника Кенигсбергского собора, сыгравшего решающую роль в развитии церковной системы Реформации в Пруссии, судьями по делу Гнафея, переданному университетом в церковные инстанции. Оппонент Гнафея, Фридрих Стафил, профессор теологии, будущий ректор Кенигсбергского университета, на первом судебном заседании 12 января 1547 г. смог обнажить общую спиритуалистическую основу тринадцати тезисов Гнафея. В частности, в восьмом тезисе, посвященном Евхаристии, Гнафей не признавал действенность и пользу принятия таинства без веры принимающего. Гнафей обвинил оппонентов в том, что они интерпретируют таинство Евхаристии ex opere operato (из совершенного действия) и в недостаточной мере, с точки зрения Гнафея, подчеркивают значение веры. Позиция Гнафея, знакомого с сакраментария-ми, например с Яном де Баккером, обнаруживает доктринальную близость к реформатской интерпретации с ее трактовкой характера присутствия Христа в Евхаристии как исключительно духовного. В письме к герцогу Альбрехту Гнафей пишет, что его противники «возлагали на таинства обманчивые надежды» [Stupperich, 1973, 18] и что Бог действует в нас Духом Христовым. Гнафея обвинили в отклонении от доктрины церкви по вопросу действенности Причастия и осудили. 1 апреля герцог Альбрехт подтвердил приговор, а 9 июня 1547 г. официальное свидетельство об отлучении от церкви было вывешено на дверях Кенигсбергского собора.
Эпизод, связанный с Гнафеем, в рамках рассмотрения начального этапа «озианде-ровского спора» имеет особое значение. Во-первых, дискуссия вокруг идей Озиандера продолжила традицию споров в молодом Кенигсбергском университете. В полемике 1546–1547 гг., рассматривались не только доктринальные вопросы, но и затрагивалась тема о правовом статусе университета, о его отношении к властям. Спор вокруг тезисов Гнафея может быть рассмотрен с точки зрения прецедента, имеющего юридическое значение в будущем, так как от конкретного решения теологической проблематики зависело как содержание учения, которое преподавалась в университете, так и сама преподавательская деятельность. Возможность постороннего влияния — герцога, церковных инстанций или епископов соседних территорий — на ход и результат университетских споров должна была быть исключена. Изначально спор с Гнафеем был прежде всего спором за сохранение чистого учения, которое, с точки зрения оппонентов, могло быть затемнено, так как в Гнафее и его единомышленниках «видят источник всех ересей, вплоть до арианства и пелагианства» [Stupperich, 1973, 18]. Однако элемент политический — борьба между лютеранами и группой голландских изгнанников за влияние на герцога — является составной частью споров вокруг идей Гнафея. Подтверждением этому может служить переписка между герцогом Альбрехтом и Гнафеем, в которой, в частности, теолог признается, что думает и учит о таинствах иначе, чем его оппоненты. Критика лютеранского понимания таинств, высказанная Гнафеем в переписке, свидетельствует о том, «что герцог по крайне мере склонялся к спиритуалистическому взгляду» [Stupperich, 1973, 19], и что автору письма было об этом известно.
Гнафей был вынужден покинуть Пруссию, но продолжил полемику против кенигсбергских теологов. Фридрих Стафил попросил для себя освобождения от должности профессора теологии, но остался исполнять обязанности герцогского советника. Герцог Альбрехт, последовав вердикту церковных судей, усомнился в правильности этого решения, когда те же теологи начали оспаривать теологические взгляды Озиандера.
В феврале 1549 г. Озиандер в письме сообщил своему зятю Иерониму Безольду, что получит место проповедника в городской церкви и преподавательскую должность в университете, а в письме от 19 февраля, тому же адресату, Озиандер пишет: «мои дела таковы: я пастор главной церкви» [Osiander, 1994, 70]. Вопрос о назначении Озиандера в университет вызвал протест со стороны ректора и университетского Сената. У прибывшего из Нюрнберга проповедника не было ученой степени, также настойчивое требование герцога, который покровительствовал Озиандеру, было воспринято профессорами как вмешательство во внутренние дела университета. Назначение Озиандера имело исключительное значение для «озиандеровского спора», так как в рамках лекционных занятий реформатор раскрыл предпосылки собственной теологии и развил основные положения.
-
5 апреля 1549 г. Озиандер выступил с инаугурационной речью «О законе и Евангелии», в которой изложил собственный взгляд на этот важный для лютеранский теологии вопрос. Отправной точкой является тезис «все люди грешники и нуждаются в покаянии». Под покаянием автор имеет в виду осознание греха и отвращение к греху с желанием исправления и надеждой получить прощение от Бога. Предпосылка — осознание греха. Однако человек не в состоянии сделать это собственными силами, для этого был дан закон, так как из закона следует познание греха (Рим 3:20). Озиандер говорит о четырех следствиях закона: осознание греха, попытка воплотить предписанное законом, разочарование и ощущение гнева Божьего и четвертое — указание на Христа. Иными словами, то, что содержал в себе закон, провозглашено в Евангелии. Иисус Христос — Сын Божий, истинный Бог и истинный человек, исполнил закон и примирил нас с Богом, взяв на Себя грехи людей. Следовательно, покаяние и прощение грехов провозглашаются во имя Христа.
В Священном Писании, рассуждает Озиандер, фраза «мы оправданы верой» имеет несколько значений и может быть понята по-разному. Например, когда утверждается, что праведность Бога открывается через Евангелие, это означает, что праведность предлагается нам в Евангелии и вменяется верующему. Если говорится, что вера оправдывает нас, то это утверждение может быть понято как синекдоха, стилистический прием, так как объектом веры является Христос. Христос — наша праведность. Вся истинная праведность — во Христе и от Христа, а так как Он является Лицом Святой Троицы, то и верующий, имеющий Христа, также имеет в себе Отца и Святого Духа. Озиандер считает, что праведность христианина относится к обитающему в нас Христу, к Его Божественной природе, которая воспринимается человеком через Евангелие. Таким образом, «оправдание состоит не в вменении объективной заслуги Христа, а в имманентности Его сущностной праведности или Божественности» [^omasius, 1876, 252]. Божественная природа Христа отождествляется реформатором с Божественным Словом. А. Ричль передал учение Озиандера следующим образом: «внешнее слышимое слово является проводником внутреннего слова, которое имеет силу проникать через разум и память в сердце. Внутреннее слово, содержание Евангелия не является просто указанием грешнику на благодать, но есть Слово, которое у Бога и которое есть Сам Бог» [Ritschl, 1870, 226]. Следствием этого является реальное, а не декларативное единение человека с Богом: «мы становимся праведными не через внешнее вменение, но благодаря тому, что Христос как „внутреннее слово“ обитает в нас» [Хегглунд, 2001, 231]. Таким образом, Озиандер связывает оправдание христианина со своей основной доктриной о Боге: Святая Троица входит в человека со Словом и является синонимом вменения человеку Божественной праведности и вечной жизни. Вывод, сделанный Озиандером, обнаруживает своеобразие мысли автора.
Впервые подобные взгляды в развернутом виде Озиандер изложил в «Большой Нюрнбергской записке», опубликованной в 1524 г. Во введении автор пишет, что необходимо прояснить два положения: «во-первых, что Христос является единственным источником и учителем истинного учения, и, во-вторых, что дьявол является источником всех ложных и соблазнительных учений, а антихрист учителем этого ложного учения» [Osiander, 1975, 318]. Текст записки состоит из трех частей, первая — «Что есть истинное христианское учение» — посвящена основным принципам озиандеровской теологии.
Идеи Озиандера станут предметом дискуссий в «прусский период» жизни реформатора, когда его оппонентом станет Филипп Меланхтон, обративший внимание на ложное понимание Озиандером принципа sola gratia. Клаус Бахманн, размышляя о причинах «озиандеровского спора», констатировал, что «степень внутреннего согласия между теологией Озиандера в Нюрнберге и Кенигсберге настолько поразительна, что можно предположить, что „озиандеровский спор“ вспыхнул внутри протестантизма с опозданием на четверть века» [Bachmann, 1996, 18]. Именно в Кенигсберге Озиандер «вступит в яростный богословский спор с виттенбергскими богословами по поводу своего мистического учения об эффективном и прогрессивном оправдании посредством пребывания Христа в верующем» [Шафф, 2009, 345].
Маттиас Лаутервальд (1520-1550), в 1549 г. получивший степень магистра в Виттенберге и назначенный в Кенигсберг на кафедру математики, подверг критике данное Озиандером определение покаяния. Лаутервальд не соглашался с тем, что покаяние является интеллектуальным признанием греха. 6 апреля Лаутервальд публично изложил в двенадцати тезисах собственную позицию, определив покаяние как страдание от греха, сокрушение и твердое намерение исправить жизнь. Согласно ап. Павлу, закон вызывает гнев Божий, следовательно, исправление невозможно без веры. Таким образом, покаяние может состоять только из страдания и веры. Без веры покаяние вызывает осуждение. Страдание и вера, как орудия Святого Духа, соответствуют закону и Евангелию. Закон, с точки зрения Лаутервальда, — это «не просто буква, а довлеющая над человеком смертоносная сила» [Stupperich, 1973, 38].
В тезисах Лаутервальда нет ничего, что не содержалось бы в тезисах Озианде-ра. Разница только в том, что, в отличие от Лаутервальда и представителей школы
Виттенберга, Озиандер не всегда говорит о сокрушении духа и вере одновременно, когда речь идет о покаянии. С точки зрения Лаутервальда, внутреннее единство сокрушения, с одной стороны, и веры — с другой, в тезисах Озиандера остается непроясненным. Отметим, что тезис Лаутервальда о том, что в покаянии отчаяние связано с верой, был выражен Озиандером в противопоставлении закона и Евангелия.
В первых числах мая Лаутервальд опубликовал новые тезисы. Герцог Альбрехт обратился к Озиандеру с просьбой дать экспертное заключение. Тезисы были признаны еретическими, на что Лаутервальд ответил заявлением о готовности оспаривать запрет герцога на публичные выступления. Дело было передано группе теологов, а Йоханнесу Брисману поручено подготовить переговоры. В экспертном заключении, составленном Озиандером и городским проповедником Иоганном Функом (1518– 1566), оспаривались следующие положения Лаутервальда:
-
– Согласно 3-му тезису Лаутервальда Бог пребывает в вечном, несотворенном свете. Против этого в экспертном заключении приводятся цитаты из Священного Писания (1 Тим 6:16; Притч 30:6) и церковное учение о Троице. Рассуждение экспертов имеет следующий вид: если свет, в котором пребывает Бог, вечен, то он не сотворен и, следовательно, свет есть Бог. Тогда верно, что Божественная сущность и Божественная личность обитают в Божественной сущности и Божественной личности. Но это ересь, так как предполагает, по крайней мере, двух разных богов и противоречит церковному учению, в соответствии с которым, кроме трех Лиц Святой Троицы, нет никакой другой несотворенной субстанции;
-
- 21-й тезис гласит: Христос не знает дня и часа конца времен. Это, в свою очередь, не согласуется с толкованием всех признанных богословов, согласно которым Сын не знает последних вещей в соответствии со своей человеческой, но не Божественной сущностью;
-
– 22-й тезис: В последний день мир не обновится, а погибнет вместе со всей своей материей. Лаутервальд разграничивает мир материальный и мир человеческий. Когда Лаутервальд говорит о гибели мира, то подразумевает четыре элемента. Озиандер такого разграничения не делал. В Священном Писании, согласно Озиандеру, слово «мир» означает человеческий мир. В таком случае из тезиса Лаутервальда, с точки зрения Озиандера, следует, что человеческая плоть не обновится, а погибнет и будет сотворена заново. В этом пункте возникает сложность, так как для Озиандера верующий, соединенный с Христом, также имеет в себе Бога Отца и Святого Духа. Всеобъемлемость Святой Троицы входит в человека со Словом и является синонимом присвоения праведности Бога, вечной жизни и Царства Божьего;
-
– 40-й и 41-й тезисы, в которых речь шла о царе Езекии и солнечных явлениях, Озиандер опровергает, так как в них Лаутервальд «нарушает Священное Писание и разум, когда заявляет, что солнце отступило на десять градусов в то время, когда царь Езекия лежал при смерти» [Osiander, 1994, 51]. Анализируя ответ Озиандера, можно сделать вывод, что два тезиса Лаутервальда представляют не богословскую проблему, а вопрос логики.
В конце экспертного заключения Озиандер критикует университетских теологов, которые не квалифицировали тезисы Лаутервальда как ложные, и высказывает опасение, что публичные споры между профессорами негативно сказываются на преподавательской деятельности. Вероятно, Озиандер адресовал свои опасения герцогу, который отрицательно оценивал интеллектуальную борьбу профессоров и теологов и участвовал в урегулировании споров.
Слушание дела Лаутервальда началось утром 4 июля 1549 г. Иоганн Функ, который должен был выступать как обвинитель, и Маттиас Лаутервальд были вызваны в суд в качестве основных участников. Пауль Сператус, епископ Помезании, пригласил Озиандера, так как посчитал, что группа теологов слишком малочисленна. Ози-андер был вызван к слушанию, а протест Лаутервальда отклонен.
Судебное разбирательство началось с зачитывания тезисов Лаутервальда и подтверждения авторства. После Иоганн Функ представил свое обвинение. Следствием тезиса Лаутервальда, согласно экспертному заключению, было то, что Бог обитает в Боге, поскольку свет, если он является несотворенным светом, сам должен быть Богом. Все, что есть Бог, должно быть либо Божественной сущностью, либо Божественной личностью. Изложение автором собственных взглядов позволяет сделать вывод, что логика Озиандера носит универсальный характер, то есть может быть экстраполирована на все многообразие явлений, следовательно, и на нетварный свет. Тезисы Лаутервальда не совместимы с доктриной Троицы. Итак, у Лаутервальда два бога. Комиссия приняла решение в пользу Функа.
Далее последовало рассмотрение 21-го тезиса. Суждение, что Христос не знал ни дня, ни часа Страшного Суда, может относиться, с точки зрения Функа, только к человеческой природе Иисуса Христа. В соответствии с доктриной communicatio idiomatum, в Иисусе Христе Божество и человечество представляют собой неделимую личность. Поэтому правомочно сказать: Бог пострадал, Бог был распят, Бог погребен, но не со Своей Божественной природой, а в соответствии с неразделенной сущностью. Ибо только человеческая природа является местом страданий или, как в данном конкретном случае, источником незнания о наступлении конца света. Комиссия приняла сторону Функа.
Спор вокруг тезисов Лаутервальда можно считать началом «озиандеровского спора». Очевидно, что теологическая система Озиандера еще не стала предметом дискуссий и что доктрина об оправдании не находилась в центре внимания. Мелан-хтон и Озиандер вместе выступали против Лаутервальда, стремясь устранить частные вероучительные разногласия при наличии принципиального согласия в чистом учении. Однако несколько умозрительный вид спора обманчив. Особенностью доктрины Озиандера является ее цельность и равноценность каждой ее части. Для теологии Озиандера невозможен ход мысли Лаутервальда, который утверждает, что Бог «от вечности» пребывает в свете.
Данная проблематика укоренена в учении о Божественных атрибутах. У Бога есть атрибуты: всемогущество, всеведение, всеблагость и другие. Вечность Бога означает и вечность Его всемогущества или всеблагости. Понятие вечности применимо как к Богу, так и к Его атрибутам. Ошибка Лаутервальда заключалась в том, что сущности Бога приписано пребывание в атрибуте, в нетварном свете.
Для Озиандера важна идея, что в день Страшного Суда все люди перейдут в некое новое состояние блаженства. В этом частном теологическом вопросе обнаруживается центральная идея доктрины Озиандера. Божественная природа Христа реально соединяется с природой каждого человека, причем таким образом, что «человек еще в земной жизни становится безгрешным — просто не способным грешить» [Исаев, 2000, 19]. Оправдание, по мысли Озиандера, представляет собой процесс, а не одномоментный акт, и зависит от степени объединения человека в вере с природой Христа. Ф. К. Баур сформулировал идею Озиандера следующим образом: «человек оправдан только в той мере, в какой он постигает Христа как сущностную праведность в вере. И когда он постиг эту праведность, в нем обитает Сам Бог» [Baur, 1838, 321]. Реформатор придерживается учения о теопоэзисе, или представления о возвышении человека до Божественного состояния.
Герцог Альбрехт, обеспокоенный университетскими спорами, решительно выступает за прекращение диспутов, а в июне 1549 г. в Кенигсберге распространилась чума, которая продлилась до начала следующего года и унесла жизни около 14 000 человек. Герцогский двор сразу после того, как разразилась чума, отправился вглубь страны, «в пустыню Ортельсбурга» [Hase, 1879, 135], а Озиандер прервал чтение лекций на книгу Бытия, но остался в городе.
Лаутервальд, несмотря на обвинительный приговор, продолжил борьбу с Озиан-дером. Но уже в следующем году молодой магистр вернулся в Виттенберг, где получил место проповедника, а в 1552 г. переехал в Прешов, где и скончался в том же году.
Следующий эпизод «озиандеровского спора» связан с именем Бернхарда Циглера (1496–1552). В 1540 г. Циглер был назначен профессором теологии и иврита в Лейпцигском университете, который незадолго до этого, по предложению Меланх-тона, был преобразован под влиянием идей Реформации. Авторитет Меланхтона был настолько велик, что многие университеты приглашали виттенбергского реформатора, однако Меланхтон приглашения отклонял, «в совете, однако, не отказывал, когда к нему обращались по случаю реформ или учреждения новых учебных заведений» [Шайбле, 2018, 100].
Бернхард Циглер был гебраистом из Лейпцига, участником диспутов по вопросам, касающимся толкования Ветхого и Нового Заветов в соответствии с академическим обычаем. В небольшом тексте «Проблема» Циглер отстаивает следующие положения:
-
— небеса были небесами еще до сотворения мира;
-
— небеса — синоним славы Христа, которую Он получил до сотворения мира с Отцом;
-
— небеса — это недоступный свет, в котором обитает Бог.
Озиандер получил текст в июле или августе 1549 г. Кенигсбергский теолог изначально воспринял суждения Циглера как попытку защитить взгляды виттенбергско-го магистра Матиаса Лаутервальда, так как постановка вопроса и выводы, к которым пришел Циглер, обнаруживают сходство со взглядами виттенбергского магистра. 20 октября 1549 г. было напечатано «Письмо Андреаса Озиандера, в котором опровергаются некоторые новые и фанатичные заблуждения». Во вступительном слове автор горько сетует, что ему прислали эти дурно пахнущие «лозунги из туалета», о которых следовало бы лучше молчать. Озиандер подробно описывает историю споров с Лаутервальдом, которые начались 5 апреля 1549 г. В основной части сочинения реформатор обращается к тезисам Циглера, анализирует их и опровергает как еретические.
Озиандер отвергает тезис о том, что небеса существовали до сотворения мира. Профессор Кенигсбергского университета разрабатывает собственную космологию, основанную прежде всего на книге Бытия (Быт 1:1–8). Он предлагает схоластическое рассуждение: небеса являются созданными или несотворенными? Если верно первое суждение, то в сочетании со вторым и третьим тезисами это означает, что слава Христа с Отцом и недоступный свет, в котором пребывает Бог, в какой-то момент отсутствовали. Если небеса несотворенные, то правомочно поставить вопрос: они имеют Божественный или небожественный статус? Первая позиция ставит под сомнение исключительность Бога, а вторая является еретической, поскольку все несотворен-ное должно быть Божественным. Если предположить, что небеса не сотворены, то они должны быть Богом. Следовательно, можно было бы сказать «боги богов», а не «небеса небес». Озиандер задает вопрос: сколько небес существует? У нас есть три неба, соответствующие трем Лицам Троицы. Поскольку каждое небо представляет собой отдельное пространство, из этого следует, что Личности Троицы пространственно отделены друг от друга. Если Дух назван первым небом, Сын — вторым, а Отец — третьим, возникает вопрос, откуда ап. Павел знал, что он был помещен на третье небо (2 Кор 12:2), хотя сам он говорит, что никто не может видеть Бога. Очевидно, и стих псалма «хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес» (Пс 148:4) является призывом к Богу восхвалять Самого Себя. Однако в книге Царств написано: «поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил» (3 Цар 8:27) — следовательно, если согласиться с тезисом Циглера, то Бог не может вместить Бога. Таким образом, предположение, что небеса являются Богом, должно быть ложным.
Озиандер предлагает различать «небо» и «небеса небес». «Небо» является творением второго дня, а «небеса небес» — первого, они представляют собой нечто более возвышенное и служат жилищем ангелов. Однако предположение о том, что «небеса небес» существовали еще до творения, привело бы к абсурдным последствиям. Андреас Озиандер последовательно прорабатывает все возможные способы интерпретации, продумывает все возможные следствия и выводы из тезисов оппонента. После чего Озиандер делает вывод, что Циглер опровергнут.
Второй тезис Циглера, в соответствии с которым небеса являются славой, которую Христос имеет с Отцом, Озиандер отвергает как арианский, так как — в контексте первого тезиса — Христос, как творение, должен быть отделен от Отца. Можно высказать предположение, что небеса небес были созданы до сотворения мира. Если это суждение истинно, то, возможно, Христос тоже был когда-то создан в какое-то время, и, следовательно, было время, когда Христа не было. То есть Озиандер акцентирует внимание на опасности арианских выводов.
Озиандер ставит вопрос: небеса либо вечны, либо небеса — ничто. Последнее сделало бы все тезисы Циглера бессмысленными. Если предположить, что небеса вечны, то какова их эсхатологическая перспектива: сохранятся они в вечности или исчезнут? Вторая возможность абсурдна, так как противоречит суждению о вечности небес. Если принять за истинное первое предположение — небеса сохранятся в вечности, — то этот тезис противоречит христианской догматике, так как наделенное категорией вечности становится независимым от Бога. Если верно то, что есть что-либо независимое от Бога, то Бог утрачивает Свое всемогущество. И если принять второй тезис Циглера, что небеса являются синонимом славы Христа, то небеса, вечные и независимые от Бога, отнимают у Бога славу и, следовательно, Его истинную Божественность. Поскольку небеса являются славой, то они сами являются настоящими богами. Таким образом, невозможно сказать, что они хотя и несотворенные, но все же не боги.
Третий тезис, о том, что небеса — это недоступный свет, в котором обитает Бог, кратко опровергается соответствующими цитатами из Священного Писания (Ис 6:1–5; Иез 3:23; Ин 1:14). Андреас Озиандер пытается решать экзегетическую проблему. Так, в 1 Тим 6:16 речь идет о свете сотворенном, но недоступном для людей. Делая такой вывод, профессор Кенигсбергского университета допускал возможность существования множества созданных Богом миров, отличных друг от друга и скрытых от человека. Однако Озиандер не поддерживает размышления на эти темы.
«Письмо» Озиандера не произвело большого эффекта на Циглера, но вынудило его дать объяснения герцогу Альбрехту. В письме от 6 января 1550 г. «лейпцигский гебраист справедливо отрицал, что имел в виду Озиандера, когда писал свою „Проблему11» [Osiander, 1994, 222]. Фактических контраргументов против кенигсбергского богослова Циглер не выдвинул. Это обстоятельство позволило Озиандеру сделать вывод о признании Циглером своего поражения. Дальнейшая переписка между Циглером и герцогом уже не имела значения для спора. Для Озиандера и его правителя этот вопрос, очевидно, был решен.
Спор с Циглером по второстепенным вопросам в своей сути затрагивает центральный принцип теологической системы Озиандера. Исключительность и совершенство Бога, Его абсолютная уникальность не могут каким-либо образом быть поставлены под сомнение. Если до сотворения мира, кроме Бога, что-либо имело место быть, то, очевидно, прямым следствием будет вывод, что совершенство Бога имеет относительный, а не абсолютный характер. Если существующее до сотворения имеет свое существование вне Святой Троицы и оказывается несотворенным, то представление о всемогуществе Бога отвергается. Учение о Боге является стержнем всей теологической конструкции Озиандера. Понятия «совершенство, абсолютность, вечность» могут быть применимы только к Богу.
Во 2-й пол. 1550 г. Озиандер вновь обратился к вопросу об интериме. Спор с Циглером, который с лета 1549 г. не прекращался, приобрел новый оттенок.
Для Циглера явление Воскресшего Христа собравшимся ученикам имеет следующее значение. Христос никогда не оставляет Свою Церковь. В период гонений и внутренних распрей Сын Божий собирает и охраняет Свою Церковь. Чтобы ощутить присутствие Христа, нужно собраться в Церкви, и поэтому нападать на Церковь, критиковать Церковь и участвовать в расколе или мятеже — это акт крайнего безбожия и варварства. Несмотря на то, что в Церкви есть суеверия и нечестие, она все равно остается Церковью и, следовательно, вместилищем истины. Раскол оправдан только в том случае, если необходимо противостоять откровенной лжи. Важнейшей задачей христианина, помимо благочестия, является сохранение единства Церкви, от которого ни в коем случае нельзя отказываться, если только речь не идет о разногласиях по основным вопросам веры. Настоящее время полно опасностей, и происходящее в данный исторический момент указывает на то, что мир переживает уникальный упадок. Церковь Христова должна единодушно противостоять этому. Позиция Циглера имеет то преимущество, что объективно реагирует на конкретные особенности культурно-исторического контекста. Время Тридентского Собора многими сторонниками Реформации было воспринято как возможность воплотить в жизнь слова Иисуса Христа «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин 17:21).
Андреас Озиандер приходит к иному заключению. Если для Циглера испытание заключается в готовности христианина и особенно церковного служителя к страданиям, что выражает его принадлежность к истинной Церкви, то для Озиандера принадлежность к истинной Церкви основана на чистоте доктрины и связанной с ней бескомпромиссностью в деле ее защиты. Причина категоричности озиандеровской теологии осталась для Циглера скрытой, однако спор между теологами представляет собой частную иллюстрацию противоположности между школой Виттенберга и сторонниками озиандеровской теологии.
На примере рассмотрения нескольких эпизодов, связанных с историей Кенигсбергского университета, можно сделать ряд выводов. Во-первых, с момента основания университета в столице Пруссии началось интеллектуальное соперничество, втягивающее в себя родственные элементы. Споры по поводу университетского устава, автономии учебного заведения от власти и доктринальные споры по широкому спектру вопросов стали благоприятной почвой для «озиандеровского спора», датой начала которого можно считать 5 апреля 1549 г. Во-вторых, борьба с Лаутервальдом и Циглером по второстепенным и теоретическим вопросам является началом непосредственно спора вокруг идей Озиандера, так как своеобразие теологии кенигсбергского профессора рельефно выражено в отчетах и экспертных заключениях, посвященных рассматриваемым эпизодам. В-третьих, влияние Озиан-дера на герцога Альбрехта возрастает в указанный период. Реформатор получает место проповедника в городской церкви и профессорство в университете. Особый статус позволил Озиандеру, с одной стороны, развить собственные вероучительные принципы, а с другой, обнажил общий ход мысли автора, сделал его идеи предметом обсуждения, а впоследствии и объектом осуждения.
Список литературы Начальный этап «озиандеровского спора»
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. М.: Российское библейское общество, 2013.
- Гейссер (2014) — Гейссер Л. История реформации [Текст]: [репринтное издание] // Реформация и революция в Англии. 2014. Изд 2-е. Т. 4.
- Исаев (2000) — Исаев С.А. Ереси и расколы в раннем лютеранстве. СПб.: Светоч, 2000.
- Хегглунд (2001) — Хегглунд Б. История теологии / Пер. на рус. В. Ю. Володин. СПб.: Светоч, 2001.
- Шайбле (2018) — Шайбле Ф. Филипп Меланхтон — реформатор и гуманист / Пер. с нем. Анны Брискиной-Мюллер. К.: ДУХ I Л1ТЕРА. 2018.
- Шафф (2009) — Шафф Ф. История христианской церкви / Пер. О. А. Рыбакова. СПб.: Библия для всех. 2009. Т. 7.
- Bachmann (1996) — Bachmann C. Die Selbstherrlichkeit Gottes. Studien zur Theologie des Nürnberger Reformators Andreas Osiander. Neukirchen, 1997.
- Baur (1838) — Baur F. C. Die christliche Lehre von der Versöhnung in ihrer geschichtlichen Entwicklung von der ältesten Zeit bis auf die neueste. Tübingen, 1838.
- Hase (1879) — Hase K.A. Herzog Albrecht von Preussen und sein Hofprediger. Eine Königsberger Tragödie aus dem Zeitalter der Reformation. Leipzig, 1879.
- Möller (1870) — Moller W.E. Andreas Osiander. Leben und ausgewahlte Schriften. Elberfeld 1870, Neudr. Nieuwkoop 1965 (Leben und ausgewahlte Schriften der Vater und Begrilnder der lutherischen Kirche; 5).
- Osiander (1975) — Osiander A. Band I. Schriften und Briefe 1522 bis Marz 1525. Gütersloh, 1975.
- Osiander (1990) — Osiander A. Band VIII. Schriften und Briefe April 1543 bis Ende 1548. Gütersloh, 1990.
- Osiander (1994) — Osiander A. Band IX. Schriften und Briefe 1549 bis August 1551. Gütersloh, 1994.
- Ritschl (1870) — Ritschl A. Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versohnung. Bonn, 1870.
- Stupperich (1973) — Stupperich M. Osiander in Preussen 1549-1552. Berlin, 1973.
- Thomasius (1876) — Thomasius G. Die christliche Dogmangeschichte als EntwicklungsGeschichte des kirchlichen Lehrbegriffs. Erlangen, 1876.