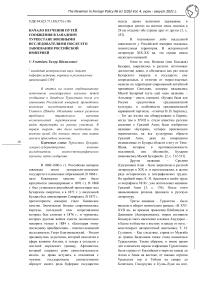Начало изучения путей сообщения в Западном Туркестане военными исследователями после его завоевания Российской империей
Автор: Уметбаев Тимур Шамилевич
Журнал: The Newman in Foreign Policy @ninfp
Статья в выпуске: 61 (105), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе опубликованных источников анализируется изучение путей сообщения в Западном Туркестане после его завоевания Российской империей, проведённое военными исследователями по заданию Главного Штаба. Обладание новым регионом требовало тщательного изучения возможностей передвижения конкретных видов транспорта на разных участках. В первую очередь, это было необходимо для военных целей. Но, помимо этого, эти знания имели и прикладное значение.
Туркестан, бухария, генерал-губернаторство, военные исследователи, военно-топографическое изучение, пути сообщения
Короткий адрес: https://sciup.org/14124510
IDR: 14124510 | УДК: 94:625.711.81(575)
Текст научной статьи Начало изучения путей сообщения в Западном Туркестане военными исследователями после его завоевания Российской империей
В 1860-1880-х гг. Российская империя завоевала земли центрально-азиатских государств и племенных образований. В 1866 г. пало Кокандское ханство (оно было юридически ликвидировано в 1876 г.). В 1868 г. был установлен российский протекторат над Бухарским эмиратом, а в 1873 г. у вассальной Бухары был аннексирован Самарканд. В 1873 г. протекторатом империи стало Хивинское ханство. Значительно больше сопротивлялись киргизы, последний очаг сопротивления которых был сломлен в 1876 г., и туркмены, которых русские войска смогли окончательно покорить только в 1884 г. «Благодаря этому последнему приобретению, - отмечал немецкий исследователь Георг Благовещенский, - Россия продвинулась до региона, который находится в сфере влияния Англии, и теперь в согласии с Англией определяет границу. Афганистан, который сохранил свою самостоятельность вплоть до права вступать в отношения с чужими государствами, соответственно образует своего рода буферное государство между двумя великими державами; в некоторых местах на востоке лишь полоска в 29 км отделяет обе страны друг от друга» [1, с. 252].
В подчинении либо вассальной зависимости у Российской империи оказалась значительная территория. В исторической литературе XIX-XX вв. эта страна имела несколько названий.
Одно из них, Великая (или Большая) Бухария, закрепилось в русских источниках достаточно давно, и обозначало как раз земли Бухарского эмирата и государств, ему сопредельных, в отличие от тюрко-язычных оазисов на территории современной китайской провинции Синьцзян, которые назывались Малой Бухарией (есть ещё одно название – Алтышар – шесть городов). «Бухара была для России средоточием среднеазиатской культуры, в особенности среднеазиатской караванной торговли, - отмечал В. В. Бартольд. – Тот же взгляд мы обнаруживаем в Европе, когда там в XVIII в. стали известны русские сведения о Средней Азии; было изобретено название «Бухария», которое произвольно переносилось на все культурные обрасти Средней Азии, даже на совершенно независимые от Бухары области к югу от Тянь-Шаня, которые в противоположность подлинной, или «Великой», Бухарии именовались Малой Бухарией». [2, с. 512-513].
Другое название – Средняя (Срединная) Азия – было закреплено в русской литературе в XIX в. и использовалось в целом ряде исторических и географических трудов. По крайней мере, К. И. Арсеньев в своём труде о географии в 1818 г. уже использовал название Средней Азии [3, с. 176). После этого наименование региона проникло в русскую литературу.
Третье название – Туркестан – было введено в оборот значительно раньше. «В XVIXVII вв., во времена правления Шибанидов и Джанидов (Аштарханидов), тюрки составили большую часть населения и южнее Амударьи – в Балхе и областях к востоку и западу от него, -констатирует авторитетный востоковед Т. И. Султанов. – Как следствие, страна от Мургаба до границ Бадахшана также стала называться Туркестаном. Таким образом, в новое время для этнических персов и афганцев Туркестаном были страны от Каспийского моря на западе до Алтая и Хами на востоке, от южных отрогов Уральских гор и Тобола на севере до Копетдага, Гиндукуша и Куэнь-Луня на юге,
населённые преимущественно народами, говорящими на тюркских языках. Через персов и афганцев первыми среди европейцев слово Туркестан усвоили англичане и на рубеже XVIII-XIX столетий ввели это словосочетание в научную географическую терминологию взамен употреблявшихся прежде западными европейцами и русскими названий Великая Бухария и Малая Бухария» [4, с. 130].
Завоевание этой территории потребовало организовать административное управление краем. Для этого ещё в 1865 г. была образована Туркестанская область. Её возглавил М. Г. Черняев. Он подчинялся оренбургскому генерал-губернатору. Но «органом центрального управления для новой области стало Военное министерство, что уже само по себе превращало область в «иррегулярную» губернию (т.к. общеимперская администрация сосредотачивалась в Министерстве внутренних дел) и создавало основу для будущего соперничества двух ведомств» [5, с. 88]. Новое управление во временном Положении 1865 г. учитывало исторически сложившиеся для этого региона правовые институты, но внедрило в практику управления и полностью зависимое от военного губернатора собрание представителей местного населения – мехкеме.
11 июня 1867 г. появился новый указ императора Александра II. Этим указом было образовано Туркестанское генерал-губернаторство. В его состав вошли Сырдарьинская и Семиреченская области. 22 января 1868 г. генерал-губернатор К. П. фон Кауфман, выступая перед представителями местного населения, заявил: «Чтобы охранить спокойствие вверенных мне стран, Государю было угодно дать мне право вести, в случае нужды, войну и заключать мир с соседними с этой стороны России владениями» [6, с. 63]. «Временное положение» регламентировало вопросы управления на основе сложившейся государственной практики в Российской империи и с учётом государственно-правовых традиций региона.
Наконец, новым учреждением стало Положение об управлении (1887 г.). Генерал-губернатор подчинялся военному министерству. Отдельные ведомства на территории подчинялись генерал-губернатору [5, с. 106].
сферах. Этим занимались как центральные власти, так и региональная власть в Туркестане. И для того, чтобы эффективно управлять этим краем, быть готовым к любым неожиданностям, связанным с его приграничным положением (в т.ч. в условиях «Большой игры») и национальными особенностями, власть должна была всесторонне изучить этот регион.
Этот вопрос интересовал немало исследователей. Конечно, одним из первых, кто основательно осветил присоединение Средней Азии к России в трёхтомном труде, был М. А. Терентьев. Вопросы военного изучения региона он затрагивает, обосновывая его не знанием реальной обстановки и неверными сведениями. Например, он рассказывает о неверном определении возможности судоходства генерал-майором Глуховским на р. Атрек и, как следствие, паровой катер попал в мелководье, из которого его вытаскивала рота солдат [7, с. 47-49]. Представляет интерес и очерк А. И. Добросмыслова, который освещает вопросы организации управления новым краем.
В труде В. В. Бартольда «История культурной жизни Туркестана» в главе XII «Русская власть и ханства» рассмотрены меры русских властей по обеспечению вассалитета Хивы и Бухары [8, с. 393-433]. Этот труд увидел свет в 1927 г.
Значительным событием стал выход в Каире в 1940 г. основательного исследования «Современный Туркестан и его недавнее прошлое», в котором З. В. Тоган обстоятельно изложил историю региона, включая его завоевание и включение во внутреннюю структуру Российской империи. Этому посвящена глава «Новый режим, новая цивилизация и тюрки» [9, с. 5-43].
Труд крупных исследователей С. Г. Кляшторного и А. А. Колесникова «Восточный Туркестан глазами русских путешественников (вторая половина XIX в.)» также представляет определённый интерес, хотя речь в нём и идёт в основном о Восточном Туркестане [10]. В 1998 г. А. А. Колесниковым была защищена докторская диссертация на тему «Вклад русских военных исследователей в изучение Центральной Азии, вторая половина XIX – начало XX веков», которая имела немаловажное методологическое значение [11].
Важнейшим по своему значению стал
Освоение Западного Туркестана
библиографический словарь о русских военных потребовало реализации целого комплекса мер востоковедах до 1917 г., подготовленный М. К.
в политической, экономической, военной
Басхановым. Одна из задач этого
монументального исследования, обозначенная самим автором – «создать по возможности наиболее полную источниковедческую базу русского военного востоковедения в хронологических рамках со второй половины XVIII в. до 1917 г.» [12, с. 6].
Один из наиболее свежих взглядов на трудный процесс «устроения» края представлен в книге Е. А. Глущенко «Россия в Средней Азии. Завоевания и преобразования». «В течение 20 лет (1865-1885) продолжался «героический период», - отмечал он, - то есть время завоевания и «первоначального освоения» обширного края. Это было время военных походов и мирного «устроения», всё вперемешку: сегодня генерал Головачёв – начальник боевой колонны, а завтра военный губернатор Сырдарьинской области, и наоборот» [13, с. 344].
Источники раскрывают деятельность военных исследователей, направленную на реализацию этой задачи. Речь идёт о появлении многотомного «Сборника географических, топографических и статистических материалов по Азии». Этот сборник инициировал Военноучёный комитет Главного Штаба. Применялся он исключительно «для служебного пользования». А цель – собрание «достаточно полных сведений о наших азиатских владениях и соседях, в чём ощущается настоятельная необходимость» [14, с. 1].
Этот запрос власти исполняли квалифицированные и хорошо подготовленные офицеры Генерального Штаба (Главный Штаб был частью Генерального Штаба, фактически его главное управление). Помимо этого, Главный Штаб использовал материалы лиц, которые не были подготовлены по его заданию, но имели практическое военное значение (например, инженера Лессара). При подготовке секретного издания не обходили вниманием и информации иностранных корреспондентов (например, записка барона Бенуа Мешэна о мервских туркменах).
Одним из главных направлений стало изучение путей сообщения. Это было чрезвычайно актуально. Во-первых, в условиях Большой игры было потенциально возможным военное столкновение между Британской и Российской империями. Во-вторых, войска могли понадобиться и собственно на территории Западного Туркестана, недавно завоёванного Россией. Для передвижения воинских подразделений нужно было представлять, какие дороги наиболее удобны, какой требуется транспорт, в каком количестве и т.д. В-третьих, этого требовали и интересы бесперебойного снабжения воинских контингентов, в т.ч. и при необходимости на территории соседнего Афганистана. Не случайно полковник П. П. Матвеев, не исключая англо-русский конфликт в Афганистане, прямо указал, что рассчитывать «на содействие или даже просто на сочувствие к нам афганцев, при их изменчивом характере и господствующей у них анархии, невозможно» [15, с. 54].
Поэтому наиболее важным вопросом стало военно-топографическое изучение региона. Военная экспедиция 1877 г. полковника П. П. Матвеева получила точное предписание туркестанского генерал-губернатора «для исследования дорог, ведущих по кратчайшему направлению от наших границ к границам Индии» [15, с. 2], а для предупреждения недоразумений об экспедиции были уведомлены бухарский и афганский эмиры [15, с. 3].
П. П. Матвеев изучал восточную часть Бухарского ханства. Экспедиция подробно проанализировала орографическую, гидрографическую и климатическую обстановку в регионе. И, конечно, наиболее важным стало изучение дорог. Исследователь отмечал, что в восточной Бухаре и Бадахшане дороги в горной и пересечённой местности «все без исключения вьючные. Хотя в этих странах встречается иногда и ровная местность, как например, долины Сурхана и Кафирнагана, совершенно доступные для колёс на значительном протяжении, но так как долины эти окаймлены с трёх сторон горными отрогами, через которые возможно одно только вьючное сообщение, то во всей стране, в числе местных перевозочных средств, арб вообще не встречается» [15, с. 28]. Военное изучение равнинной части Бухарского ханства провёл в 1883 г. и капитан Генерального Штаба Архипов [16, с. 171].
Тот путь, который прошла экспедиция П. П. Матвеева (около 600 вёрст, от Самарканда до Куляба до берега Пянджа), оказался не приспособлен для передвижения артиллерии и транспортов. Но эта дорога оказалась важной в плане жизнеобеспечения передвигающихся войск в регионе, где проживает много людей, где есть вода и продовольствие [15, с. 29].
Экспедиция исследовала вопрос возможности использования дороги от
Самарканда к Келифу и далее в Балх и установила, что около ста вёрст составляет почти безводная степь. Поэтому П. П. Матвеев предложил дорогу «от Мазар и Шерифа по кратчайшему направлению к Аму-Дарье, а оттуда в Шир-абад и Шур-обское ущелье, Железные ворота и селения Чашма-Хафизан к Гузару» [15, с. 29]. Причём сделал он это основательно, вплоть до анализа необходимости совершенствования и укрепления дороги.
При этом с военной точки зрения бухарские войска не представляли для русских войск в Туркестане особой опасности – сам Матвеев отмечал, что они «нам хорошо известны и не представляют ничего замечательного в военном отношении». Боевые качества этих войск оставляли желать лучшего – «сарбазы, одетые в красные куртки, белые штаны, персидские шапки из чёрной мерлушки и сапоги, с довольно короткими голенищами, стояли во фронте без ранжира и без всякой выправки. Вооружение их состояло из гладкоствольных ударных и кремневых ружей, попадались часто экземпляры без спусковых скоб и даже без замков». Учения практически не проводятся, не высок и нравственный дух войска [15, с. 40].
Изучение местности продолжалось и далее. Немаловажным стало изучение бассейна Амударьи, информация о результатах изучения которого капитаном 3-го западносибирского линейного батальона Быковым была опубликована в 1884 г. [17, с. 34]. Подполковник Александров основательно изучил путь от Кунграда к заливу Мёртвый Култук на Каспийском море. Анализируя колёсную дорогу, Александров старался учесть все её достоинства и недостатки. В частности, характеризуя её ширину, он отмечал, что «вследствие небольшого движения по ней, во многих частях её колея пропала совершенно. От Кунграда до подножия спуска Адчул дорога арбяная, с широкой, отчётливой колеёй, вследствие постоянного арбяного движения между городом и окрестными аулами киргиз» [17, с. 86-87]. Что касается вьючного пути, то лишь «в одном месте, пройдя колодец Ирбасан, по скату горы, покрытой саксаулом, представляются крутые подъёмы и спуски, которые необходимо разработать для колёсного движения» [17, 94].
Исследователь остановился на характеристике рельефа местности, исследовал грунт – «на всём её протяжении твёрдый, песчано-каменистый, осадочного образования», но представляет проблему отсутствие чётких ориентиров и станций, которые сосредоточены в плохо приспособленных местах, но возле колодцев [17, с. 88]. Что касается топлива, то это саксаул и степная трава [17, с. 90].
В 1884 г. исследовал путь от залива Цесаревича (Мёртвый Култук) через Уст-Юрт до Кунграда полковник Генерального Штаба Н. Н. Белявский. В «Сборнике…» была опубликована его записка о судоходной части Амударьи. Это подробная статья анализирует судоходные участки, глубину фарватера реки, ширину на разных участках, скорость течения, период зимнего замерзания. Резюмируя свои наблюдения, Белявский делает вывод о судоходности реки. Но для этого, с учётом сужения на ряде участков, требуется использование сконструированной в Америке «балансирной машины» (в основе балансирный паровой двигатель системы Вульфа), которая занимает небольшую площадь горизонтальной поверхности за счёт увеличения высоты [17, с. 170].
Значительным подспорьем в достижении стратегического господства в Центральной Азии современникам представлялись как раз использование водного пути (с использованием Каспийского моря и Амударьи), а также строительство железной дороги. Этот путь специально исследовал полковник Александров. И ему удалось установить, что «путь по Усть-Урту от Кунграда до Мёртвого Култука вполне пригоден для колёсного движения, и имеются признаки, что в этом направлении в прежнее время совершалось большое торговое движение. В 1883 году по этому же пути проехал генерал Черняев и, вместе с тем, выяснилась судоходность Мёртвого Култука и, следовательно, возможность водного пути до Астрахани» [17, с. 178].
Среди вопросов, волновавших военное руководство Русского Туркестана, были и вопросы тылового обеспечения русских войск в Туркестане. Например, генерал-майор А. Н. Куропаткин обстоятельно изучил вопрос об обозах. Он констатировал, что местное население «до прихода русских и практикует в настоящее время три главных рода перевозочных средств: при движении по степям – служат верблюды, по оазисам – арбы в одну лошадь, для движения по горам – вьючные лошади, а в последнее время между Ташкентом и Оренбургом – в четырёхколёсные
дроги и арбы запряжены верблюды» [15, с. 120]. В линейных походах принят и испытан в Джамском и Кульджинском походах смешанный арбяной и вьючный обоз, который приходилось увеличивать из-за необходимости везти с собой воду [15, с. 121]. В состав войскового штатного обоза включались «патроны, медикаменты, канцелярия, шанцевый инструмент, лазаретные вещи, больные заручное оружие и пятидневный провиант», в состав вольнонаёмный -«интендантские, артиллерийские и инженерные тяжести», «мундиры и шинели 1-го и 2-го сроков, запасные сапоги, подстилочная кошма, палатки, солдатские вещи и сухарный запас». Вольнаёмный обоз использовал 7462 верблюда и 814 арб [15, с. 123]. При этом для войны с Бухарой, полагал А. Н. Куропаткин, целесообразно использовать колёсный обоз [15, с. 125]. В заключение исследователь приводит подробный расчёт штатов и расчёт тяжести обоза.
Важным вопросом военнотопографического изучения была граница Российской империи. «Наша граница от Каспийского моря до самых верховьев Или и Кунгеса, - отмечает П. П. Матвеев, - хорошо обеспечена природою от всяких внешних нападений. Заслонённый Тянь-Шаньским хребтом, Туркестанский край почти совершенно недоступен для неприятеля с юга, от Кульджи до Самарканда; действительно, на всём протяжении, около полуторатысяч вёрст, представляется возможность переходить Тянь-Шань только в немногих пунктах, а именно: из долины Юлдуса через перевалы Нарат, Дагыт и Кара-Кур, из Кашгарской равнины через перевалы Теректы, Туругарт и Терек-Даван и из Шахризябса через перевал Тохта-Карача, но даже и эти немногие перевалы, как недоступные для артиллерии и колёсного обоза, удобопроходимы только для летучих отрядов. Далее на запад от Самарканда до Нукуса, а оттуда до берегов Каспийского моря граница наша вполне обеспечивается слабонаселённою и почти бесплодною пустынею». При этом Амударья представляет собою естественную оборонительную линию, а восточная часть Бухары является базисом обороны [15, с. 52]. Китайцы только оправились от восстания мусульман, Бухара в зависимости, Хива и туркестанские степи под наблюдением наших отрядов на Аму-Дарье и Атреке, «дикие набеги туркмен перешли навсегда в область преданий» [15, с. 51].
Но при этом, отмечает исследователь, «изолированное положение Туркестанского края, не допускающее возможности получать здесь своевременно подкреплений из внутренних округов Империи, требует большой осмотрительности в борьбе нашей с англичанами в Азии» [15, с. 54].
Что касается российско-китайской границы, то вопрос о пограничном размежевании был особенно острым ввиду мусульманского движения в западном крае Китая, и в 1882-1883 гг. «была проведена и обозначена на местности линия границы от перевала Уз-бель Сарыкольского хребта на Памире, расположенного около озера Каракуль» [18, с. 25].
Таким образом, уже в первые десятилетия русского управления в Западном Туркестане Главный Штаб армии Российской империи и туркестанское генерал-губернаторство уже получили достаточно подробные сведения о состоянии путей сообщения в регионе, об их протяжённости, ширине, качестве грунта на суше, глубине фарватера в реке, возможности использовать разные виды транспорта, топливном обеспечении и т.д. Военные исследователи работали в достаточно сложных условиях и объективно анализировали недостатки, которые при возможности требовалось устранить. При этом основной целью оставалось сохранение военного преобладания в регионе и при необходимости защита рубежей империи.
Список литературы Начало изучения путей сообщения в Западном Туркестане военными исследователями после его завоевания Российской империей
- История Казахстана в западных источниках XП-XX вв. - Т. V. Немецкие исследователи в Казахстане. Часть 1. -Алматы: Санат, 2006. - 408 с.
- Бартольд, В. В. Сочинения / В. В. Бартольд. - Т. IX. Работы по истории востоковедения. - М.: Наука, 1977. - 969 с.
- Арсеньев, К. Краткая всеобщая география / К. Арсеньев. - СПб.: Медицинская типография, 1818. - 325 с.
- Султанов, Т. И. Чингисхан и Чингизиды. Судьба и власть / Т. И. Султанов. -М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2006. - 445 с.
- 5.Центральная Азия в составе Российской империи / под ред. С. Н. Абашина, Д. Ю. Арапова, Н. Е. Бекмахановой. - М.: Новое литературное обозрение, 2008. - 464 с.
- Добросмыслов, А. И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк / А. И. Добросмыслов. - Ташкент: Электропаровая типолитогр. О. А. Порцева, 1912. - 520 с.
- Терентьев, М. А. История завоевания Средней Азии. С картами и планами. - СПб.: Типолитография В. В. Комарова, 1906. - Т. III. - 534 с.
- Бартольд, В. В. Сочинения / В. В. Бартольд. - Т. VII. Работы по исторической географии и истории Ирана. - М.: Наука, 1971. - 665 с.
- Туган, Э-З. В. Бегенге Теркиле (Теркестан) hэм ятсын тарихы. Кенбайыш hэм Теньятс Теркестан. 9-се елеш / Э.-З. В. Туган. - 9фе; Китап, 2015. - 400 б.
- Восточный Туркестан глазами русских путешественников (вторая половина XIX в.) / С. Г. Кляшторный, А. А. Колесников. - Алма-Ата: Наука, 1988. - 221 с.
- Колесников, А. А. Вклад русских военных исследователей в изучение Центральной Азии, вторая половина XIX -начало XX веков: диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук в форме науч. Докл.: 07.00.02. - Санкт-Петербург, 1998. - 72 с.
- Басханов, М. К. Русские военные востоковеды до 1917 г. Биобиблиографический словарь / М. К. Басханов. - М.: Восточная литература, 2005. - 296 с.
- Глущенко, Е. А. Россия в Средней Азии. Завоевания и преобразования / Е. А. Глущенко. - М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2010. - 575 с.
- Собрание географических, топографических и статистических материалов по Азии. - Вып. II. - СПб.: Типография и хромо-литография А. Траншеля, 1883. - 219 с.
- Собрание географических, топографических и статистических материалов по Азии. - Вып. V. - СПб.: Военная типография, 1883. - 199 с.
- Собрание географических, топографических и статистических материалов по Азии. - Вып. X. - СПб.: Военная типография, 1884. - 350 с.
- Собрание географических, топографических и статистических материалов по Азии. - Вып. IX. - СПб.: Военная типография, 1884. - 258 с.
- Дацышен, В. Г. Очерки истории российско-китайской границы во второй половине XIX - начале XX вв. - Кызыл: Республиканская типография, 2000. - 216 с.