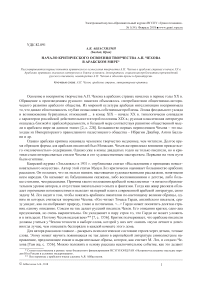Начало критического освоения творчества А.П. Чехова в арабском мире
Автор: Аббасхилми Абдулазиз Яссин
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 1 (54), 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются первые попытки критического осмысления творчества А.П. Чехова в арабских странах в начале ХХ в. Арабским критикам оказались интересны и близки гуманизм, демократизм, социальная проблематика произведений русского писателя, новаторство А.П. Чехова в области прозы и драматургии.
А.п. чехов, арабские страны, литературная критика
Короткий адрес: https://sciup.org/14822648
IDR: 14822648 | УДК: 82.091
Текст научной статьи Начало критического освоения творчества А.П. Чехова в арабском мире
Освоение и восприятие творчества А.П. Чехова в арабских странах началось в первые годы ХХ в. Обращение к произведениям русского писателя объяснялось «потребностями общественно-исторического развития арабского общества. Из мировой культуры арабская интеллигенция воспринимала то, что давало ей возможность глубже осмысливать собственные проблемы. Ломка феодального уклада и возникновение буржуазных отношений ... в конце XIX – начале XX в. типологически совпадали с характером российской действительности второй половины XIX в.; русская классическая литература оказалась близкой к арабской реальности, в большой мере соответствуя развитию общественной мысли в арабском мире на данном этапе» [2, с. 228]. Большинство первых переводчиков Чехова – это выходцы из Императорского православного палестинского общества – Ибрагим Джабир, Антон Балла-ни и др.
Однако арабская критика осваивала чеховское творчество медленнее, чем читатели. Долгое время образцом формы для арабских писателей был Мопассан. Чехов же привлекал внимание прежде всего «человечностью» содержания. Однако уже в конце двадцатых годов не только писатели, но и критики стали интересоваться стилем Чехова и его художественным мастерством. Первыми на этом пути были египтяне.
Каирский журнал «Эльхиляль» в 1931 г. опубликовал статью «Исследование о принципах повествовательного искусства». Автор этой статьи Муауя Лоз критически оценивает большинство арабских рассказов. Он полагает, что их нельзя назвать настоящими художественными рассказами, понятными всем народам. Он называет их бабушкиными сказками, либо воспоминаниями о детстве, либо больше статьями, чем рассказами. Причина такого положения арабской новеллистики – в низком образовательном уровне авторов, в отсутствии писательского опыта и фантазии. Тогда как жанр рассказа обладает огромными возможностями и выходит на первый план в современной арабской литературе, свою задачу М. Лоз видит в том, чтобы показать арабским писателям по-настоящему великие образцы, одним из которых считается творчество Чехова. «Кто читает Томаса Гарди, английского писателя, сразу увидит, как он изображает природу, тонко и поэтически. <...> Гарди может посвятить десятки страниц одному описанию. Совсем не так делает русский писатель Чехов. Его описания кратки, одно-два предложения, но очень выразительны. Он укладывает в пару строк то, что Гарди не может уложить и в пятьдесят. Поэтому Чехов недосягаем»** [7, с. 1556]. Критик подчеркивает, что арабские писатели должны учиться у Чехова точности в выборе слова, которой у них нет: сказать «мухи летают в доме» иногда лучше, чем описывать беспорядок в каждой комнате этого дома.
Для автора рассказов главное – раскрыть психологическое состояние героев через детали, точные слова. Этому может научить появившееся не так давно в европейской литературе символистское направление, предлагающее емкие и выразительные образы, которое, как считает М. Лоз, и создало Чехова [Там же, с. 1556]. Можно положить в основу рассказа исключительное событие, как это делают многие арабские писатели, а можно показать движение мысли и души человека, как это делает Чехов. Первый путь намного проще, но он не даст значительных результатов. Второй требует художественного гения. Этот путь М. Лоз называет школой психологического анализа. Писатель, по его мнению, должен сочувствовать своим героям, поскольку «сострадание более важно и выразительно, чем изображение печальных обстоятельств» [7, с. 1559].
И еще одно чеховское качество, по мнению критика, необходимо для настоящего писателя – правдивость. Очевидно, он имеет в виду достоверность изображаемого. «Читатель должен узнавать в героях живых людей, а в событиях – окружающую его действительность. Но и не всякий факт обыденной жизни достоин стать предметом искусства» [Там же, с. 1560].
В 1939 г. этот же журнал поместил анонс книги Махмуда Теймура «Маленький Фараон и другие рассказы», где впервые было сказано о влиянии русской школы на стиль арабских писателей. М. Теймур, один из крупнейших представителей египетской новеллистики, начал читать Чехова еще в 20-е гг. ХХ в. Он узнал о русском авторе с чужих слов: в кружке египетской интеллигенции кто-то прочитал «Дуэль» Чехова в переводе на английский язык. До этого, по его словам, арабская литература не знала вкуса русской литературы, даже не попробовала ее. Исключение составлял Л. Толстой, но и его знали скорее как философа, а не как писателя. Чехов перевернул творческий мир М. Теймура, который до этого считал себя тесно связанным с французской литературой, с представителями реалистической школы: Вольтером, Бальзаком и Мопассаном. Русский рассказ, представленный Чеховым, существенно повлиял на арабского писателя. Он пишет: «Чехов показал мне искусство, которого я не знал раньше. Его литература открыла новый мир, не похожий на тот, что представлен в английской и французской литературе. Этот чеховский мир отражает подлинную жизнь, он не приукрашивает и не искажает ее» [9, с. 56].
Журнал «Эльрисаля» в 1942 г. напечатал статью Халиля Хиндауи «Антон Чехов – русский писатель мирового значения». Автор дал краткую справку о жизни Чехова, в том числе сообщил, что писатель подписывал свои первые рассказы псевдонимом Антоша Чехонте. Но позже сам Чехов не был доволен многими сочинениями Антоши Чехонте. И все же эти ранние юмористические рассказы выявляют дарование Чехова в написании коротких юмористических рассказов, которые были очень популярны. Затем общее настроение творчества Чехова переменилось, и Х. Хиндауи в своей статье приводит примеры рассказов Чехова, в которых отражаются тоска и грусть. Х. Хиндауи также говорит о героях и темах Чехова: «Чехов изобразил типы людей из разных социальных слоев, показал читателю русского человека в разных обстоятельствах: работающим в поле, на заводе, путешествующим. <…> Но что бы он ни изображал, читатель ощущает тоскливую атмосферу жизни» [11, с. 13]. Чехов не приукрашивает действительность, не говорит высоких слов о героизме: «... прекрасные повести писателя посвящены жизни русской деревни, которая похожа и на нашу деревню, например, в повести “Мужики”» [Там же, с. 13]. Гуманный взгляд Чехова охватывает весь мир, несмотря на то, что он рассказывает о русских людях. Конечно, в египетской или иракской деревне не увидишь русский самовар, но в изображении быта у Чехова много общего с жизнью в арабской деревне. Х. Хиндауи обращает внимание и на стиль писателя: «Талант и объективность позволяют Чехову изобразить отрицательные стороны жизни. Его произведения наполнены глубоким сочувствием к человеку. Он не язвит, не насмехается, а жалеет своих героев. Он немногословен, не вдается в мелочи, он схватывает главное – саму жизнь» [Там же, с. 15]. Критик верно понял отношение Чехова к своим героям. Насмешка Чехова не жестокая, а с комическим и юмористическим оттенком. Юмор Чехова – самостоятельная тема, о которой написано много и в России, и в арабских странах.
Упоминает Х. Хиндауи и о драматургии, особенно о пьесе «Три сестры», подчеркивая оптимизм Чехова. Приводя финальный эпизод пьесы «Три сестры», когда оркестр играет вслед уходящим военным и Ирина, обнимая сестер, говорит: «О милые сестры, жизнь наша еще не окончена. Будем жить! Музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем … Если бы знать, если бы знать!». Х. Хиндауи делает вывод, что сильная сторона жизнен- ной философии Чехова состоит в том, что «он всегда оставляет своим героям надежду, пусть и неясную, несмотря на все тяготы и неспособность героев к продолжению жизни» [11, с. 15]. Герои Чехова поддаются отчаянию, они не делают ничего, чтобы понять ценность жизни и постараться изменить ее, но автор дает им силы продолжать жить и надежду на светлое будущее.
Сравнивая Чехова с Г. Ибсеном, Х. Хиндауи отмечает важную особенность русской литературы: «... норвежская таинственность не соответствует духу русской литературы, перед которой со всей откровенностью и упрямством стоят проклятые вопросы жизни» [Там же, с. 15].
Таким образом, Х. Хиндауи нарисовал образ Чехова как писателя и как человека. Эта статья расширила представление арабских читателей о Чехове, потому что они успели полюбить его рассказы и нуждались в более глубоком знакомстве с их автором и особенностями его произведений.
Важную роль в арабском восприятии Чехова сыграла небольшая статья художественного руководителя Египетского театрально-музыкального объединения Заки Тулеймата. Это предисловие к пьесе «Медведь» в его переводе, опубликованное в 1944 г. в каирском журнале «Эльхиляль». З. Тулеймат писал: «Арабские актеры и режиссеры пока знакомы только с некоторыми произведениями русской литературы <…> египетские театры показали только три русские пьесы: “Воскресение” и “Анну Каренину” Льва Толстого и “Преступление и наказание” Достоевского*. Поэтому я хочу поставить пьесу Антона Чехова “Медведь”, чтобы египетский театр познакомился с третьим великим русским драматургом» [10, с. 42].
В своем маленьком предисловии переводчик предупреждал, что не может показать особенности пьесы с точки зрения стиля, интересного живого диалога и психологии героев. Он указал только на то, что Чехов смог раскрыть истину, которая существует в каждом человеке: «Есть два сильных чувства – любовь и ненависть. Они представляют собой две противоположности, живут в сердце, и сердце колеблется между ними и может вдруг полюбить то, что ненавидело раньше, и возненавидеть то, что раньше любило». «Чехов смог выявить двойственность человеческой природы. Психология открыла это только сейчас, спустя много лет после смерти Чехова», – добавляет З. Тулеймат. И это подтверждает глубину мысли Чехова и его знание человека. З. Тулеймат закончил свое предисловие такими словами: «Это качество творчества Чехова превращает его в общечеловеческую литературу, которая адресована всему человечеству, невзирая на различия вер, языков и территорий» [Там же, с. 42].
На предисловие переводчика к пьесе как на новый этап восприятия арабскими читателями и критиками русской литературы указал И.Ю. Крачковский: «Нет, конечно, нужды останавливаться на деталях его взглядов, … которые могут иногда разойтись с анализом нашего литературоведения; важно подчеркнуть, как серьезно относятся к творчеству Чехова крупнейшие представители современной арабской литературы, как они не только ищут у него ответа на вопросы художественного мастерства или тонкого анализа внутренних движений души, но даже обращаются за объяснением современности» [6, с. 315].
Большое значение для арабской чеховианы имела книга Наджати Сидки «Чехов», опубликованная в 1947 г. в Египте в серии «Икра» («Читай»). Это первое самостоятельное издание произведений Чехова с предисловием переводчика о жизни писателя, о его произведениях и особенностях творчества. В нее вошли некоторые маленькие рассказы Чехова и одноактные пьесы. Как считал Мухаммед Юнис, «Наджати Сидки принадлежал к тем арабским писателям, которые узнали русскую литературу из первоисточников, читали ее по-русски» [13, с. 111]. Сам Н. Сидки писал: «Я не был первым, кто перевел Чехова прямо с русского языка. В начале этого века в Палестине была школа, выпускники которой перевели произведения Чехова, Толстого, Тургенева и др. во время Османского владычества, но таких переводов мало и они часто далеки от оригинала. К тому же миссионерская, проповедническая цель школы ограничивала интерес к русской литературе православием, религиозной литературой. Доказательством является то, что после революции в России в 1917 году многие литераторы оставили эту работу и че рез двадцать пять лет почти забыли русский язык» [8, с. 8].
Книга Н. Сидки опирается, как показала А.А. Долинина, на русские работы о Чехове, в частности на книгу А. Измайлова «А.П. Чехов (1860–1904): Биографический набросок» (1916 г.), воспоминания брата писателя М.П. Чехова, письма Чехова и полностью переведенные и представленные в книге воспоминания Н.Д. Телешова [3].
В предисловии Н. Сидки рассказал о причинах, побудивших его обратиться к творчеству Чехова. Сначала он издал книгу о Пушкине, которая вызвала большой интерес арабских писателей и поэтов к русской литературе. Они попросили создать новую книгу, и выбор Сидки пал на Чехова, потому что, стремясь создать рассказы на арабские темы, в которых бы чувствовалось биение жизни, которые были бы богаты красками, событиями и чувствами и лишены пустословия, арабские новеллисты обычно обращаются к художественному опыту Чехова.
Н. Сидки выделил в творчестве Чехова три периода. Первый, по его мнению, длился до 1887 г. В это время Чехов был больше известен как автор рассказов, которые публиковались в юмористических журналах. Все видели в нем одаренного юношу, но никто не предполагал, что он станет великим русским писателем. Второй период – это время признания, когда Чехов достигает известности и славы.
Говорит Н. Сидки и о поездке Чехова на остров Сахалин, о жизни в Мелихове. Арабский критик рассказывает о пьесе «Чайка», о провале ее первой постановки в Александринском театре в Петербурге и о том, что эта неудача не сломила Чехова. Он продолжал создавать пьесы и написал «Дядю Ваню», «Три сестры» и «Вишневый сад». Далее Н. Сидки пишет: «Взгляд Чехова на человека особый и отличается от Толстого, Достоевского и Тургенева: у него нет героев, а есть разные человеческие типы. <…> Он изображает настроение и психологическую реакцию людей на разные ситуации, анализирует их характеры, поведение и привычки. Тонкие чеховские детали, которые обычно не замечают, имеют глубокий психологический смысл. Вокруг них строятся чеховские образы, и ими измеряется ценность человеческой жизни» [8, с. 18]. Этот анализ чеховских образов свидетельствует о глубоком и тщательном изучении творчества Чехова.
Третий этап, по словам Н. Сидки, это период всеобщего признания Чехова великим драматургом. В это время Чехов «заставил своих героев размышлять, он показал особый тип русского образованного человека, интеллигента, блуждающего в мире противоречий, погрузившегося в мечты и безволие. <…> За размышлениями героев читатель обнаружит мудрые и возвышенные мысли самого писателя, которые он выразил тонко и мастерски, … и имя его заняло место сразу после Толстого» [Там же, с. 19]. Этот этап жизни Чехова Сидки называет временем славы и известности. Пьесы имели большой успех, а повести и рассказы печатались большими тиражами, переводились на другие языки. Чехов стал признанным знатоком тайн человеческой души. Н. Сидки рассказал о многих фактах личной жизни писателя: о дружбе с Толстым, о болезни и жизни в Ялте, о женитьбе писателя на актрисе Московского художественного театра, исполнительнице ролей в его пьесах Ольге Книппер. С особенным чувством Н. Сидки повествует о последних минутах Чехова, его смерти в Германии и отправке тела в Москву.
-
Н. Сидки приводит многие не известные арабским читателям факты чеховской биографии, даже упоминает греческую школу, в которой Чехов учился всего год. Он подчеркивает, что мальчиком он был молчалив и замкнут, чувствовал себя одиноким и ненужным. Сидки почти полностью переводит и помещает в книгу письмо А.П. Чехова брату Николаю (март 1886 г.) о воспитанных людях: они уважают человеческую личность, сострадательны, болеют душой за других людей, платят долги, чистосердечны и боятся лжи, не уничижают себя, не суетны, уважают свой и чужой талант, воспитывают в себе эстетику. Это письмо Н. Сидки назвал «конституцией» Чехова на протяжении всей его жизни.
В качестве подтверждения чеховских мыслей переводчик привел эпизод с отказом Чехова от звания почетного академика Императорской академии наук, который был связан с тем, что сначала такое звание было присвоено М. Горькому, а потом отозвано на основании того, что Горький находился под следствием.
Многие арабские читатели не знали, что Чехов был врачом. Н. Сидки приводит и факты врачебной биографии писателя. Но рассказ о жизни и творческой судьбе русского писателя не единственная цель арабского критика и переводчика. Н. Сидки показывает влияние Чехова на начинающих новеллистов и дает им свои советы. Он рекомендует молодым писателям жить среди людей и много ездить по стране, потому что художник не может найти темы для своих рассказов, сидя в четырех стенах. Подчеркивается стремление русского писателя к реализму, хотя само это слово не упоминается. Автор книги говорит о чеховской неудовлетворенности жизнью, о том, что каждого читателя или зрителя «начинают манить смутные мечты, зовущие к светлому будущему» [8, с. 35]. Самой характерной особенностью чеховского творчества являются «тонкие касания жизни, которые запутывают душевное состояние человека» [Там же, с. 40]. «В пьесах Чехова, – говорит Н. Сидки, – есть восходы и закаты, печки, самовары, фортепьяно, родственники и еще тысячи мелочей, которые создают ощущение подлинной жизни» [Там же, с. 28].
Завершает вступительную статью Н. Сидки подборкой высказываний Чехова и цитат из его произведений. Например: «Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть» («Скучная история») или: «Назначение человека или ни в чем, или только в одном – в самоотверженной любви к ближнему» («Рассказ неизвестного человека») [Там же].
Книга Н. Сидки является ценным исследованием жизни Чехова и его творчества в арабской филологии. Она дала арабскому читателю много сведений о литературном пути Чехова с самого начала его деятельности, когда он был еще студентом медицинского факультета Московского университета, вплоть до того, как он достиг славы и мировой известности. Эта первая арабская книга о Чехове была в свое время очень популярной, и доказательством этого может служить второе издание, появившееся через 20 лет после выхода первого, в 1967 г., что довольно редкое явление в арабской литературе. Эта книга – один из важнейших источников для арабского читателя, интересующегося творчеством Чехова.
Однако у нас есть сомнения, что Н. Сидки переводил Чехова с русского языка. Так, он пишет о трех романах, якобы написанных Чеховым, – «Поздние цветы» («Цветы запоздалые» – А.А.), «Золотая коса» («Зеленая коса» – А.А.), «Ненужная победа». Но потом будто эти «романы» Чехову не понравились, он их больше не печатал и они исчезли (! – А.А.) [Там же, с. 14–15]. Похоже, что Н. Сидки называет романами все большие произведения писателя, например повесть «Степь». В книге Н. Сидки есть и другие неточности. Так, название рассказа «Зеленая коса» переведено как «Золотая коса», «Вишневый сад» – как «хадика», место для отдыха возле дома, а не как «бустан», собственно фруктовый сад, хотя есть точный перевод Сухейля Идриса, «Скучная история» – как «Скучная биография» и т. д. Но, главное, «Дядя Ваня» переводится как «Эльам Ваня», т. е. брат отца, а не брат матери (Эль-халь), тогда как из пьесы ясно, что речь идет о дяде – брате матери Сони. Если бы Н. Сидки имел дело с оригиналом, а не с переводами на европейские языки, он не совершил бы такой, значимой для арабов, ошибки.
Книга Н. Сидки вызвала критические отзывы. В ливанском журнале «Эльадиб» («Литератор») появилась статья Сухейля Идриса, где сказано: «Существует много переводов рассказов Чехова на арабский язык. Но всего этого пока недостаточно, чтобы узнать Чехова. Описание жизни и творчества Чехова ограничивается поверхностным рассказом, в котором нет анализа и выводов. Это простая характеристика жизненных этапов, цитирование чужих суждений. Автор книги приводит только отдельные факты, чтобы показать значение Чехова. Нужно глубже изучать жизнь писателя и ее влияние на его произведения, выявить особенности его творчества и авторской позиции. Все это не было учтено. <...> Можно выбрать один из известных романов или одну из повестей Чехова и на примере этого произведения продемонстрировать его достоинства и рассмотреть его героев» [4, с. 50]. Как видно из критического отзыва, его автор сам не очень хорошо знает творчество Чехова, потому что тот не писал романов. Но появление этого отклика свидетельствует о насущной потребности более близ- кого знакомства с творчеством Чехова в арабских странах. Верно, что читателям нужно было глубокое исследование художественного мира Чехова, но им также нужно было больше узнать о русском писателе, о его жизни. Именно это и сделал Н. Сидки в своей книге. Иракский критик Мухаммед Юнис заметил: «... о детстве писателя Сидки пишет: “Чехов родился семнадцатого января 1860 года, его дедушка был крепостным крестьянином, а отец – купцом. Его мать Евгения Яковлевна была родом из известной купеческой семьи”. Эти слова Наджати Сидки можно понять так, что Чехов жил богато, потому что его отец был купцом и мать из купеческой семьи, а на самом деле Чехов жил бедно и его детство было трудным и безрадостным» [13, с. 111]. На самом деле оба критика не совсем правы. Отец Чехова, действительно, был купцом, но ему так и не удалось разбогатеть. И детство будущего писателя было непростым. Но для нас важна специфика восприятия личности русского писателя в арабских странах, связанная с их социально-политической историей.
Особо Н. Сидки и его критики подчеркивают, что герои Чехова – простые люди. Надо заметить, что под простыми людьми они понимают как обычных людей, так и социально обездоленных. Чехов воспринимается как писатель из народа. И это является одной из важнейших причин интереса к его творчеству. Для арабского читателя этические и социально-исторические аспекты чеховских произведений оказываются важнее их художественных достоинств. В первую очередь, в личности писателя их привлекают его демократическое происхождение и трудовая биография. Многие критики подчеркивают трудное детство Чехова, которое выработало в нем силу воли, целеустремленность и работоспособность. Большое внимание уделяется и дружбе писателя с режиссерами и актерами Московского художественного театра. Это объясняется тем, что проблема театра и драматургии в творчестве Чехова рассматривается критиками как ведущая и наиболее значимая. Медицинская деятельность писателя становится объектом интереса, поскольку свидетельствует о том, что наука помогает выработке художественных принципов: объективности, понимания всеобщих закономерностей жизни.
Как нам кажется, арабские критики, говоря о демократизме Чехова, находятся под большим влиянием «народной мысли» Л. Толстого. На самом деле, как совершенно верно заметил В.Б. Катаев, есть существенные различия в природе демократизма Чехова и Толстого: «... в основе этих различий лежат как исторические, так и личные, биографические причины. Пиетет перед народом, искание путей к “почве”, к мужицкой “простоте и правде”, учение у народа – то, что было присуще Толстому и народническому направлению русской литературы в широком смысле этого слова, – чуждо Чехову-писателю. “Во мне течет мужицкая кровь, меня не удивишь мужицкими добродетелями”; “не Гоголя опускать до народа, а народ подымать к Гоголю”; “все мы народ…” – эти и другие высказывания Чехова выражают новую для русской литературы форму демократизма, демократизма природного и изначального, для выражения которого писателю не надо было опрощаться, переходить на новые позиции, что-то ломать в себе» [5, с. 62].
Таким образом, 40-е гг. ХХ в. можно назвать ознакомительным периодом арабского чеховедения, приближением личности и творчества Чехова к арабским читателям. В этот период формируются основные причины интереса к русскому писателю в арабском мире.
Список литературы Начало критического освоения творчества А.П. Чехова в арабском мире
- Аббасхилми А.Я. Творчество А.П. Чехова в Ираке: восприятие и оценка: дис.. канд. филол. наук. Ростов н/Д., 2015.
- Али-заде Э.А. Чехов в арабских странах//Чехов и мировая литература: Литературное наследство. Т. 100. Кн. 3. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 228-252.
- Долинина А.А. Русская литература XIX в. в арабских странах: автореф. дис.. канд. филол. наук. Л., 1953.
- Идрис С. «Чехов» Наджати Сидки//Эльадиб. Бейрут. 1947. Май. № 5. С. 50.
- Катаев В.Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. М.: Изд-во МГУ, 1979.
- Крачковский И.Ю. Чехов в арабской литературе//Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. Т. 3. М. -Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 312-316.
- Лоз М. Исследование о принципах повествовательного искусства//Эльхиляль. Каир. 1931. Август. С. 1553-1560.
- Сидки Н. Чехов. Каир: Дар Эльмаариф, 1947.
- Теймур М. Чехов -создатель гуманного рассказа, как я его узнал//Эльхиляль. Каир. 1960. Март. С. 54-57.
- Тулеймат З. А.П. Чехов. Медведь//Эльхиляль. Каир. 1944. Март. С. 42-56.
- Хиндауи Х. Антон Чехов -русский писатель мирового значения//Эльрисаля. Каир. 1942. № 444. С. 13-16.
- Хост Н. А.П. Чехов в арабской литературе: автореф. дис.. канд. филол. наук. М., 1970.
- Юнис М. Русская классика и арабская литература. Багдад: Дар АфакАрабия, 1985.