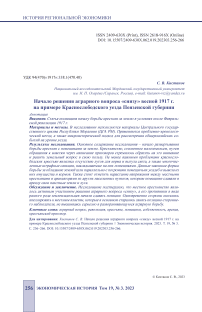Начало решения аграрного вопроса «снизу» весной 1917 г. на примере Краснослободского уезда Пензенской губернии
Автор: Кистанов С.В.
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: История региональной экономики
Статья в выпуске: 3 (62) т.19, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. Статья посвящена началу борьбы крестьян за землю в условиях после Февральской революции 1917 г. Материалы и методы. В исследовании используются материалы Центрального государственного архива Республики Мордовия (ЦГА РМ). Применяются проблемно-хронологический метод, а также микроисторический подход для рассмотрения общероссийских событий на уровне уезда. Результаты исследования. Основное содержание исследования - начало развертывания борьбы крестьян с помещиками за землю. Крестьянство, стесненное малоземельем, путем обращения к властям через написание приговоров стремилось обратить на это внимание и решить земельный вопрос в свою пользу. Не менее важными проблемами краснослободских крестьян являлись отсутствие лугов для корма и выгула скота, а также многочисленные штрафные санкции, накладываемые на них помещиками. Данные законные формы борьбы за обладание землей шли параллельно с погромами помещичьих усадеб и вывоза из них имущества и кормов. Также стоит отметить нарастание напряжения между местными крестьянами и арендаторами из других населенных пунктов, которым помещики сдавали в аренду свои пахотные земли и луга. Обсуждение и заключение. Исследование подтвердило, что местное крестьянство являлось активным участником решения аграрного вопроса «снизу», а его противники в виде разного рода землевладельцев начали сдавать позиции. Одновременно стороны пытались апеллировать к местным властям, которые в основном старались занять позицию стороннего наблюдателя, не вмешиваясь серьезно в разворачивающуюся аграрную борьбу.
Аграрный вопрос, революция, крестьяне, помещики, собственность, аренда, крестьянский приговор
Короткий адрес: https://sciup.org/147241552
IDR: 147241552 | УДК: 94(470)«1917»:338.1(470.40) | DOI: 10.15507/2409-630X.062.019.202303.256-266
Текст научной статьи Начало решения аграрного вопроса «снизу» весной 1917 г. на примере Краснослободского уезда Пензенской губернии
Начало ХХ в. характеризуется для российской государственности чередой крупных общественно-политических изменений: революциями 1905–1907 гг. и 1917 г., а также Первой мировой и Гражданской войнами. Стоит заметить, что за исключением мировой войны все вышеперечисленные события имели одинаковый набор причин, нерешенность которых приводила к крупнейшим социально-экономическим и политическим потрясениям. Их следствием стали крушение российской монархии и становление новой советской государственности после прихода к власти партии большевиков.
Одной из важнейших проблемных точек в Российской империи являлся аграрный вопрос. Его важность определялась и тем, что подавляющее большинство населения страны были крестьянами. Русская деревня начала ХХ в. страдала из-за сохранения в ней пережитков крепостничества (малоземелье, господство крестьянской общины и др.), слабого развития буржуазных отношений, а также нежелания властей осуществить реформирование аграрно-крестьянского сектора. Правящая верхушка затягивала попытки преобразований в этом направлении, сводя на нет даже те начинания, которые пытались претворяться в жизнь, несмотря на то что после зашедшей в тупик «виттевской» модернизации следовало расширять внутренний рынок. Еще одной из проблем, стоявшей перед властью, стала необходимость сохранения «священ- ной и неприкосновенной» помещичьей собственности – главной социальной опоры монархии. Нерешительность властей и разногласия в правящих верхах привели к тому, что попытки решения крестьянского вопроса в рамках работы Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности и Редакционной комиссии по пересмотру законодательства о крестьянах практически не дали реального итога. Лишь революция 1905–1907 гг., грозившая сотрясением всего российского уклада, заставила властей пойти на широкомасштабные реформы в аграрном вопросе – Столыпинскую аграрную реформу 1906–1911 гг. Однако и она не смогла решить все проблемы, стоявшие перед российской деревней, а со смертью реформатора и началом Первой мировой войны и она стала сворачиваться. Словом, к 1917 г. аграрный вопрос в России так и не был решен, и его решением, по идее, должны были заняться новые люди, пришедшие к власти после Февральской революции.
Следует отметить, что исследования по истории аграрно-крестьянского вопроса в России довольно многочисленны. Велись они практически по горячим следам свершавшихся событий. Огромная роль в исследовании вопросов, связанных с аграрнокрестьянским вопросом периода Великой российской революции 1917 г., принадлежит советской исторической науке. Однако здесь следует иметь в виду, что советская историография имела ряд специфических черт в данном направлении исследований. Прежде всего внимание уделялось деятельности партии большевиков в деревне и ее роли в аграрном движении; делался акцент на классовой борьбе. При этом роль и деятельность иных политических партий (прежде всего социалистов-революционеров) либо умалчивалась, либо искажалась, передаваясь как реакционная и антикре-стьянская. Классовой борьбе в деревне в 1917 г. посвящены исследования С. М. Дубровского, Н. А. Кравчука, Т. В. Осиповой, А. В. Шестакова [3; 7; 8; 11]. Борьба большевиков с эсерами за крестьянские массы освещена в работах В. Н. Гинева, К. В. Гусева, В. В. Комина, С. П. Трапезникова [1; 2; 5; 10]. В тот же период немалая роль в исследовании данной проблемы, в том числе решения аграрного вопроса в 1917 г., принадлежала региональной историографии, которая рассматривала как непосредственно само крестьянское движение в губерниях Российской империи, так и борьбу большевиков за реализацию своей программы в деревне. С изменением историографической ситуации в России начиная со второй половины 1980-х гг. круг вопросов рассматриваемых как российской, так и региональной историографией расширился; идеологические постулаты перестали быть актуальными; наконец, ушел уклон в сторону исследования только положительной роли большевистской партии в аграрном вопросе [4; 6]. Однако следует отметить, что исследования по аграрному вопросу в начале ХХ в., в 1917 г. в частности, как в советский, так и в постсоветский период проводятся прежде всего на макроуровне, затрагивая его в общероссийском или в региональном (губернском) масштабе. Исследований по реализации аграрной программы и попыткам решения аграрного вопроса на самом мелком уровне (непосредственно на местах – в уездах) практически нет. Следовательно, рассмотрение попыток решения аграрного вопроса в 1917 г. на примере одного из уездов Пензенской губернии является оригинальным и предельно актуальным.
Материалы и методы
Основными источниками данного исследования являются материалы фонда Р-30 «Краснослободский уездный комиссар Временного правительства Пензенской губернии» Центрального государственного архива Республики Мордовия (ЦГА РМ), представляющие собой переписку уездного руководства с крестьянским самоуправлением по поводу поземельных отношений, возникших после прошедшей Февральской революции. Непосредственно при работе с материалами нами был использован проблемно-хронологический метод, позволи- вший «разбить» процессы в ходе решения аграрного вопроса в деревне на составные элементы и проследить их течение весной 1917 г. Также нами использован микроисто-рический подход, при помощи которого мы способны рассматривать общероссийские процессы на самом низовом административном уровне страны, т. е. в рамках уезда.
Результаты исследования
События февраля – марта 1917 г. в Петрограде (Февральская революция) вызвали повышенные ожидания населения страны в том, что проблемы, от решения которых уходили царские власти, наконец-то будут решены новой властью, т. е. Временным правительством. Эти же настроения охватывали и самую большую социальную группу населения Российской империи – крестьянство. Оно же, замученное прежде всего малоземельем (ибо в подавляющем большинстве относилось к категории бедняков) еще со времени революции 1905– 1907 гг., было не прочь провести «черный передел», поэтому ждало от властей более-менее радикального решения аграрного вопроса в свою пользу. Однако Временное правительство отложило решение до созыва Всероссийского Учредительного собрания, что во многом не устраивало крестьянские массы. Поэтому крестьянство на местах с начала периода двоевластия, т. е. с марта 1917 г., начало либо просить местные органы новых властей начать решение животрепещущего вопроса, либо явочным порядком решать данный вопрос в своих интересах.
Для первых месяцев постреволюционной России на местах при разрешении аграрного вопроса основная напряженность по-прежнему проходила по отношениям между крестьянами и землевладельцами, к которым отнесем исконных антагонистов деревни – помещиков и монастыри. Однако со времен проведения Столыпинской аграрной реформы к врагам крестьян-общинников добавились хуторяне и арендаторы общинных земельных владений, которых крестьянство в основной массе также стремилось изгнать, а их владения – поделить. Необходимо отметить, что весной 1917 г. данная борьба еще не принимала радикальных форм и проводилась в более-менее приемлемой для законодательных устоев империи формах. Также отметим, что новые власти пока имели популярность среди населения и могли рассматриваться в качестве силы, которая может привести аграрный вопрос к удовлетворению всех сторон конфликта. Мало того, специфика весны 1917 г. заключается еще и в том, что именно в этот период времени началось объединение крестьянства на местах для совместного отстаивания своих интересов, что происходило в рамках созыва губернских крестьянских съездов. В частности, в Пензенской губернии такие съезды будут проведены в середине апреля, а затем и в середине мая.
Антипомещичье направление борьбы крестьян Краснослободского уезда наметилось практически сразу же после падения старой власти, рассматривавшей помещиков в качестве главной опоры. Теперь же высшая защита исчезла, что дало возможность местному крестьянству начать наступление на помещиков в экономическом и политическом плане. Согласно имеющимся у нас архивным материалам, весной 1917 г. на территории Краснослободского уезда столкновения крестьян на экономической почве произошли с шестью помещиками: Н. Бакулиной, Львом Бакулиным, Марией Пляцентовой, А. Пономаревым, Г. Травиной и Рябиниными. Именно отношения между крестьянами окрестных населенных пунктов и имениями данных землевладельцев стали наглядным примером способов решения аграрного вопроса в России весной 1917 г.
Первым по хронологии крестьянским нападкам подвергся Л. Бакулин, противостояние с которым у крестьян с. Булаево Урейской волости началось 10 марта. Заметим, что крестьяне оказались политически подкованными и использовали против помещика актуальные веяния послереволюционного момента – обвинили в политических преступлениях, связанных с престу- плениями старого режима. От губернского комиссара Временного правительства потребовали арестовать Бакулина как «самого ярого крепостника и мучителя крестьян нашего села, десятками лет угнетавшего нас»1. В целом помещика обвинили по четырем пунктам как экономического, так и политического характера:
-
1) в том, что он не желает продать крестьянам участок земли, по которому они осуществляют прогон скота, и из-за этого крестьяне вынуждены платить Бакулину многочисленные штрафы за потраву;
-
2) в том, что он продает свою землю кулакам из других сел, а не своим крестьянам;
-
3) в том, что он умышленно отравляет реку, сбрасывая в нее отходы от деятельности своего винокуренного завода;
-
4) в том, что он как предводитель местного дворянства является ярым монархистом и реакционером, а также типичным членом Союза русского народа2.
Кстати, в прошении комиссару упоминалось, что проблемы, связанные со сбросом в воду предметов деятельности винокуренного завода, имели длительную историю и еще в 1906 г. вызвали беспорядки со стороны местных крестьян, которые за это подверглись даже тюремному заключению.
Однако милиционером Бочкаревым было быстро проведено расследование происхождения данного обращения и выяснено, что помещик, в общем-то, здесь ни при чем. Основное недовольство местных крестьян вызывал управляющий данным имением Соколов, который милиционером характеризовался как человек ленивый, нечестный и жестокий3.
Однако борьба между крестьянами и Л. Бакулиным продолжилась уже по чисто экономическим мотивам, в основе которых так и стояла проблема потравы крестьянами помещичьей земли. Недовольные действиями местных властей крестьяне с. Булаево 23 марта собрали сельский сход и приняли приговор, в котором обратились к уездному комиссару за защитой. Крестьяне указывали, что помещик Бакулин продал землю, но не крестьянам с. Булаево, а кулакам соседней деревни Карлино. Это сохраняло для булаевского крестьянства проблему с потравой лугов при выгоне скота на пастбище, так как владения Бакулина располагались вокруг вышеупомянутого села. Попытка договориться с помещиком провалилась, и теперь крестьяне оказывались в безвыходной ситуации, которая объективно препятствовала свободному развитию крестьянского хозяйства. В конце текста приговора после подписей 30 домовладельцев с. Булаево сельский староста Василий Трофимов сообщал, что в настоящее время сделка по купле-продаже земли еще не завершена, а купчая на нее даже не оформлена4.
В те же самые дни обострились отношения между крестьянами того же самого села и помещицей Натальей Петровной Бакулиной. На имя краснослободского уездного комиссара 12 марта было отправлено заявление от доверенного лица помещице (того же самого управляющего Соколова), в котором он сообщал, что крестьяне с. Булаево Иван Бунин и Антон Терешин агитируют однообщественников к насильственным действиям против экономии помещицы, в частности требуют удалить всех служащих, после чего разгромить экономию и присвоить себе имущество помещицы5. Комиссаром на заявление была наложена резолюция на имя милиционера Бочкарева с требованием выяснить положение на месте.
В дальнейшем столкновения между крестьянами с. Булаево и помещицей Бакулиной начались из-за границ земельных участков. В итоге крестьяне 9 апреля собрали сход, на котором приняли приговор, прося уездные власти прислать к ним своего представителя для разрешения земельного спора, так как, по словам крестьян, на все их предложения помещица отвечала категорическими отказами6.
Экономическими причинами были обусловлены и конфликты крестьян с помещиками Рябиниными, Пляцентовой и Травиной. Их роднит тот факт, что крестьяне требовали изменений во взаимоотношениях и, не дождавшись вынесения решений сверху или согласия помещиков, начинали явочным порядком менять характер существующих имущественных отношений.
В третьей декаде марта произошел конфликт между помещицей Г. Травиной и крестьянами сельца Агеево, обвиненными помещицей в незаконной порубке леса. В заявлении на имя уездного исполнительного комитета крестьяне наотрез отвергали выдвинутые против них обвинения, причем агеевцы прямо заявляли, что не будут заниматься переделом собственности (вырубкой леса) до соответствующего решения Всероссийского Учредительного собрания. При этом крестьяне потребовали, чтобы до того самого момента (вердикта Учредительного собрания) помещица не смела рубить собственный лес (который она, по слухам, хотела в ближайшее время начать рубить для продажи). Крестьяне прямо заявляли: если помещица попробует изменить сложившееся статус-кво, они вызовут нежелательные осложнения7. Соответственно, крестьяне весной 1917 г. верили, что Учредительное собрание примет решение о превращении собственности в общенародное достояние со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В апреле 1917 г. трагический оборот приняло дело, касающееся имения помещицы Марии Пляцентовой, причем к данному времени сама помещица вследствие разгрома окрестными крестьянами ее имения покинула д. Будаево и выехала в Москву.
Вокруг брошенного хозяйства разгорелась борьба между местными крестьянами и сыном помещицы Сергеем.
Крестьяне д. Будаево сводили конфликт к проблеме, связанной с соседством земельных участков, и соответственно, аренды земли и проблем с потравой помещичьих лугов. В приговоре, принятом крестьянами деревни, описывается их тяжелое экономическое положение: высокие арендные платежи по 25 руб. за юфту (десятина пара и десятина яровых посевов), а также непосильная для них сумма в 500 руб. ежегодно за прогон скота по землям помещицы. Ситуация также усугублялась тем фактом, что расположенные рядом с деревней земли бывшие землевладельцы Юрьев и Кондаков распродали крестьянам других населенных пунктов, что тоже привело к большим штрафам будаевских крестьян за прогон скота по чужой земле. От уездного исполнительного комитета крестьяне просили решить судьбу земли помещицы, оставшейся без присмотра и уже подвергшейся разгрому русиновскими крестьянами, которые вывезли весь хлеб и корм, а также скот и инвентарь. Взывая к патриотическим чувствам, будаевские крестьяне писали: «Когда вся Россия должна сплачиваться воедино и с удвоенностью работать на пользу Родины и армии, а потому не должен оставаться ни один клок земли не засеянным, мы считаем необходимым временно взять землю под свое управление»8.
Письмо сына помещицы, Сергея Григорьева, прапорщика 100-го запасного полка, расквартированного в Сызрани, в исполнительный комитет от 10 апреля лишено идиллических мотивов. Наоборот, оно очень хорошо демонстрирует российскую действительность революционного периода. Слова Сергея Григорьева повторяют информацию будаевского приговора по текущему состоянию имения, которое разгромлено, лишено инвентаря и семян. Сын помещицы сообщал, что в прошлом году было засеяно под озимые 30 дес., а 10 дес. отданы под посевы крестьянам д. Будаево в испольщину, однако в наступившем 1917 г. убирать хлеб нечем. Поэтому Сергей Григорьев просил исполнительный комитет о двух вещах: выступить посредником в передаче местным крестьянам земли имения в аренду по 10 руб. за десятину для яровых посевов, а также организовать охрану озимых посевов до приезда матери Сергея Аркадьевича, которая сможет договориться с крестьянами по поводу уборки урожая9.
Ответ исполнительного комитета был достаточно оперативным. Было отмечено, что комитет должен войти в соглашение с будаевскими крестьянами по аренде земель Пляцентовой, однако предполагалось исходить из суммы аренды, предложенной хозяевами имения. Если крестьяне не согласятся на выдвигаемые условия, им можно будет предложить платить за землю исходя из твердых цен, установленных ранее властями, что, конечно, будет меньше, чем предложенные Пляцентовыми10.
Малоземельем был вызван конфликт между крестьянами д. Потякши и помещиками Рябиниными. Но в этом случае речь шла о земле, которую крестьяне собирались использовать под пастбища для своего скота, а также под покос травы. Составленный приговор от 14 апреля в адрес уездного исполнительного комитета просил комитет стать посредником в данном конфликте и выступить инициатором установления суммы, которую крестьяне будут согласны платить помещикам за аренду земли и покос травы11.
Проблемы малоземелья стали исходной точкой конфликта между крестьянами с. Ворона и Александро-Невским женским монастырем. Здесь также местными крестьянами в начале апреля был составлен
-
9 ЦГА РМ. Ф. Р-30. Оп. 1. Д. 2. Л. 10.
-
10 Там же. Л. 10 об.
-
11 Там же. Л. 7.
-
12 Там же. Л. 4.
-
13 Там же. Л. 6.
приговор на имя уездного исполнительного комитета, в котором они просили согласия на запашку земли монастыря, прилегающей к землям крестьянского общества, в размере 350 дес. по арендной цене в 3 руб. за десятину. Со своей стороны крестьяне обещали обрабатывать всю землю, которая, по распоряжению Временного правительства, должна быть обработана полно-стью12.
Исполнительный комитет также отреагировал оперативно и постановил оставить монастырю 30 дес. земли, а остальную отдать в аренду вороновскому обществу. Однако настоятельница монастыря никак не отреагировала на предложения крестьян, после чего они сами приступили к разделу монастырской земли. До того как члены исполкома смогли вмешаться, крестьяне самовольно разделили 48 дес. монастырской земли и бóльшую часть из них уже засеяли. Вороновским крестьянам было предложено остановить самоуправство, а также платить за арендованную десятину не 3, а 4, 6 или 10 руб. в зависимости от состояния земли. В ответ на это крестьяне с. Ворона вновь собрали сход и составили приговор на имя исполкома, в котором приняли все его требования и были готовы вновь вступить в переговоры с настоятельницей монастыря, однако вновь не получили ответа. Крестьяне со своей стороны обещали выплатить все требуемые исполкомом суммы за 48 уже распаханных десятин земли, а также платить установленную сумму за остальные монастырские земли, в том числе те, которые по распоряжению исполкома монастырь должен был оставить себе и обрабатывать своими силами. Крестьяне просили как можно скорее решить вопрос с землей, так как время посевной стремительно ухо-дило13.
Тугой узел противоречий по аграрному вопросу затянулся в апреле 1917 г. в с. Рус- ское Маскино и д. Мордовское Маскино, который демонстрировал масштабность проблем с землей революционного периода. Крестьяне Русского Маскина, страдая от малоземелья (после отмены крепостного права получили от помещика лишь по 3 дес. земли), 6 апреля составили приговор, в котором, апеллируя еще к Генеральному межеванию Екатерины II и горюя по поводу непредусмотрительности местных стариков, требовали вернуть им незаконно захваченную еще в XIX в. заводовладельцем Манухиным крестьянскую землю. Теперь же они ставили вопрос расширения своего землепользования путем покупки земель у лиц, которым упомянутый Манухин продал землю: около 1 000 дес. у купчихи Головой и 114 дес. у Пономаревой. Также часть земли принадлежала крестьянам д. Мордовское Маскино, которые, как казенные крестьяне, имели наделы по 7 дес. Русско-маскинские крестьяне открыто заявляли, что при старом режиме бороться за землю было бесполезно, а «в настоящее время по случаю великого Государственного переворота имеем поднятие духа и окрыленные надеждой на программу социал-демократической партии, что земля должна принадлежать тому, кто ее обрабатывает своими руками, и, тем более, нам эта земля к делу, как говорит пословица “дорога борозда к загону”»14.
В те же самые дни на имя уездного исправника пришло прошение от крестьян д. Мордовское Маскино, в котором они обосновывали свое право на получение части земель, принадлежавших купчихе Головой, в размере 414 душевых наделов, собственным малоземельем. Причем данное прошение было явно следствием действий крестьян из Русского Маскина, так как уездный комиссар был предупрежден о «шумных действиях» русско-маскинцев. Также русско-маскинцы обвинялись мордовско-маскинцами в том, что они не хотели дей- ствовать при переделе земли «по закону», поэтому просили комиссара провести разбирательство по данному вопросу15.
Одновременно в той же местности протекал конфликт между крестьянами д. По-тякши и помещиками Александром и Григорием Рябиниными. Крестьяне 10 апреля собрали сход и составили приговор, в котором просили помочь им в решении проблем с травой и водой. Потякшинцы сообщали, что местное сельское общество за неимением собственного водопоя было вынуждено платить за это помещикам Рябининым, которые, кроме того, траву с лугов, на которые претендовали потякшинцы, продавали посторонним. Теперь жители д. Потякши просили власти передать им спорные луга в аренду16.
Конечно, между русско-маскинским и потякшинским крестьянскими обществами произошел спор за земли, которые они приобретали у старых хозяев. Столкновение произошло прежде всего за земли купчихи Головой, 300 дес. пахотной и 100 дес. покосной земли, которой владели русско-ма-скинцы, а потякшинцы – 100 дес. пахотной и 12 дес. покосной. При этом обе стороны требовали решить земельный вопрос в свою пользу и не были настроены на достижение соглашений17.
В апреле 1917 г. темпы решения аграрного вопроса «снизу» ускорились. Во многом это было вызвано проведением 7–10 апреля в Пензе первого крестьянского съезда Пензенской губернии, усилившего консолидацию крестьянства и активизировавшего его борьбу за землю. Во время работы съезда большинство делегатов с мест высказались за немедленную передачу всех земель в распоряжение волостных исполнительных комитетов. В качестве временных мер съезд находил необходимым передать решение земельных отношений на местах в ведение исполнительных комитетов с воспрещением владельцам рубить лес, продавать, закладывать и ухудшать качество земли. При этом, согласно постановлению съезда, была отменена арендная плата, а пастбища и луга поступали в распоряжение комитетов безвозмездно и помимо воли владельцев [9, с. 21].
Явным следствием прошедшего съезда стали циркуляры губернского комиссара уездным комиссарам. 25 апреля красно-слободский уездный комиссар получил следующие указания: «Бюро исполнительного комитета в заседании своем от 17 апреля признало необходимым, чтобы все недоразумения, возникающие между землевладельцами и крестьянами прежде всего рассматривались на местах Уездными и Волостными комитетами, о чем сообщаем вам для сведения и надлежащего оповещения волостных и сельских Комитетов уезда»18. После съезда обострилась борьба за землю, причем не только между крестьянами и помещиками, но и между крестьянами-общинниками и арендаторами.
23 апреля 1917 г. в адрес уездного исполнительного комитета поступила жалоба, что крестьяне д. Русские Полянки препятствуют работе арендаторов, которые обрабатывают городскую землю19. А 25 апреля уездный комиссар пригласил выборных от с. Колопино, чтобы разобраться с захватами чужих земель20.
Обсуждение и заключение
Таким образом, процесс решения аграрного вопроса «снизу», выражавшийся в мечте российского крестьянства о «черном переделе», нашел свое проявление весной 1917 г. на территории Краснослободского уезда Пензенской губернии.
Главной проблемой местного крестьянства, как и в основном по России, было малоземелье. В начале ХХ в. значительное количество земли находилось в руках помещиков, которые либо посредством Дворянского поземельного банка распродавали ее крестьянам-единоличникам, либо просто закладывали ее с перспективой дальнейшего выкупа. Своих надельных земель крестьянам было мало (по Краснослободскому уезду встречаются площади наделов в 7 и 3 дес. на душу), поэтому единственно возможным способом расширения землепользования был переход помещичьей земли в руки широких масс крестьянства.
Соответственно, именно земельные владения помещиков стали камнем преткновения в аграрном вопросе весны 1917 г. на территории Краснослободского уезда. Здесь можно провести несколько наблюдений. Во-первых, местные крестьяне в первые месяцы после падения монархии в России еще не разочаровались в новых властях, стремясь решать вопросы на местах авторитетом новых уездных или губернских властей (уездных комиссаров Временного правительства или исполкомов Советов); отсюда и преимущественно составление наказов или приговоров в адрес уездного руководства. Во-вторых, крестьяне активно использовали навешивание политических ярлыков на притеснителей-помещиков: «реакционер», «кровопийца», «типичный член Союза русского народа» и т. д. В-третьих, крестьяне в данный период использовали как законные способы решения аграрного вопроса (например, через написание приговоров), так и незаконные – разгром помещичьих имений и выживание помещиков из сел в города.
Не менее важной проблемой рассматриваемого периода стала проблема обеспечения крестьянского скота. Если крестьянские наделы позволяли сеять рожь или пшеницу, то луга находились вне крестьянских обществ. Поэтому требования о передаче или хотя бы аренде пастбищ и лугов крестьянскими обществами звучали постоянно. Неудивительно, что в апреле 1917 г. на первом крестьянском съезде Пензенской губернии было принято решение о передаче этих угодий исполкомам на местах.
Итак, весной 1917 г. в Краснослободском уезде Пензенской губернии проявлялись общероссийские тенденции в решении аграрного вопроса. Крестьянство выступило в качестве активного участника данного процесса, пытаясь решить аграрный вопрос в своих интересах. Используя революционные достижения, прежде всего декларированное всеобщее равенство, крестьянство стремилось провести переделы земель, принадлежавших ранее частным владельцам, прежде всего помещикам и монастырям. Данная идея, в совокупности с требованиями Временного правительства об обязательном засевании всех обрабатываемых ранее земель, давала крестьянам мотив для требований предоставления им частных земель при обязательном оставлении частнику земли для самостоятельного использования.
Главной формой крестьянского участия в процессе решения аграрного вопроса стало написание приговоров сельских сходов, которые аргументировали крестьянские требования земельного передела. Адресатом приговоров становились органы новых властей, которые приглашались выступить арбитром в земельных спорах либо открыто признать правомочными требования крестьянских сходов.
К сожалению, новые власти занимали позицию стороннего наблюдателя, ограничиваясь лишь требованиями проведения проверок и предоставления им отчетов. Данная тенденция пускания дел на самотек в итоге привела к падению авторитета органов власти Временного правительства на местах, активизации в стране стихийного «черного передела» и, как следствие, приходу к власти большевиков и установлению советской власти в регионах.
Список литературы Начало решения аграрного вопроса «снизу» весной 1917 г. на примере Краснослободского уезда Пензенской губернии
- Гинев В. Н. Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в России в 1917г.: К истории банкротства неонародничества. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1977. 296 с.
- Гусев К. В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционаризма к контрреволюции: ист. очерк. М.: Мысль, 1975. 383 с.
- Дубровский С. М. Крестьянство в 1917 году. М.; Л.: Гос. изд-во (М.: Тип. «Красный пролетарий»), 1927. 148 с.
- История Мордовии: в 3 т. Т. 2. От эпохи великих реформ до великой российской революции / В. М. Арсентьев, Н. М. Арсентьев, С. Б. Бахмустов [и др.]; под ред. Н. М. Арсентьева, В. А. Юрченкова. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005. 412 с.
- Комин В. В. Банкротство буржуазных и мелкобуржуазных партий в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции. М.: Моск. рабочий, 1965. 644 с.
- Котляров С. Б. Столыпинская аграрная реформа в Симбирской губернии (1906-1917 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Саранск, 2005. 24 с.
- Кравчук Н. А. Массовое крестьянское движение в России накануне Октября. (Март-октябрь 1917 г.): (По материалам великорус. губерний Европ. России). М.: Мысль, 1971. 278 с.
- Осипова Т. В. Классовая борьба в деревне в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. М.: Наука, 1974. 352 с.
- Смирнов А. С. Крестьянские съезды Пензенской губернии в 1917 г. // История СССР. 1967. № 3. С. 17-31.
- Трапезников С. П. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос: в 2 т. М.: Мысль, 1967. Т. 1. Аграрный вопрос и ленинские аграрные программы в трех русских революциях. 566 с.; Т. 2. Исторический опыт КПСС в осуществлении ленинского кооперативного плана. 622 с.
- Шестаков А. В. Крестьянство в Октябрьской революции. Харьков: Пролетарий, 1925. 32 с.