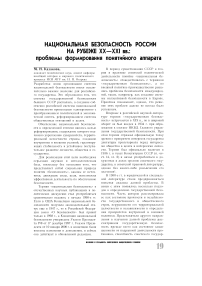Национальная безопасность России на рубеже XX-XXI вв.: проблемы формирования понятийного аппарата
Автор: Казакова М.Н.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Иллюзии и реальность общественного развития
Статья в выпуске: 1 (7), 2008 года.
Бесплатный доступ
Система национальной безопасности, Россия, ссср, национальный интерес, концепция национальной безопасности рф
Короткий адрес: https://sciup.org/14720453
IDR: 14720453
Текст статьи Национальная безопасность России на рубеже XX-XXI вв.: проблемы формирования понятийного аппарата
Обеспечение национальной безопасности в определенной степени явилось целью реформирования, содержание которого подчинено укреплению суверенитета, территориальной целостности страны, созданию внутренних и внешних условий, гарантирующих стабильность и устойчивое поступательное развитие личности, общества и государства.
Для реализации этой цели необходима серьезная научная и методологическая база, поскольку без осознания того, что представляет собой социальная природа понятия «безопасность», каковы ее источники, движущие силы, цели, невозможна эффективная деятельность по обеспечению безопасности.
Термин «национальная безопасность» в отечественных научных публикациях и политических дискуссиях стал употребляться сравнительно недавно, с начала 1990-х гг. Если в США Концепция национальной безопасности получила законодательный статус еще в 1947 г., то в Российской Федерации закон «О безопасности» был принят только в 1992 г., а Концепция национальной безопасности утверждена Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. Указом Президента от 10 января 2000 г. в концепцию были внесены изменения и дополнения, и сейчас она действует в обновленной редакции.
В период существования СССР в теории и практике советской политической деятельности понятие «национальная безопасность» отождествлялось с термином «государственная безопасность», а во внешней политике преимущественно решались проблемы безопасности международной, такие, например, как создание системы коллективной безопасности в Европе. Практика показывает, однако, что решение этих проблем далеко не всегда было успешным.
Впервые в российской научной литературе термин «государственная безопасность» встречается в XIX в., но в широкий оборот он был введен в 1934 г. при образовании в составе НКВД Главного управления государственной безопасности. При этом термин отражал официальную точку зрения о приоритете интересов государства диктатуры пролетариата перед интересами общества в целом и интересами личности. Термин был официально включен в 1936 г. в текст Конституции СССР (п. «и» ст. 14, гл. 2) и начал употребляться в документах и актах органов советского государства, в советской правовой литературе, однако без какого-либо разъяснения его значения1.
В 1950-е гг. в юридической и специальной литературе стали предприниматься попытки анализа данной проблемы. В связи с этим появилось несколько подходов к определению государственной безопасности. Часть авторов рассматривала ее как состояние прочности и незыблемости государственного и общественного строя, нерушимости его территориальной целостности и независимости в определении приоритетов внутренней и внешней политики. Представители другого направления в изучении данной проблемы рассматривали государственную безопасность прежде всего как состояние защищенности от подрывной деятельности противника, способность советского государ- ства противостоять враждебным силам и защищать интересы народа.
В целом эти подходы отражали политическую обстановку времен холодной войны и были результатом конфронтации по всем направлениям общественно-политической жизни.
Коренные изменения политической и экономической ситуации в стране и в мире в конце 1980-х гг., начавшиеся процессы общественно-политических трансформаций, происходящих в разных регионах мира, прекращение открытой конфронтации между Востоком и Западом обусловили необходимость существенного преобразования самой концепции безопасности. Прежде всего, с начала 1990-х гг. исследование проблем безопасности вышло за рамки закрытых учреждений бывшего СССР. Так, в апреле 1990 г. был организован Фонд национальной и международной безопасности, активно участвовавший в разработке теоретических и научно-практических проблем безопасности. В мае 1990 г. по инициативе группы Комитета ВС СССР по науке, народному образованию, культуре и воспитанию под руководством академика Ю. Рыжова была предпринята первая попытка разработать концепцию безопасности страны с учетом новой геополитической ситуации2.
Суть ее состояла в том, что национальная безопасность представляет собой органическое единство безопасности личности, общества и государства. Авторы проекта пришли к выводу, что общенациональная безопасность реализуется в двух измерениях — общественном и государственном — и подразделяется на внутреннюю и внешнюю в зависимости от источников угроз, опасностей и рисков для жизненно важных интересов. Первоосновой безопасности является безопасность личности, что предопределяет безопасность гражданского общества и легитимность государства.
Концептуальный подход к проблемам безопасности претерпел коренные изменения. В качестве его методологической основы фактически была принята теория национальной безопасности. Хотя произошло это не сразу. Само понятие «национальной безопасности» в многонациональной стране вызывало возражения и критику, а потому вначале принималось с оговоркой, что речь идет о «национально-государственной безопасности» или «общей безопасности страны». Тем не менее это понятие вошло в правительственные и законодательные документы и было принято официально. Именно сквозь призму теории национальной безопасности рассматриваются теперь основные стратегические вопросы развития и безопасности России.
В частности, такой подход получил законодательное оформление в законе «О безопасности» от 5 марта 1992 г., в котором безопасность определялась как: «^состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз»3. К основным объектам безопасности были отнесены: личность — ее права и свободы; общество — его материальные и духовные ценности; государство — его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.
Таким образом, наряду с военными и охранительными аспектами безопасности существенное значение приобрело рассмотрение содержания интересов, их роли в жизни общества. Это свидетельствовало о качественно новом подходе к изучению проблем национальной безопасности, о разработке новой системологии национальной безопасности с учетом социальных, экономических, политических аспектов.
Национальная безопасность представляет собой сложную многоуровневую систему, которая формируется в русле объективных процессов под воздействием множества факторов. Составными элементами этой системы выступают: 1) национальные интересы; 2) угрозы и другие факторы воздействия на интересы. Каждый из этих элементов представляет собой самостоятельную, саморазвивающуюся систему.
Национальный интерес практически невозможно определить с исчерпывающей точностью, однако без использования этого понятия невозможно отобразить сущность национальной безопасности любого государства.
Происхождение слова интерес — древнеримское. Оно зародилось в сугубо частной сфере, возникнув в разговорной речи.
Более осознанно понятие начинает употребляться с XVI в. На этапе «осени Средневековья» параллельно с развитием понятия «капитал» утверждается идея интереса как процента. Далее интерес употребляется в смысле «важно, существенно»4.
В XVI—XVIII вв., в эпоху возникновения наций в Европе, отождествление государственного расчета и государственного интереса стало важным моментом рационализации и объективизации интереса, детерминировавших затем логику развития этого понятия. Так, в Англии к 40-м гг. XVII в. получила распространение идея общественного интереса как совокупности интересов образующих гражданское общество индивидов, а также обобщенного блага гражданского общества. С общественным интересом связывалась прежде всего воля индивидов добиваться реализации собственных целей во внутриполитической жизни без ограничений со стороны правительства, руководствующегося государственной необходимостью и приоритетами внешней политики, что в теоретической форме отразилось в локковской модели разделения властей с выделением особой федеративной (внешнеполитической) власти5.
С укоренением современных политий (XVIII—XIX вв.) и с формированием устойчивых связей между государством и гражданским обществом вполне отчетливыми становятся параметры основных типов политических интересов и уровней их организации. Это прежде всего национальный интерес, который определяется относительно нации как таковой, т. е. политической системы в целом6.
Конкретное наполнение понятия «государственный интерес» менялось по мере развития общества, усложнения его экономической инфраструктуры. Безопасность страны, прочность ее государственного суверенитета по-прежнему напрямую зависели от мощи вооруженных сил, но сама она обусловливалась не только численностью армии и флота, но и качеством их оснащенности, а это было уже связано с уровнем развития промышленности.
Наибольшее внимание изучению феномена национального интереса уделялось на протяжении XX в., особенно во второй его половине. Безусловное лидерство в ис следованиях по данной проблематике принадлежит американским ученым. Окончательное формирование концепции национального интереса произошло накануне и в годы Второй мировой войны и в послевоенный период.
Сегодня в понятии «государственные интересы» выделяются, как правило, пять составляющих: стратегические, политические, экономические, правовые и идеологические интересы. Именно их переплетение и формирует государственный интерес. Естественно, что соотношение, удельный вес этих составляющих каждой страны в различные исторические эпохи был неодинаковым, но с того момента, когда началось становление государства современного типа, они всегда присутствовали в понятии «государственные интересы». Появление у ведущих стран четких, долговременных, осознанных правящими элитами государственных интересов внесло в международные отношения известную стабильность и предсказуемость.
В нашей стране, в отличие от США и Западной Европы, где «национальный интерес» давно входит в число базовых научных категорий понятие «национальных интересов страны» появилось с начала 1990-х гг., когда Российская Федерация утвердила себя как суверенное государство. В то время начались и активные научные дебаты о применимости термина «национальные интересы» в условиях нашего суверенного многонационального государства. Однако, как отмечает А. А. Прохожев, интересы наиболее целесообразно рассматривать в тесной связи с понятием «потребности». Соответственно, «интересы — это осознанные потребности, сознательно сформированные обществом, социальными группами, индивидами»7.
Интересы как потребности органически присущи всем людям, лишить человека интереса нельзя, без интереса невозможна никакая деятельность людей. В социальных интересах, — отмечает автор, — закрепляются общественные отношения индивидов, социальных групп, слоев общества8.
В целях более полного отражения интересов в качестве сложной развивающейся системы целесообразно провести их классификацию по различным критериям. В качестве подобных критериев могут выступать: продолжительность, характер направленности, характер взаимодействия, степень общности, степень социальной значимости, характер субъектов, сферы жизнедеятельности.
Так, по степени общности интересы могут быть классифицированы на: индивидуальные, групповые, корпоративные, общественные, национальные и общечеловеческие; по субъектам — личности, общества, региона, государства, коалиции государств, мирового сообщества; по степени социальной значимости — жизненно важные, важные, маловажные; по сферам жизнедеятельности — в экономической сфере, внутриполитической сфере, социальной сфере и т. д.; по продолжительности — постоянные, долгосрочные, кратковременные; по характеру направленности — экономические, политические, военные и т. д.; по характеру взаимодействия — совпадающие, параллельные, расходящиеся, конфронтационные (встречные)9.
На официальном уровне категория национального интереса нашла выражение в ряде законодательных актов. Так, в 1992 г. с принятием закона «О безопасности» акцент делался на понятие «жизненно важные интересы личности, общества, государства», сущность интересов также раскрылась через понимание потребностей. В 1996 г. термин «национальные интересы России» получил нормативное закрепление в Послании по национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, интерпретируясь как «основа формирования стратегических задач внутренней и внешней политики страны» а также «интегрированное выражение жизненно важных интересов личности, общества, государства»10.
В Концепции национальной безопасности Российской Федерации 1997 г. дается развернутая система национальных интересов России «в области экономики, во внутриполитической, международной, оборонной и информационной сферах, в социальной области, духовной жизни и культуре». В редакции 2000 г. она дополнена характеристикой национальных интересов в области пограничной политики11.
Таким образом, категория «национальные интересы» является основополагающим, методологически важным понятием государственной политики, обеспечивающим понимание важнейших ориентиров развития страны, путей приращения ее мощи, действий руководителей войск и органов политической системы во благо государства и общества. По объему она шире используемых в политической практике понятий «государственные интересы», «жизненно важные интересы». Национальные интересы — категория, ассоциируемая с масштабом нации-государства или страны в целом.
В процессе практической деятельности по реализации интересов объективно возникают противоречия между индивидами, слоями общества, классами, государствами в результате их взаимодействия в ходе общественного развития. Столкновение конфронтационных или встречных интересов объектов безопасности порождает угрозы.
По утверждению В. Л. Манилова, угроза представляет собой фактор обстановки, способный отрицательно воздействовать на национальные ценности и национальные интересы страны, жизненно важные интересы личности и общества.
Понимание природы угроз имеет, как правило, специфическую национальную окраску. Например, в российском политическом лексиконе сложилось представление об угрозе как возможной опасности (прежде всего военной) от внешнего и внутреннего врага. Угроза часто определяется как часть более широкого понятия «опасность». Различия между этими понятиями лучше всего видны в военной области. Военная опасность — это потенциальная возможность возникновения войны, вооруженного конфликта и т. п., а военная угроза — это реальная угроза военного нападения12.
Проблема разграничения понятий «угроза» и «опасность» также нашла отражение в работах М. Ф. Гацко. Он отмечает, что общим в содержании угрозы и опасности является их возможность причинить тот или иной ущерб безопасности. К различиям же автор относит следующие:
-
1) угрозу отличает от опасности степень готовности к причинению того или иного
ущерба. Угроза — это стадия крайнего обострения противоречий, непосредственно предконфликтное состояние, когда налицо готовность одного из субъектов политики применить силу в отношении конкретного объекта для достижения своих целей. Опасность же заключает в себе потенциальную угрозу причинения ущерба тем или иным интересам, для реализации и защиты которых необходимо создание соответствующих условий (накопление возможностей и формирование намерений);
-
2) угроза заключает в себе два компонента: намерения и возможность нанесения ущерба интересам безопасности, а опасность ограничивается наличием только одной их этих составляющих;
-
3) угроза всегда носит персонифицированный конкретно-адресный характер, что предполагает наличие явного субъекта (источника) угрозы и объекта, на которое направлено ее действие. В отличие от угрозы, опасность носит гипотетический, часто безадресный характер, ее субъект и объект явно не выражены13.
Таким образом, угроза безопасности есть готовность (намерения + возможности) одного из субъектов политики причинять ущерб жизненно важными интересам другого субъекта политики с целью разрешения сложившихся между ними противоречий и получения односторонних преимуществ.
Понятие угрозы неразрывно связано с пониманием ее источников. Согласно утверждению М. В. Арсентьева, источником угрозы является социальная общность, человек либо природное явление, имеющее потенциальную возможность негативного воздействия на конкретный объект или процесс. В этой связи классификация источников угроз может проводиться по различным основаниям, например: по виду социальной общности, от которой исходит угроза — коалиции государств, государства, спецслужбы государств и т. д.; по месту расположения источника угроз относительно социальной системы — внутренние, внешние; по географическому принципу — в привязке к конкретной стране, региону, зоне и т. п.; по мощности (опасности источника угрозы); по сферам воздействия — источники политического, экономического или социального взаимодействия; по комбинации оснований14.
А. А. Прохожев предлагает следующую классификацию угроз: по местонахождению источника опасности — внутренние и внешние; по степени сформированности угрозы — реальные и потенциальные; по характеру — природные, антропогенные, социальные, военные, политические и т. д.; по сферам человеческой деятельности — в экономической, социальной, политической, международной и других сферах; по степени субъективного восприятия — завышенные, заниженные, адекватные, неосознанные, мнимые15.
Источники угроз формируются как под прямым, так и под опосредованным воздействием множества факторов. Так, возникновение источников внутренних угроз связано с такими факторами, как: ошибки при принятии управленческих решений властными структурами, резкое имущественное расслоение общества, разложение нравственных устоев общества и т. п. Источники внешних угроз связаны в большей части с наличием противоречий геополитического характера (борьбой за обладание ресурсами и влиянием на территориях), а также с возникновением негативных тенденций в экономической сфере.
В Концепции национальной безопасности РФ отражается широкий спектр угроз национальной безопасности: в сфере экономики, социально-политической, международной, информационной, пограничной и других сферах. Анализ угроз национальной безопасности свидетельствует, что в настоящее время ряд угроз удалось минимизировать, главные из ныне существующих носят преимущественно внутренний характер, поэтому необходимо обратить внимание на решение проблем в социально-политической и экономической сферах.
В настоящее время, несмотря на достаточную теоретическую разработанность проблем национальной безопасности, возникают сложности в четком разграничении понятий национальная безопасность, национальные интересы, угрозы национальной безопасности и т. д. В связи с этим целесообразно предложить методологическую схему выработки концепции национальной безопасности, которая включает в себя несколько последовательных операций. На первом этапе определяются национальные ценности, на основе анализа восприятия населением тех или иных государственных проблем. Следующим шагом является определение национальных интересов в соответствии с национальными ценностями. Затем обозначаются реальные и потенциальные угрозы этим интересам, и в заключение формулируется политика предотвращения или нейтрализации «угроз», т. е. политика национальной безопасности.
Не следует забывать о том, что безопасность любого государства не может обеспечиваться за счет ущемления интересов других государств. В современных условиях национальная безопасность выступает как политическая категория, обозначающая способность, средства и формы обеспечения национальных интересов госу дарства как внутри страны, так и в системе международных отношений. Правомерно говорить и о наличии категории международная безопасность, которая фиксирует такое состояние международных отношений, при котором реализуются фундаментальные национальные интересы всех субъектов мировой политики.
Предпочтение той или иной формы международной безопасности для каждой конкретной страны зависит от ее национальных интересов. Поскольку интересы разных держав чаще всего неодинаковы, они могут оказаться источниками опасности, т. е. напряженности, конфликтов и войн на мировой арене. Именно поэтому формулирование концепции национальных интересов и определение угроз этим интересам должны предшествовать выработке политики национальной безопасности.
Список литературы Национальная безопасность России на рубеже XX-XXI вв.: проблемы формирования понятийного аппарата
- Вахрамеев А. В. К вопросу об обеспечении национальной безопасности Российской Федерации//Социально-гуманитарные знания. 2001. № 1.
- Закон Российской Федерации «О безопасности»//Рос. газ. 1992. 9 марта.
- Ильин М. В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М., 1997.
- Послание по национальной безопасности президента РФ Федеральному Собранию. М., 1996.
- Общая теория национальной безопасности/под общ. ред. А. А. Прохожева. М., 2005.
- Концепция национальной безопасности Российской Федерации//Рос. газ. 2000. 18 янв.
- Манилов В. Л. Безопасность в эпоху партнерства. М., 1999.
- Гацко М. Ф. Сущность понятий «угроза» и «опасность» и их соотношение в военно-политической сфере//Национальная безопасность и геополитика России. 2001. № 4-5.
- Арсентьев М. В. Основы теории национальной безопасности России. Научный обзор//Национальная безопасность и геополитика России. 2001. № 11-12.