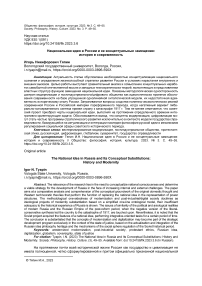Национальная идея в России и ее концептуальные замещения: история и современность
Автор: Тяпин Игорь Никифорович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
Актуальность статьи обусловлена необходимостью концептуализации национального сознания и определения жизнеспособной стратегии развития России в условиях нарастания внутренних и внешних вызовов. Целью работы выступает сравнительный анализ и осмысление концептуальных наработок самобытной отечественной мысли и западных технократических теорий, выполняющих в представлении властных структур функцию замещения национальной идеи. Показаны методологическая односторонность доктрин модернизации и постиндустриального/цифрового общества как идеологических проектов обоснования современности на базе упрощенной однолинейной онтологической модели, их недостаточная адекватность историческому опыту России. Затрагиваются вопросы сходства политико-аксиологических реалий современной России и Российской империи пореформенного периода, когда негативный вариант либерально-консервативного синтеза привел страну к катастрофе 1917 г. Тем не менее отмечается, что советский проект приобрел черты национальной идеи, выполняя на протяжении определенного времени инте-гративно-ориентирующие задачи. Обосновывается вывод, что концепты модернизации, цифровизации могут стать частью программы стратегического развития исключительно в контексте модели государства справедливости, базирующейся на актуализации и интеграции наследия философии русской идеи и механизмов регулирования социальной сферы советского исторического периода.
Вестернизированная модернизация, постиндустриальное общество, протестантская этика, русская идея, цифровизация, глобализм, суверенитет, государство справедливости
Короткий адрес: https://sciup.org/149142229
IDR: 149142229 | УДК: 930:1(091) | DOI: 10.24158/fik.2023.3.6
Текст научной статьи Национальная идея в России и ее концептуальные замещения: история и современность
Вологодский государственный университет, Вологда, Россия, ,
,
идеи (частичное исключение – советский период, с противоречивой по происхождению, содержанию и направленности программой строительства коммунизма), что неоднократно приводило страну к глобальным потрясениям, радикальным поворотам и, соответственно, неустойчивости, дезориентированности, слабости в информационном противостоянии, расколу власти и общества. Ситуация постоянного нарастания вызовов, переживаемая постсоветской Россией, обусловлена отсутствием стратегии развития всех сфер социального бытия.
Практика усиленной борьбы с социальной и духовной традицией во имя преодоления материально-технического отставания в большинстве случаев ведет к отторжению ценных, а не негативных результатов исторического опыта. Если ранее российской цивилизации удавалось приспособиться к радикальным изменениям благодаря их частичному соответствию объективным интересам общества и его ментальности, то в эпоху глобализации реальностью стали перманентная стагнация и разрушение механизма решения социальных проблем. Стабильное тяготение управленческих структур к праволиберальному мировоззрению и, следовательно, минимизации функций государства по обеспечению трудовых, образовательных, медицинских и других прав граждан сочетается с декларируемой приверженностью доктрине социального государства, что закреплено в Конституции РФ. Иными словами, можно говорить о тактике неопределенности при стратегии нежелания, когда, не отрицая необходимости обеспечения условий для достойной жизни и развития человека, параметры «достойности» отождествляются с прожиточным минимумом.
Все попытки сформулировать российскую национальную идею сверху за последние четверть века не увенчались успехом, сведясь к созданию продукта, адресованного непривилегированному большинству, но не самой власти, при этом предназначенного обеспечить функционирование последней в удобных для нее рамках (Большаков, 2007). В целом эти «проекты» (оказавшиеся на практике чисто декларативными) представляют собой концепт социально-территориальной идентичности, где основной ценностью оказывается лояльность государству (Орлов, 2010).
Однако необходимость конкретного – экономического, духовного и т. д. – наполнения декларативных постулатов привела к активному заимствованию западных социально-философских доктрин, ставших не только для власти, но и для части научно-философского сообщества парадигмаль-ным заменителем марксизма, с функцией замещения национальной идеи и/или стратегии развития.
В первом десятилетии XXI в. основную роль в концептуальном замещении национальной идеи в России играла доктрина модернизации (Т. Парсонс, С. Хантингтон, З. Бауман и др.), изначально, в середине прошлого столетия, предполагавшая «процесс перехода от традиционного общества, которое отождествляется с социальными отношениями патриархально-феодального типа, к современному обществу индустриального капиталистического типа»1. Программа урбанизации, организации крупного производства, образования централизованных государств с соответствующими партийно-политическими институтами, развитие науки и секуляризованного образования, коммуникаций и социальной мобильности предназначалась в первую очередь постколониальным странам Азии и Африки. При этом на практике усилия по внедрению индустриальных институтов не избавили бывшие колонии от социальных бедствий и в целом низкого качества жизни, что объясняется не столько укорененностью традиции, сколько главной целью субъектов модернизации – сохранения в завуалированном виде колониального контроля.
Для России, прошедшей значительный путь социально-технологического развития, такие задачи тем более вряд ли являлись актуальными. Большевики, пытаясь построить в России общество лучше, чем на Западе, воспроизвели многие черты западного модерна. Как утверждает Н.П. Распопов, «новая власть попыталась найти синтез, обеспечить “морально-политическое единство народа”, соединить традиционную уравнительность с модернизацией… Это движение… пыталось парадоксальным образом формировать идеальное общество на основе соединения народной Правды с наукой, опирающейся на западную технику» (1999). Советское общество 1970–1980-х гг. по ряду параметров успешно конкурировало с капиталистическим миром первого и второго «эшелонов». При этом, как полагают О.Э. Николаев и Н.В. Николаева, на пролетарской почве происходило своеобразное развитие идеи национального единства, которое на несколько десятилетий обеспечило советскому обществу «культурный иммунитет» от разного рода сепаратистских тенденций (2021: 140).
Как отмечает Л.Г. Коваленко, модернизация может определять не только развитие и улучшение каких-либо отношений, институтов, уровня жизни и т. д., но и их упадок, что в этом случае рассматриваться как проявление несправедливости (2011: 247). В постсоветской России тезис о модернизации на практике сопровождался коммерциализацией образования и медицины, снижением их качества и доступности, ликвидацией значительной части научных учреждений и наукоемких отраслей экономики, т. е. всем тем, что в терминологии самой этой концепции следует характеризовать как неоархаизацию.
Концепт модернизации призван был совершить «культурную перекодировку», переворот в сознании, подобно лютеровско-кальвинистской Реформации, заложившей основы протестантской этики. Более того, именно примитивно-секуляризованный вариант протестантской этики и стал ценностным ядром новой России, сформировав массовое стремление изменить условия своего существования в соответствии с западными стандартами общества потребления (но без определения путей общего повышения уровня жизни). Одновременно фрагментарно использовались отдельные лозунги и идеи, выдвигаемые антизападными течениями левого (восстановление международного престижа России как великой державы, сохранение культурного своеобразия и т. п.) и правого (идеализация представителей династии Романовых, военной и бюрократической системы монархической эпохи) толка. Таким образом, специфика идеологии модернизации для постсоветской России, по мнению С.В. Ткаченко, заключается в затушевывании понимания объективных политико-правовых процессов у населения с помощью внедрения политико-правовых мифов, поддерживающих установленный порядок: об абсолютно негативном характере советского опыта, благотворности западного цивилизационного (особенно технического) влияния, самоценности неограниченного обогащения, презрении (восходящем к идеологии расизма) к находящимся ниже по социальной лестнице (2014). Это притом, что в системе социальных ценностей и ожиданий современного российского общества справедливость все больше выступает на лидирующие позиции.
Проблема недостаточной адекватности концепции модернизации для современной России не была решена политтехнологами и воспринявшими ее учеными-гуманитариями даже путем переплетения с постиндустриалистскими концепциями (под которыми имеется в виду обладающий общей теоретической базой комплекс сменяющих друг друга учений о «современном индустриальном обществе», «информационном обществе», «обществе знаний», «сетевом обществе» и, наконец, «цифровом обществе»), также нацеленными на отрицание национальной самобытности, многообразия путей исторического развития. Более того, данный концептуальный синтез, по сути, обосновывает тоталитарную экономоцентричную модель, ориентирующую нашу страну не на собственный потенциал, а на интеграцию в периферию западного мира. Такой результат концептуального синтеза модернизации и постиндустриализма закономерно обусловлен тем, что последний также является способом самоидентификации западной цивилизации в современном мире, консервации мировой системы разделения труда и геополитического расклада.
Понимание противоречивости и лишь относительной объективности постиндустриализма, в частности его последней – «цифровой» – модификации, нашло отражение в отечественной научно-публицистической мысли (А.О. Русин1, В.Ю. Катасонов2, Н.И. Касперская3). Скептики указывают на некорректность самого понятия «цифровая экономика» в значении особого типа производства, на то, что в случае с данной темой наблюдается подмена целого (целостной экономики) частью, системы – ее структурным компонентом (сектор электронной коммерции, не существующий без реального сектора), на ее прямую связь с идеями разрушения государственного суверенитета и неоколониализма, наконец, на то, что проект цифровой экономики предполагает не столько экономические мероприятия, сколько полицейские (такие как объединение баз данных учета населения и движения денег, биометрическая паспортизация).
Любая программа эволюции национально-государственной системы не может ограничиться технико-экономическими проблемами, при выходе за которые она сталкивается с нерешенными идеологическими вопросами, имеющими огромное практическое значение. Если строительство инновационной (цифровой и т. п.) экономики должно стать непрерывным процессом, то что будет выступать его целью? Вместо ответа на этот вопрос дискурс модернизации и инновации на протяжении минимум двух десятков лет рассматривает непрерывные изменения в качестве некой самоцели. Здесь стоит вспомнить тезис А.С. Панарина: «Цивилизационный процесс имеет два взаимосвязанных аспекта: инструментально-прагматический, инфраструктурный, призванный обеспечить единое экономическое, информационное, правовое пространство, и духовно-ценностный, призванный сообщить этому пространству высший сакральный (ценностный) смысл» (1999: 239).
Содержание действующих документов, имеющих формальный статус стратегических программ, детерминировано устойчивым игнорированием адептами вестернизированной модернизации необходимости социального творчества и коллективного суверенитета, т. е. самостоятельной выработки материальных и духовных ценностей, а также синтеза позитивных традиций и новаций. В свою очередь, реализация данных условий возможна только при наличии полноценной национальной идеи, разделяемой большинством граждан.
Подлинная национальная идея (наличие которой в условиях бесперспективности модели глобализации для значительной части человечества выступает показателем «состояния здоровья» национально-государственного организма) представляет собой не просто результат синтеза науки, идеологии и философии. Она онтологична, т. е. укоренена в историческом бытии народа, является закономерным результатом развития общественного сознания, индикатором духовной зрелости.
Тема справедливости власти проходит в статусе важнейшей проблемы через всю историю русской мысли, начиная со Средних веков (Иларион, Д. Заточник, Вл. Мономах, Ю. Крижанич, Ф. Карпов и др.). После ученического Просвещения отечественная философия восстановила идейную связь с концептуальным наследием допетровской Руси, переплела православный и западный духовный опыт и сформулировала русскую идею, тем самым переведя из области отвлеченной логики в область человеческой истории доктрины естественного права, правового государства.
Значительное многообразие трактовок русской идеи (которую концепция модернизации объективно заменить не способна), включающей в качестве исходного момента положение о наличии у России всемирно-исторической миссии по нравственному преображению человечества, созданию справедливого общества всеобщего братства, в классической русской философии XIX – начала ХХ в. можно классифицировать в рамках трех подходов.
Первый именуется славянофильско-почвенническим (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, Ф.М. Достоевский и др.) и предполагает, что Россия, хранящая в народной психологии и книжном наследии христианские идеалы и имевшая в допетровский период опыт гармоничных отношений личности, общества и государства, должна вернуть человечеству утраченные социально-этические принципы. Идеал славянофилов не учитывал реалии политики Запада и факты российской истории.
Второй подход можно назвать глобалистским. Его олицетворяли так называемые реформаторы православия (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, С.Н. Булгаков и др.), опирающиеся в области онтологических понятий на наследие гностической мистики. Миссия России в таком понимании должна была состоять в жертвенном растворении в «преображенном» человечестве с единой экуменической религией и всемирным государством. Несмотря на утопичность такого проекта, сам подход, когда, прикрываясь привлекательными понятиями свободы, истины, добра, красоты, предлагается полностью разрушить существующее, крепко внедрился в сознание российской интеллигенции.
Третье (хотя исторически – первое, определившее саму тематику дискуссий) направление в трактовке русской идеи было представлено охранительным консерватизмом (С.С. Уваров, М.П. Погодин, позднее К.П. Победоносцев, К.Н. Леонтьев и др.). Охранители первыми констатировали неразрешимый характер противоречия Запада и России на уровне цивилизационных принципов. Они предостерегали против широкого использования европейских институциональных структур и идеологических доктрин как сокращающих срок исторической жизни России, однако не поняли необходимости для эффективного противостояния западной экспансии экономической и технической модернизации, проведения социальных реформ.
Значение материального прогресса в «правом лагере» русской философии было осознано уже в эмиграции, а именно евразийством (Н.Н. Алексеев, П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой и др.), фактически впитавшим многие принципы охранителей. Евразийский проект, учитывавший, что основным стимулом развития нашей страны исторически выступала внешняя угроза, предполагал принципиальный отказ от копирования во всех сферах культуры, сочетание духовной традиции и автаркии с технико-экономическим динамизмом, развитие литературы и искусства с укреплением солидарности и обороноспособности.
Так или иначе, центральной проблемой всей отечественной социально-философской и политической мысли (как либеральной и консервативной, так и социалистической) стало то, как утвердить в пространстве российского социума личностное начало, одновременно сохраняя и развивая начала национальное и государственное. Большая часть либералов, консерваторов и социалистов, представители всех направлений философии русской идеи видели миссию России в воплощении цивилизационной модели нравственной гармонии личности и политических институтов, когда государственная стратегия направлена на реальное улучшение не только материальных условий человеческого существования, но и духовных. Едины русские мыслители были и в понимании того, что правильное (справедливое) государство – это государство сильное, в котором юридические нормы вытекают из моральных аксиом, а фундаментом выступает твердый нравственный стержень такой личности, для которой приоритет соборного целого стоит на первом месте.
В дореволюционный период наработки философии русской идеи не были по-настоящему осмыслены и «отфильтрованы» властью, приняты в качестве основы государственной стратегии. Пресловутая «уваровская триада» не являлась сама по себе полноценной национальной идеей, да и не могла ею стать без концептуальных вливаний (в ней совершенно отсутствовали экономи- ческие и геополитические аспекты), поскольку изначально выступала в качестве ориентира гуманитарного сегмента системы образования. На протяжении почти столетия после появления формулы «самодержавие, православие, народность» государство не обращало должного внимания на плоды национального философского творчества и само не предлагало обществу ни одной новой идеологемы. Русская идея как комплекс философско-исторических и футурологических построений не превратилась в развернутую национально-государственную идеологию (например, социально ориентированной народной монархии, хотя «креативные консерваторы» – М.О. Меньшиков, Л.А. Тихомиров, П.Н. Ардашев и др. – прямо призывали власть к этому), без которой крупная, полиэтническая страна далее существовать и развиваться не могла. Это объяснялось в целом западническим характером высшей власти, которая апеллировала к русской идентичности, традиционным ценностям лишь тогда, когда имели место вызовы, угрожающие самому государству. «Патриотическое западничество» значительной части элиты – закономерный результат балансирования между ценностями и нормами Европы и объективно альтернативным цивилизационным бытием России. Разница между отдельными монархами и министрами состояла (кроме склонности к более либеральному или охранительному консерватизму) в предпочтении того или иного образца «культурного донора»: Великобритании, Франции, Пруссии или Австро-Венгрии.
Вследствие ухода от проблемы выработки национальной идеи и превращения подданных в нацию в пореформенной Российской империи Александра II и его преемников укрепилась модель социально-государственного порядка, при которой дозволенность, юридическая или фактическая, свободы совести (при декларативной религиозности) соединялись с требованием внешней лояльности существующей власти. Колебания властной политики то в охранительную сторону, то в либеральную не изменяли сути данной – стратегически нежизнеспособной – модели (в общих чертах воссозданной в современной России). Консерваторы искренне полагали, что спасти Россию от революции возможно посредством препятствий в распространении научных и философских знаний в народе, не отдавая себе отчет, что такая страна обречена на технологическое отставание, военные поражения, идейное банкротство. Либералы пытались реализовать программу западного конституционализма, в целом деструктивной для страны предпринимательской свободы, игнорируя подлинные механизмы функционирования стран – лидеров Западного мира (экономические монополии, непубличные элитарные организации).
На практике в России конца XIX – начала ХХ в. возник негативный вариант гибридного государства, либерально-охранительного синтеза, когда инертный бюрократический абсолютизм, лишившийся реальной поддержки основных социальных слоев, санкционировал формирование системы сырьевого периферийного капитализма. История империи последних двух десятилетий ее существования – цепь ошибок и поражений во внутренней и внешней политике, попустительство антисистемным тенденциям: союз с державами «цивилизации Моря», начавшими колониальное освоение России через свои финансово-промышленные и дипломатические структуры, консервация сословных привилегий вместо нациестроительства, борьба с общиной вместо ее совершенствования и трансформации, привилегированное положение ряда окраин в ущерб интересам государствообразующего народа.
Значительно углубилось в рассматриваемый период духовное противостояние, возникшее еще в XVIII столетии, между традиционным православным миропониманием и рационалистическо-космополитическим мировоззрением, которое разрывало российское общество, селило непонимание между различными социальными группами. Элита и средние слои, оказавшись носителями не национальной идеи, а микста из либеральных, марксистских, анархических и иных постулатов, на протяжении десятилетий духовно (идейно и нравственно) разлагались, превращаясь в массу, готовую равнодушно или даже с энтузиазмом воспринять будущий крах цивилизационной системы, который и случился в 1917 г. События Февраля – плод национального предательства политической, промышленной и военной элит; события Октября – следствие инертности и дезориентированности общества.
Таким образом, идеологические проекты обоснования современности не могут базироваться на ее упрощенной однолинейной модели, требуя учета специфики национальной традиции. Как отмечает М.И. Козлов, несмотря на противоположность исходных мировоззренческих принципов либералов, консерваторов, социалистов, существует сходство их позиций в решении проблемы социальной справедливости, которое особенно ярко проявляется в переломные моменты развития российского общества (2010: 184–185). Наследие философии русской идеи корректно интерпретировать как коллективный проект реализации государства справедливости на позициях религиозной и светской духовности.
В качестве ключевого концепта идеологии, вытекающей из национальной идеи, социальная справедливость дает представление как минимум о генеральном направлении общественного развития, как максимум – о высшей цели исторического движения. Кроме того, она выпол- няет еще множество, несомненно, конструктивных функций, таких как сближение идейных позиций разных политических течений, определение критериев объективной оценки направления, темпов и уровня социальной динамики, формирование высоких моральных ориентиров развития отдельного человека и общества (Вознесенский, 2008: 10–11).
В свою очередь, можно выделить перечень конкретных оснований, направлений и механизмов реализации справедливости: стремление к достижению строя «идеократической демо-тии», ориентация на стратегию национального антиглобализма, единство научно-технического и этического прогресса, цивилизационно-историческая контекстуализация экономической деятельности (т. е. экономический суверенитет на основе производственной самодостаточности), культурная оригинальность на базе традиции.
Непосредственный инструментарий реализации социальной справедливости может быть многообразен, включая в себя в том числе ограниченное возрожденное практики советского государственного патернализма: восстановление доступности качественных образования и медицины, регулирование занятости посредством создания рабочих мест в рамках реального производства, отказ от дискриминирующих диспропорций в пенсионной сфере, воссоздание общественных фондов потребления.
Таким образом, России настоятельно необходима развернуто-систематизированная национальная идея как форма концептуализации национального самосознания, которая не может быть прямой или косвенной экстраполяцией чужеродных доктрин. Мотивационным стимулом, цементирующим общество, выступают вопросы реальных интересов большинства и его социальной, духовной, экономической и военно-технической безопасности. Открытый кризис вестернизированной парадигмы, вызванный внутренними (негативными институциональными последствиями либеральных реформ) и внешними (фронтальным характером конфронтации с Западом) вызовами, делает невозможным использование модернизационно-постиндустриалистских концепций в качестве стержня национальной идеи даже в краткосрочной перспективе, тем более с учетом их теоретических недостатков. Поэтому концепты модернизации, цифровизации и им подобные могут стать частью внятной и непротиворечивой программы стратегического развития исключительно в контексте модели государства справедливости, основанной на актуализации и интеграции наследия философии русской идеи и механизмов регулирования социальной сферы советского периода.
Список литературы Национальная идея в России и ее концептуальные замещения: история и современность
- Большаков С.Н. Дискурс национальной идентичности в условиях глобализации // Национальная идентичность России и демографический кризис: материалы всероссийской научной конференции / ред.: С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян, М.В. Вилисов. М., 2007. С. 544-546.
- Вознесенский Л.А. Социальная справедливость как национальная идея // Свободная мысль. 2008. № 4. С. 5-18.
- Коваленко Л.Г. Политическая модернизация в контексте социальной справедливости // Известия Алтайского государственного университета. 2011. № 4-1 (72). С. 246-249.
- Козлов М.И. Социальная справедливость в контексте русской традиции. Архангельск, 2010. 201 с.
- Николаев О.Э., Николаева Н.В. Формирование национальной идеи в современной России: философско-исторический аспект // Криминологический журнал. 2021. № 2. С. 139-142.
- Орлов И.Б. Национальная идея России как механизм духовной мобилизации и цивилизационной идентичности // Мир и политика. 2010. № 7 (46). С. 79-85.
- Панарин А.С. Россия в циклах мировой истории. М., 1999. 281 с.
- Распопов Н.П. Идеология российской модернизации // Гражданское общество: первые шаги / под ред. А.Ю. Сунгурова. СПб., 1999.
- Ткаченко С.В. Идеология модернизации постсоветской России // Вопросы безопасности. 2014. № 3. С. 1-92.