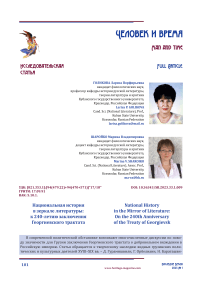Национальная история в зеркале литературы: к 240-летию заключения Георгиевского трактата
Автор: Голикова Лариса Порфирьевна, Шаройко Марина Владимировна
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Человек и время
Статья в выпуске: 1 (33), 2023 года.
Бесплатный доступ
В современной политической обстановке возникают многочисленные дискуссии по поводу значимости для Грузии заключения Георгиевского трактата о добровольном вхождении в Российскую империю. Статья обращается к творческому наследию видных грузинских политических и культурных деятелей XVIII-XIX вв. - Д. Гурамишвили, Г. Орбелиани, Н. Бараташвили, И. Чавчавадзе - современников происходящего, отразивших в литературных текстах свою позицию по этому вопросу. Рассмотрены особенности исторического развития Грузии в конце XVIII-XIX вв., проанализированы знаковые произведения и факты из жизни поэтов, свидетельствующие об их образовании и социальном положении, о возможности наблюдать историю своей родины и участвовать в ней. Исследование взаимоотношений двух государств через призму грузинского литературного наследия выявило положительную оценку современниками покровительства России, принесшего мир на разоряемые соседними государствами земли, экономические и культурные блага для Грузии.
Литературное наследие грузии, георгиевский трактат, русско-грузинские контакты, д. гурамишвили, г. орбелиани, н. бараташвили, и. чавчавадзе
Короткий адрес: https://sciup.org/170199687
IDR: 170199687 | DOI: 10.36343/SB.2023.33.1.009
Текст научной статьи Национальная история в зеркале литературы: к 240-летию заключения Георгиевского трактата
Литература, безусловно, способна объединить, воссоздать историческую память, сохранить культурное наследие, но межнациональные политические противоречия выявляют, порой, разнонаправленность интересов, концепций дальнейшего развития, социальных и культурных векторов. Для плодотворного существования у любой нации должно в приоритете быть желание единения, согласия как главной составляющей межнациональных отношений. Звучат предостережением слова К. Султанова в книге «Национальное самосознание и ценностные ориентации литературы»: «О нашем умении и таланте не извлекать уроков из истории давно и хорошо известно. Время как будто не властно над странной и устойчивой потребностью повторять ошибки, попадать в плен одних и тех же стереотипов» [24. с. 10].
Существуют исторические даты, способные предостеречь от заблуждений и забвения прошлого, приводящих к трагическим событиям. Примеров в истории достаточно. В 2023 г. исполняется 240 лет со дня заключения судьбоносного для существования Грузинского царства Георгиевского трактата о добровольном вхождении в Российскую империю. Еще в разгар русско-турецкой войны в 1771 г. и потом в декабре 1782 г. мудрый царь Ираклий II обращался к «Всепресветлейшей державней-шей великой государыне императрице Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской, государыне всемилостивейшей» 1 с просьбой о покровительстве [20, л. 36].
24 июля 1783 г. в крепости Георгиевской был подписан Договор о признании царем Карталинским и Кахетинским Ираклием II покровительства верховной власти Российской империи. В основе договора — трактат, по которому Россия принимала национально раздробленное Восточно-Грузинское царство под свою защиту, содействуя объединению грузинских земель при сохранении внутренней политики.
Пункты трактата документально подтверждали самостоятельность и независимость Грузинского царства: «Власть, со внутренним управлением сопряженную, суд и расправу и сбор податей предоставить его светлости царю [Ираклию II — Авт. ] в полную его волю и пользу, запрещая своему военному и гражданскому начальству вступаться в какие-либо распоряжения» [7, с. 242]. Выражаясь современным языком, Грузинское царство оставалось автономным, за исключением внешней политики. Подписание этого документа стало болезненным ударом и по Турции, и по Ирану, которые соперничали за обладание Закавказьем .
Договор, вошедший в историю как Георгиевский трактат, народами ВосточноГрузинского царства был встречен с воодушевлением, повсеместно проходили посвященные этому событию торжественные мероприятия, празднования. Из письма от 13 октября 1783 г. Г. А. Потемкина Екатерине II об отношении в Грузии к заключению Георгиевского трактата: «…Заключение… трактата… принесло несказанную радость и удовольствие царю Ираклию, что знатные земли сей ласкают себя при сем случае видами частными; народ же благословляет десницу вашего императорска-го величества, утверждающую общее их спо-койство и благоденствие» [23, л. 33].
В современной политической ситуации на разных уровнях мироустройства становится нормой искажение фактов и событий, приводящее к фальсификации истории взаимоотношений разных народов, связанных территориальной и культурной общностью, для результативных манипуляций сознанием людей с целью создания новых политических влияний и коалиций. В частности, такая проблема особенно остро выявилась и в трактовке русско-грузинских историко-культурных связей.
Обострение отношений между странами, негативное восприятие России мировым сообществом вызвало многочисленные дискуссии, отражающие полярные мнения историков, культурологов, политологов. Предметом национальной рефлексии закономерно становится история страны и ее взаимоотношения с другими государствами. На современном этапе такая рефлексия приводит к переоценке и прямой фальсификации исторических фактов и событий.
Осмыслению взаимоотношений России и Грузии на историческом поле посвящены многочисленные работы ученых [8] [14] [19]. Представленная статья не ставит своей целью рассмотрение такого рода исследований и формирование собственной позиции по этому острому вопросу, но обращается к достаточно объективным мнениям известных грузинских политических, военных и культурных деятелей XVIII — начала XIX вв., очевидцев происходящих событий, непосредственно наблюдавших последствия принятия Грузией Российского подданства, их влияния на жизнь родины. Глубокое поэтическое наследие Д. Гу-рамишвили, Г. Орбелиани, Н. Бараташвили, И. Чавчавадзе отражает их размышления и переживания о горячо любимой Грузии.
История долгих и непростых отношений русского и грузинского народов, предпосылки, процессы и итоги вступления Грузии в состав России исследуются во многих научных работах. В 2019 г. был переиздан популярный историко-юридический очерк выдающегося грузинского правоведа, историка, дипломата и политического деятеля князя З.Д.Ава-лишвили «Присоединение Грузии к России», вышедший в свет в первый раз в 1901 г. [2]. Написаны многочисленные научные и публицистические статьи, отражающие разный подход к оценке исторических событий, в том числе касающиеся заключения и значения Георгиевского трактата [6] [9] [22] и мн. др.
История становления грузинской культуры на фоне политической и социальноэкономической жизни прослежена в работе Л. И. Мгалоблишвили [18]. Грузинско-русские литературные контакты в исторической динамике были рассмотрены в исследовании Л. П. Голиковой [4].
Монографические исследования на русском языке жизненного и творческого пути отдельных грузинских авторов практически все относятся к советскому периоду. В современном литературоведческом поле редко затрагивается проблематика обобщающего плана, как в статье М. Кебадзе об Илье Чавчавадзе [10] и А. Абуашвили о Давиде Гурамишвили [1]. В основном представлены детальные исследования, анализирующие отдельные аспекты биографии и творческой практики авторов [11] [12] [13] и др.
Таким образом, можно отметить, что отражение истории взаимоотношений Грузии и России в грузинском литературном национальном наследии ХIХ в. не были предметом отдельного изучения.
Цель исследования — определить позиции знаковых грузинских политических и культурных деятелей XVIII-XIX вв. в вопросе оценки причин заключения Георгиевского трактата и его итогов через их литературное наследие. Для этого необходимо охарактеризовать основные исторические события, касающиеся взаимоотношений рассматриваемых государств; обратиться к отдельным аспектам биографии, оказавшим влияние на творческое наследие грузинских поэтов; рассмотреть в качестве основных источников знаковые литературные сочинения, отражающие мнения современников, их рефлексию по поводу происходящих в Грузии политических, экономических, социальных и культурных изменений после заключения Георгиевского трактата.
Методологической основой исследования стал культурно-исторический метод, способствующий восприятию, анализу и оценке литературных произведений с точки зрения их соответствия фактам и событиям, происходившим в XVIII-XIX вв. в Грузии. Для определения связей между литературными текстами и реалиями жизни грузинских поэтов использовался биографический метод. Художественный текст анализировался при помощи средств корпуса литературоведческих методов.
Результаты исследования помогут определить влияние России на Грузию на протяжении столетия после подписания Георгиевского трактата, восстановить исторически верную картину с точки зрения просвещенных очевидцев и взглянуть на современные политические взаимоотношения двух государств непредвзято.
На грузинской территории до присоединения к России «с различной степенью обособленности существовали царства и княжества — картлийцев, мегрелов, имеретин, ка-хетин, гурийцев, сванов и т.д., которые периодически объединялись и разделялись, в том числе под натиском сельджуков, монголов, турков и персов. При этом значительная часть их еще с трудом изъяснялась друг с другом. Ибо не стала пока “картули эна” языком общенациональным» [17, с. 3].
Ориентация на Россию началась в Грузии задолго до заключения Георгиевского трактата. Исторические источники свидетельствуют о том, что грузинские цари и князья регулярно обращались к соседней державе как к крупному и сильному православному государству с просьбами о принятии в подданство. В частности, уже в XV в., в 1483 г., кахетинский царь Александр I отправил русскому правителю Ивану III грамоту с просьбой установить мир в Грузии. В XVI в. к московскому царю Федору Иоанновичу с аналогичной просьбой обращался царь Кахетии Александр II, а царь Имеретии Леван II просил Иоанна Грозного о защите от турок.
В XVII в. русская ориентация в грузинских княжествах усиливается. С просьбой о военном союзе обращались мегрельский владетель Леван Дадиани в 1638 г. к царю Ми хаилу Федоровичу, имеретинский царь Александр III в 1653 г. к царю Алексею Михайловичу, в 1658 г.— кахетинский царь Теймураз I. У Российской державы не всегда была возможность поддержать разрозненные грузинские княжества в создании военных союзов из-за многочисленных собственных внешнеполитических проблем, но убежища грузинским царям предоставлялись.
Царь Имеретии и Кахетии Арчил Багра-тиони (1647-1713), спасая грузинские земли, обратился за помощью в военном союзе к Петру I. Помощь была обещана, но отложена на время решения российских вопросов. Взамен русский император предложил грузинскому царю земли неподалеку от Москвы. Арчил прибыл со свитой в 1000 человек и положил начало первой московской грузинской колонии, впоследствии — центру русско-грузинских культурных взаимосвязей. Сам А. Багратиони как поэт и переводчик религиозных текстов, исторических сочинений, как организатор типографии для издания грузинских книг много сделал в укреплении этих взаимосвязей. На родину он уже не вернулся, и был похоронен в граде Донского монастыря.
Царь Картли Вахтанг VI (1675-1737) — просветитель, поэт, ученый, переводчик, основатель первой в Грузии типографии, где в его редакции была напечатана поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» на грузинском языке,— в области внешней политики продолжал линию предшественников, ориентацию на Россию. Он правил страной «в качестве персидского шаха с перерывами почти четверть века, за разные “провинности” перед шахом неоднократно был вынужден покидать родину, переселяясь то в Турцию, то в Иран, то, наконец, (навсегда) — в Россию» [1, с. 111]. В 1723 г. шах передал Картли царю Константину II, принявшему мусульманство.
После неудачных попыток дипломата Вахтанга VI Сулхан-Саба Орбелиани заключить военный союз с европейскими государственными деятелями по приглашению Петра I Вахтанг VI со свитой в 3000 человек переселяется на московские земли и создает вторую московско-грузинскую колонию.
После смерти Вахтанга VI многие из его окружения приняли русское подданство и остались навсегда в России. В их числе был и Давид Гурамишвили (1705-1792). Удивительна судьба будущего поэта и воина. Родился он в княжеской семье в селе Горисубани, близ древней грузинской столицы Мцхета. В 1727 г. на село напали лезгины, и он был угнан в плен в Дагестан. После нескольких неудачных попыток Давиду Гурамишвили все-таки удалось бежать. Через 12 дней скитаний в горах он оказался в русском селении на Тереке. Впоследствии об этом событии он напишет в поэтической книге «Давитиани» («Давидово»):
Слово «хлеб» я знал по-русски,
Слышал я его и ране.
Услыхав его, я понял, Что на русской я окраине.
Был казак в селенье этом, Мне ниспосланный судьбою. Как родной отец за сыном, Он ухаживал за мною 1 [15].
В 1729 г. Д.Гурамишвили прибыл в Москву и вскоре стал одним из приближенных царя Вахтанга VI. Он «получает (как князь и дворянин) поместье под Миргородом на Украине с 30 домами крепостных и поступает рядовым в грузинский гусарский полк» [1, с. 113]. В течение двадцати лет Д. Гу-рамишвили участвует в русско-турецкой, русско-шведской, Семилетней войнах, попадает в плен к прусакам, проводит год в Магде-бургской крепости. Освободившись, возвращается на Украину в свое имение и последние 27 лет жизни занимается литературным трудом.
Сборник «Давитиани» был завершен, когда поэту было 82 года. В этом сборнике две поэмы, также стихи в манере грузинских, русских и украинских народных песен. Центральное место занимает историческая поэма «Бедствия Грузии» — своеобразная панорама трагической истории страны в первой половине XVIII в., в которую вплетена история злоключений автора. Поэт обличает внешних и внутренних врагов Грузии, которые и стали причиной ее бедствий:
Злой ингуш, черкес и турок,
Перс, дидоец и лезгин,
Чтоб хоть раз унизить Картли, Выходили из теснин.
Вслед за тем возникла смута, На грузина встал грузин.
От меча родного брата
Пал в сраженье не один [15].
В литературном самовыражении, как и в любом творческом акте, проявляется суть авторского мировидения, в котором, как и в случае с поэмой «Бедствия Грузии», нет противоречий в осмыслении и оценке национальной политики. «Слишком много дел позорных» обнаружил поэт в дорогой ему стране:
И причина этих бедствий —
Только наш раздор один!
Турок стал владыкой Картли,
Кахов вытеснил лезгин [15].
Монолог поэта отразил трагедию современной ему грузинской действительности, времени опустошительных набегов внешних врагов и междоусобиц внутри страны.
Давид Гурамишвили в исповедальной поэме разделял позицию тех царей, которые проводили в своих княжествах политику русской ориентации, и подтверждал это многократно в собственном творчестве. При этом поэт понимал, что «обличителю нередко не прощают обличенья / Но стране забвенье правды не приносит облегченья» [15].
Еще царь-поэт Арчил Багратиони проводил в грузинскую поэзию мысль о необходимости «былевого», реалистического, выражаясь современным языком, отражения событий эпохи, что впоследствии и осуществил Д. Гура-мишвили в поэме «Давитиани» через исторически достоверное и последовательное вплетения в грузинскую событийность русской истории и собственной биографии.
О понимании значения Георгиевского трактата в истории русско-грузинских отношений остались высказывания достойных мужей Грузии. В тот исторический период «литература стала наиболее удобной трибуной для выражения интересов нации» [4, с. 274].
Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона рассказывает о генерале от инфантерии князе Григоле Орбелиани (1804–1880), но умалчивает о нем как о поэте. Большой рос- сийский энциклопедический словарь (2003), напротив, дает сведения только о поэте-романтике. Полная биография Григола Орбе-лиани сегодня воссоздана в целом ряде исследований, подробно освещающих его военную службу от поручика до генерала, аварского хана, наместника царя на Кавказе и даже Наместника Грузии. Под русскими боевыми знаменами он участвовал в русско-персидской войне 1826–1828 гг.
В 1831 г. по приказу генерала Н.П.Пан-кратьева Г Орбелиани сопровождает солдат Кавказского корпуса для переброски в образцовый пехотный полк в Новгороде. Этот пеший переход был запечатлен поэтом в дневнике «Мое путешествие от Тбилиси до Петербурга», отмеченном как литературнохудожественный памятник своего времени. Примечателен в нем диалог генерала Паске-вича и поручика Орбелиани, где звучат слова: «Боже, не приведи русских в такую крайность, чтобы они принуждены были оставить Грузию, которая мгновенно станет жертвой беспорядка, внутреннего раздора и нападения неусыпных врагов» (Цит. по [16, с. 47]).
Прибывший в Россию Г. Орбелиани совершенствует знание русского языка, литературы, переводит на грузинский язык произведения А. Пушкина, В. Жуковского, И. Крылова, думу К. Рылеева «Исповедь Наливайко», которая станет причиной вынужденного отъезда из России и расставания с Грузией на несколько лет.
В Петербурге Г. Орбелиани попадает в общество высокопоставленных военных, отпрысков грузинского царского рода, знатных вельмож. Время пребывания его в северной столице совпало с моментом раскрытия тайного грузинского общества в Тбилиси в 1832 г., целью которого было возвращение Грузии национальной независимости. Прошли аресты в том числе и в Петербурге. У Г. Орбелиани, причисленного к заговорщикам, были найдены рукописи перевода запрещенной в России «Исповеди...» К.Рылеева, дневник «Мое путешествие от Тбилиси до Петербурга», стихотворение «К Ярали». Все эти произведения были сочтены опасными. В заключении следственной комиссии было написано: «При рассмотрении отобранных у вас бумаг, написанных на грузинском языке, некоторые из них по существенному содержанию своему, представляющему явное вольнодумство, стремление к свободе Грузии и вообще мысли и предположения, противные долгу чести и святости верноподданнической присяги, обратили на себя особенное внимание правительства» (Цит. по [21, с. 517]).
Поэму К. Рылеева «Исповедь Наливай-ко», посвященную крупнейшему восстанию казаков против польских феодалов в конце XVI в., Г. Орбелиани перевел очень свободно. Названия польских мест и имена героев он адаптировал к грузинским условиям. Вместо Варшавы — Мцхета, вместо литовцев и поляков — персы и османы. Подобный перевод стихотворения можно с уверенностью приравнять к написанию оригинального произведения на ту же тему. Рылеевская «Исповедь Наливайко» вселяла в русских мятежный дух восстания. Грузинский перевод Г. Орбелиани, в котором душа молодого поэта «тосковала по свободе», в контексте политической ситуации не мог остаться безнаказанным:
Когда кистины, персы и османы,
Как звери лютые, терзают край родной, Когда кровоточат бесчисленные раны, Враждебной нанесенные рукой,
Когда молчит закон и справедливость дремлет,
Когда никто врагу не в силах дать отпор, Когда народ зовет, когда никто не внемлет
Его отчаянью, — о, как я с давних пор Всей силою души мечтаю о возмездье! 1 [5, с. 89].
В наказание поручик Г. Орбелиани недолго находился в Невском пехотном полку в губернии Вильно. С 1837 г. начинается его служба в грузинском гренадерском полку, это самый опасный период жизни поэта, который длился четверть века, вплоть до окончания Кавказской войны.
Судьба уготовила грузинскому поэту-романтику быть в центре исторических событий. За долгие годы Кавказской войны ему приходилось охотиться в горах с Хаджи-
Муратом, вызывать на единоборство знаменитых наибов Шамиля, поэтому годы, проведенные в Дагестане, более характеризуют Г. Ор-белиани как полководца, нежели поэта. «Это летопись больших и малых сражений, разведок боем, погони, похищений, преследований, изнурительных походов, дипломатических переговоров, необходимости смотреть смерти в глаза, делать с опаской каждый шаг — такова в общих чертах картина прожитых им в Дагестане лет» [16, с. 125].
Поручик, полковник, генерал-лейтенант, правитель Аварии, Наместник царя на Кавказе под русскими боевыми знаменами будет служить верой и правдой русскому трону, станет доверенным лицом Николая I, а по окончании службы Александр II наградит его Орденом Св. Андрея — высшим орденом империи.
С 1866 и до 1880 гг. Г. Орбелиани, уйдя в отставку, будет с той же самоотверженностью и энергией принимать участие во всех культурных начинаниях на родине: в редактировании поэмы «Витязь в тигровой шкуре», работе общества по распространению грамотности среди грузин, отстаивании грузинской письменности, литературы, грузинского церковного песнопения и многого другого. Продолжит он и собственное поэтическое творчество.
В этот последний период жизни появятся статьи Г. Орбелиани о России, о ее великом будущем. Он хорошо понимал важность Георгиевского трактата. Мужественный военный прожил наполненную напряженными событиями жизнь и хорошо разбирался в политике, истории Грузии. «В течение веков,— писал он, — [Грузия]… дралась день и ночь противу персов, арабов, монголов, турок, противу Чингизов, Тимур-Лехов, Шах-Аббасов, остановив у подножия Кавказа мусульманские полчища, столь страшные в те времена для России и Европы. Много раз Грузия была выжигаема врагами и, выбившись из сил, передала себя и грузинское царство под защиту могущественной, единоверной России». По его мнению, союз с Россией — это и «водворение мира в любимой Грузии, и освобождение тысяч пленных христиан, и красивейшая в мире Военно-Грузинская дорога, проложенная там, где прежде летали только орлы; и пароходы, и проведение каналов для орошения многих десятин бесплодной земли, и проекты железной дороги, и многое, многое, которое или совершилось, или совершается теперь» (Цит. по [ 16, с. 5]). Четкая позиция поэта, определенная высокой степенью историчности ценностноориентированного взгляда, вошла в историю русско-грузинских контактов и была значима при осмыслении судьбоносных для его Родины событий на протяжении последующих веков.
Творчество «печального» грузинского романтика Николоза Бараташвили (1817– 1845), «поэтического выразителя Грузии», по выражению лично его знавшего М. Лермонтова, действительно проникнуто раздумьями о судьбе Родины, которая только «училась» жить в составе Российской империи. Душевный настрой молодого романтика раскрыт в поэме «Судьба Грузии». Название ее не случайно. Вопрос судьбы был одним из самых мучительных в поэтической философии Н. Бараташвили. А вопрос о судьбе Грузии, о том, что уготовано стране при переходе под покровительство единоверной России, занимал тогда лучшие умы патриотов нации.
В основе поэмы — последняя битва царя Ираклия II с персидским войском, правителем Персии Ага-Мухаммадом, и поражение, пленение 22 тысяч грузинских воинов, которое окончательно изменило историческую судьбу Грузинского царства.
Открывает поэму горячая молитва царя перед битвой, проникнутая предчувствием беды:
Господи, спаси и дай победу!
Свой народ тебе я предаю,
Ты ведь знаешь сам, какие беды Обступили Грузию твою.
Господи, враги неисчислимы.
Помоги нам, боже, в эти дни.
Пронеси свой гнев господень мимо, Грузию спаси и сохрани 1 [5, с. 202].
Собственно, в поэме нет изображения батальных сцен, но через эскизную образность впечатляюще дана предыстория драмы, скорбный реквием погибшим в этой битве мужам Грузии. Н. Бараташвили дает представле- ние о подлинных событиях времени и реальных героях.
Проблематика поэмы заключена в драматическом противопоставлении двух концепций — смирения с судьбой и непримиримости. После проигранной битвы на берегу Арагвы в старой башне царь Ираклий II и его советник Соломон спорят о том, какой путь избрать разоренной стране: просить о покровительстве ближайшего соседа Россию или продолжать сопротивление, испытывая судьбу?
Ираклий II — личность трагическая. Из истории известны его доблестные подвиги полководца, проведшего почти сто боев, но теперь он вынужден покориться судьбе и принять решение, основанное на неумолимых реалиях. В поэме он размышляет:
Для лезгин настал желанный миг.
Только этого и ждут османы.
Грузию средь княжеских интриг Раздерут на части басурманы.
Ну, так кто страною будет править? Где же выход? Подскажи исход!
Вот решенья самые простые:
Русские — прославленный народ,
И великодушен царь России.
С ним давно уже у нас союз.
С ним меня сближает православье.
Кажется, я передать решусь
Власть над Грузией его державе
[5, с. 208].
Советник Соломон — олицетворение иной позиции, его волнует такое намерение правителя:
Кто тебе сказал, что русский двор Счастье даст грузинскому народу?
Что единство веры, если нрав
Так различен в навыках обоих? [5, с. 209].
Потеря национальной независимости и свободы кажется ему самым большим несчастьем. Но позиция царя Ираклия II непреклонна:
Только у России под крылом
Можно будет с персами сквитаться.
Лишь под покровительством у ней Кончатся гоненья и обиды…
Сам повторишь ты когда- нибудь:
«Будущее Грузии — в России» [5, с. 210].
Историческое решение Ираклия II о присоединении к России, несмотря на показанное в поэме противостояние героев, Н. Бараташвили оправдывает, доказывая, что выбор пути примирения с судьбой — это не покорность, а одна из форм борьбы в условиях угрозы существования страны. На протяжении своей истории Грузия переживала вековые оккупации территорий, мудрый царь Ираклий II , памятуя об этом, показывает свою историческую прозорливость.
Спустя несколько лет после написания поэмы «Судьба Грузии», уже в 1842 г., Н. Бараташвили создает стихотворение «Могила царя Ираклия», в котором подтверждает верность решения правителя о присоединении к России:
Каспийское и Черное моря
Уже нам не угроза. Наши братья1,
Былых врагов между собой миря,
Из-за границы к нам плывут в объятья.
Покойся сном, прославленный герой!
Твои предвиденья сбылись сторицей, Мир тени царственной твоей святой, Твоей из слез воздвигнутой гробнице
[5, с. 197].
Достаточно зрелая поэтическая оценка романтиком Н. Бараташвили судьбоносного решения царя в этом стихотворении опирается уже на факты почти шестидесятилетнего существования Грузии «под крылом» России.
Сегодня в Грузии предано забвению имя царя Ираклия II, спасителя грузинского христианства и отечества, собирателя грузинских земель и объединителя нации, обратившегося к Екатерине II за покровительством.
В грузинской истории и культуре ХIХ в. творческое наследие Ильи Чавчавадзе (1837– 1907) занимает исключительное место. Учитывая разнообразные сферы его деятельности, такие как поэзия и беллетристика, драматургия и театр, литературная критика и история, экономика и юриспруденция, руководство различными культурно-просветительскими учреждениями, неудивительно, что он стал действительно центральной фигурой в литературной и общественной жизни своего времени. Будучи в курсе всех значительных событий как русской, так и западноевропейской общественной жизни, И. Чавчавадзе являлся подлинным выразителем идеологии грузинского общества. Мечтавший о национальной независимости и возвеличивании своей страны, он рано осознал историческую реальность и роль России в этой реальности.
Окончив гимназию, И. Чавчавадзе в числе многие представителей княжеских семей продолжил образование в Петербургском университете на юридическом факультете. Решающую роль в формировании его мировоззрения сыграли русские писатели-демократы — Н.Лесков, Н.Помяловский, Н.Некрасов. Впоследствии в «Записках проезжего. От Владикавказа до Тифлиса» он назовет четыре года, проведенные в России, «фундаментом жизни, первоисточником жизни, волоском, который судьба, точно мост, перекинула между светом и тьмою. Но не для всякого! Только для тех, кто поехал в Россию, чтобы образовать свой ум, привести в движение мозг и сердце, дать им толчок» [26, с. 181-182]. И.Чавчавадзе отмечал, что Россия сформировала целое поколение образованных грузин, в числе которых были и Акакий Церетели, Георгий Церетели, Кирилл Лордкипанидзе — лучшие представители национальной литературы, получившие образование в России и приобщившиеся к передовым идеям времени, которых называли «терг-далеули», то есть «испившие воды Терека».
И.Чавчавадзе был свидетелем реальных преобразований в экономике и культуре Грузии после вхождения ее в состав Российской империи: продолжилось строительство Военно-грузинской дороги Владикавказ-Тби-лиси, начатой русскими войсками после заключения Георгиевского трактата, в 1845 г. в Тбилиси открыт Русский профессиональный драматический театр (с 1932 г. театр им. А.С.Грибоедова), в 1851 г.— Грузинский театр оперы и балета и многое другое.
После возвращения из России поэт увидит, по его выражению, «успокоившуюся нацию», и начнется его борьба за идейное направление литературы, борьба, которая войдет в историю грузинской культуры как конфликт «отцов и детей», романтиков и реалистов. Но «как и романтики, И.Чавча-вадзе мечтал о возрождении Грузии, предсказывал спасителя, который придет и разбудит отчизну ото сна» [4, с. 283]. В «Элегии» он так определяет национальные задачи поэзии:
Какая тишь! Ни шелеста, ни зова… Безмолвно спит моя отчизна-мать. Лишь слабый стон средь сумрака ночного Прорвется вдруг, и стихнет все опять… Стою один… И тень от горных кряжей Лежит внизу, печальна и темна.
О господи! Все сон да сон… Когда же, Когда же мы воспрянем ото сна? 1
[26, с. 46].
Трудно обойти вниманием и образец самокритической мысли в иронично-печальном стихотворении 1871 г. «Как поступали, или История Грузии XIX века», формально представляющем собой диалог поколений. Многочисленны адресованные старику вопросы молодого грузина о судьбе Грузии после ухода Ираклия II: «Как тогда мы поступали?». Ответы на них характерны, показывают национальные социально-политические настроения того времени: «Разорялись понемногу, / На куски друг друга рвали», «Мы за помощью в Россию / Со слезою побежали», «Мы в испуге друг на друга / Клеветали, клеветали», «Мы именья друг у друга / Оттягали, оттягали», «Как и ты, без дела шлялись / Да язык, как ты, чесали» [26, с. 79–83].
Стихотворение с упреком грузин в бездействии, включенное во все сборники избранных произведений поэта, обходят своим вниманием современные грузинские историки и культурологи.
В 1901 г. к 100-летию со дня присоединения Грузии к Российской империи была опубликована статья И. Чавчавадзе «Сто лет назад» с четко выраженной позицией: «С этого достопамятного дня Грузия обрела мир… Успокоилась страна, не знавшая покоя и отдыха, избавилась от разорения и разгрома, от бесконечных войн и нашествий. Замолк лязг сабель и мечей, занесенных вражеской рукой над нами, над нашими женами и детьми, погасло пламя, которое жгло и испепеляло дома наших отцов и дедов, наши жилища… Была подведена черта, положено начало миротворящей жизни. С этого дня никто уже не осмеливался переступить эту черту с огнем и мечом в руках» (Цит. по [3, с. 13–14]).
Точка зрения поэта будет поддержана его единомышленниками, художниками слова, в числе которых на протяжении творческого пути — Акакий Церетели. Самая злободневная для сегодняшней политической ситуации цитата из его стихотворения 1895 г. «Одиннадцатое сентября»:
Грузинский и русский народы, мы братья! А кто это братство предаст и забудет, Достоин позора навек и проклятья 1
[25, с. 132].
Эти слова будут выбиты на монументе в память о заключении Георгиевского трактата 1783 г. «Дружба навеки», созданном З.Це-ретели и А. Вознесенским и воздвигнутом в 1983 г. в Москве. На нем также высечены слова на русском и грузинском языках: «Дабы единственные народы, столь тесными узами соединенные, пребывали между собой в дружестве и совершенном согласии... сей договор остается на вечные времена». Монумент был парным, второй стоял в Тбилиси, у выезда на Военно-Грузинскую дорогу, ведущую в Россию. Этот памятник в 1991 г. был взорван по распоряжению З. Гамсахурдиа. Как точны и своевременны слова Ильи Чавчавадзе о том, что падение и распад общества начинаются тогда, когда народ, к своему несчастью, забывает свою историю.
Творческий путь великих деятелей всегда определен конкретными условиями эпохи. Эпоха как бы сама выдвигает лидеров, способных оценить прошлое и предвосхитить грядущее. Именно такими были Д. Гурамишвили, Г. Орбелиани, Н.Бараташвили, И.Чавчавад-зе. Георгиевский трактат и последствия его подписания для Грузии были положительно оценены классиками грузинской литературы, выразителями грузинского национального духа. Их оценка исторических событий, связанных с межнациональными отношениями двух государств, представляется достаточно объективной.
Георгиевский трактат, принесший мир на разоряемые соседскими государствами земли, экономические и культурные блага для страны, кране важен для восстановления добрососедских, партнерских отношений между Россией и Грузией. Также важно читать и понимать выдающихся представителей грузинской литературы, видеть причинноследственную связь явлений, отделять главное от второстепенного и откровенно искаженного. Литературное наследие великих грузинских политических и культурных деятелей помогает разобраться в сложных реалиях современности.
Larisa P. GOLIKOVA
National History in the Mirror of Literature:
On the 240th Anniversary of the Treaty of Georgievsk
Список литературы Национальная история в зеркале литературы: к 240-летию заключения Георгиевского трактата
- Абуашвили А. Б. Давид Гурамишвили. Без родины до кончины // Литературное зарубежье. М.: ИМЛИ РАН «Наследие», 2000. Вып. I: Проблема национальной идентичности. С. 111–120.
- Авалишвили З. Д. Присоединение Грузии к России. М.: Юрайт, 2019.
- Барамидзе А. Предисловие // Грузинская проза в 3 т. М.: Художественная литература, 1955. Т. 1. С. 3–18.
- Голикова Л. П. Из истории литературы Грузии и грузинско-русских литературных отношений // Россия и Кавказ: межлитературное общение в исторической динамике. Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2004. C. 256–337.
- Грузинские романтики: сборник. М.: Худож. лит., 1989.
- Дзидзоев В. Территориальные притязания на Абхазию и Южную Осетию в свете Георгиевского трактата 1783 года // Северо-Кавказский юридический вестник. 2014. № 4. С. 38–44.
- Договор о признании царем Карталинским и Кахетинским Ираклием II покровительства и верховной власти России (Георгиевский трактат) 24 июля 1783 г. // Под стягом России: сборник архивных документов. М.: Русская книга, 1992. С. 238–245.
- Дудайти А. К. Место Грузии в «восточной» политике России периода нового времени // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2013. № 22 (165). С. 79–86.
- Захаров В. Георгиевский трактат: как это было [Электронный ресурс] // Большой Кавказ. 2010. 28 июля. URL: http://www.bigcaucasus.com/events/actual/28-07-2010/39347-1 (дата обращения: 05.03.2023).
- Кебадзе М. Илья Чавчавадзе и его роль в истории страны // Столица и провинции: взаимоотношения центра и регионов в истории России: материалы всерос. науч. конф. с междунар. участием. Вып. 9. СПб.: Ленинград. гос. ун-т им. А. С. Пушкина, 2018. С. 254–258.
- Клычников Ю. Ю. «Нет ни эллина, ни иудея…»: религиозная идентичность в судьбе невольников на Северном Кавказе на примере судьбы Давида Георгиевича Гурамишвили // Северный Кавказ: Проблемы и перспективы развития этноконфессиональных отношений: материалы III Всерос. науч. конф. Славянск-на-Кубани: Изд-во Филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянск-на-Кубани, 2017. С. 64–67.
- Ктиторова О. В., Веденецкая Е. Ю. Терские казаки в творчестве грузинского поэта Давида Гурамишвили // История и обществознание. 2019. № 16. С. 18–20.
- Кутивадзе Н. Д. Некоторые аспекты соприкосновения лирики Михаила Лермонтова и Николоза Бараташвили // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры: материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ. В 15 т. СПб.: МАПРЯЛ, 2015. Т. 14. С. 348–354.
- Лапин В. В. Царевич Александр Ираклиевич Багратион и присоединение Грузии к России // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. 2019. № 12–2. С. 29–33.
- Литература: Давид Гурамишвили [Электронный ресурс] // Искусство Грузии: сайт. URL: https://gruziya.jimdofree.com (дата обращения: 05.03.2023).
- Маградзе Э. Григол Орбелиани. М.: Советский писатель, 1980.
- Марьян В. Лобиотомия // Литературная газета. 2009. № 37 (624). 16–22 сент. С. 3.
- Мгалоблишвили Л. И. Из истории грузинской культуры (с древнейших времен до второй половины XVIII столетия) // История науки и техники. 2012. № 11. С. 45–54.
- Муханов В. М. К вопросу о ключевых темах совместной российско-грузинской истории и их современных интерпретациях // Международная аналитика. 2017. № 3 (21). С. 56–62.
- Обращение Ираклия II к Екатерине II с просьбой о принятии его страны под покровительство России // Центральный государственный военно-исторический архив СССР. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 20. Л. 36–40 об.
- Орбелиани Г. Полн. собр. соч. Тбилиси: Мерани, 1959.
- Панин С. Б. Россия и Грузия: различия в оценках современной истории // Известия Иркутского государственного университета. Сер. Политология. Религиоведение. 2012. № 1 (8). C. 43–51.
- Письмо от 13 октября 1783 г. Г. А. Потемкина Екатерине II // Центральный государственный военно-исторический архив СССР. Ф. 52. Оп. 2. Д. 29. Л. 33–33 об.
- Султанов К. Национальное самосознание и ценностные ориентации литературы. М.: ИМЛИ РАН «Наследие», 2001.
- Церетели А. Лирика. М.: Художественная литература, 1965.
- Чавчавадзе И. Избранное / пер. Е. Гогоберидзе. Тбилиси: Заря Востока, 1952.